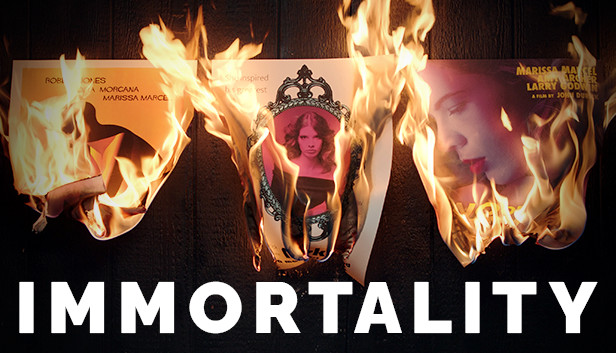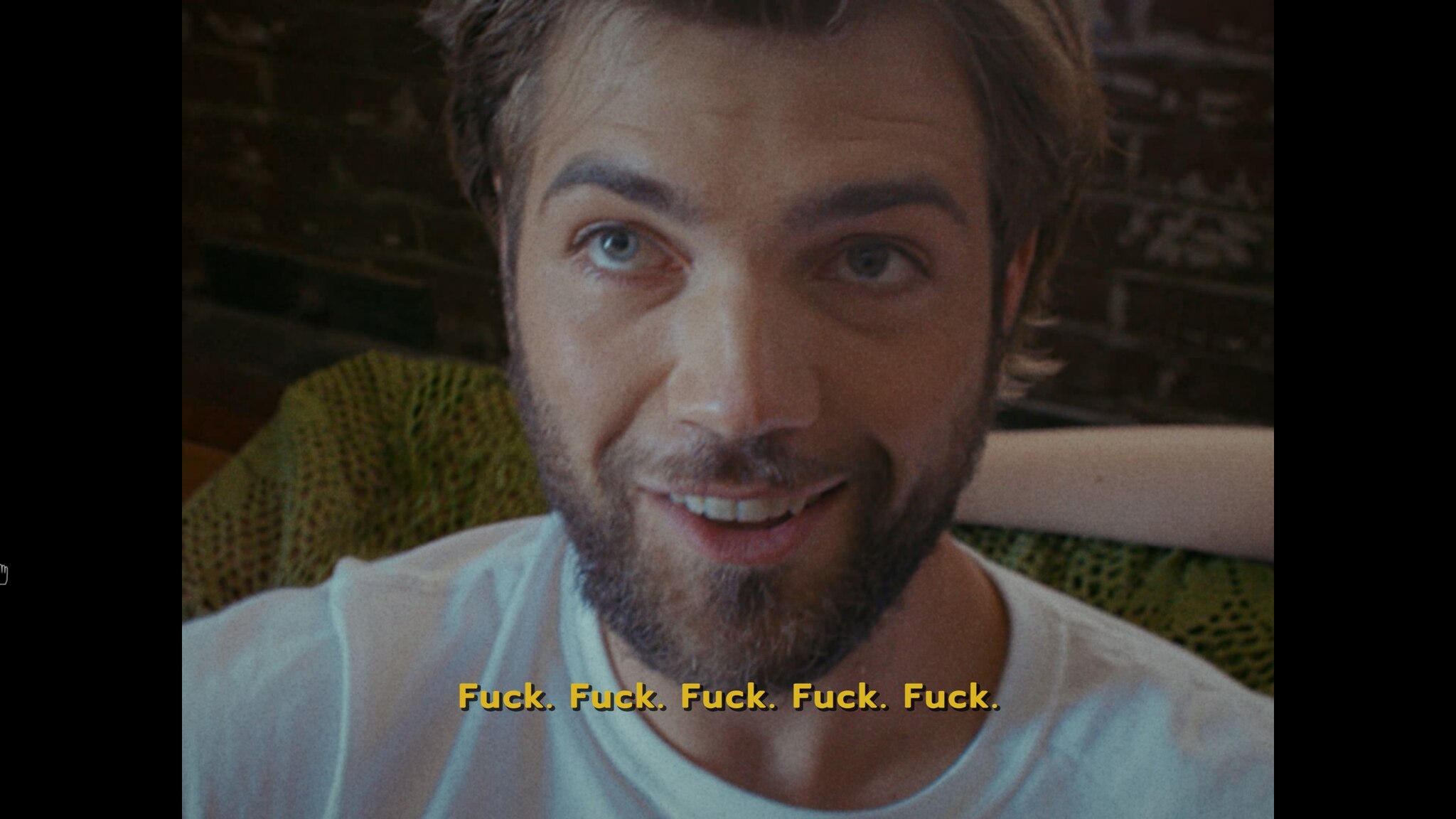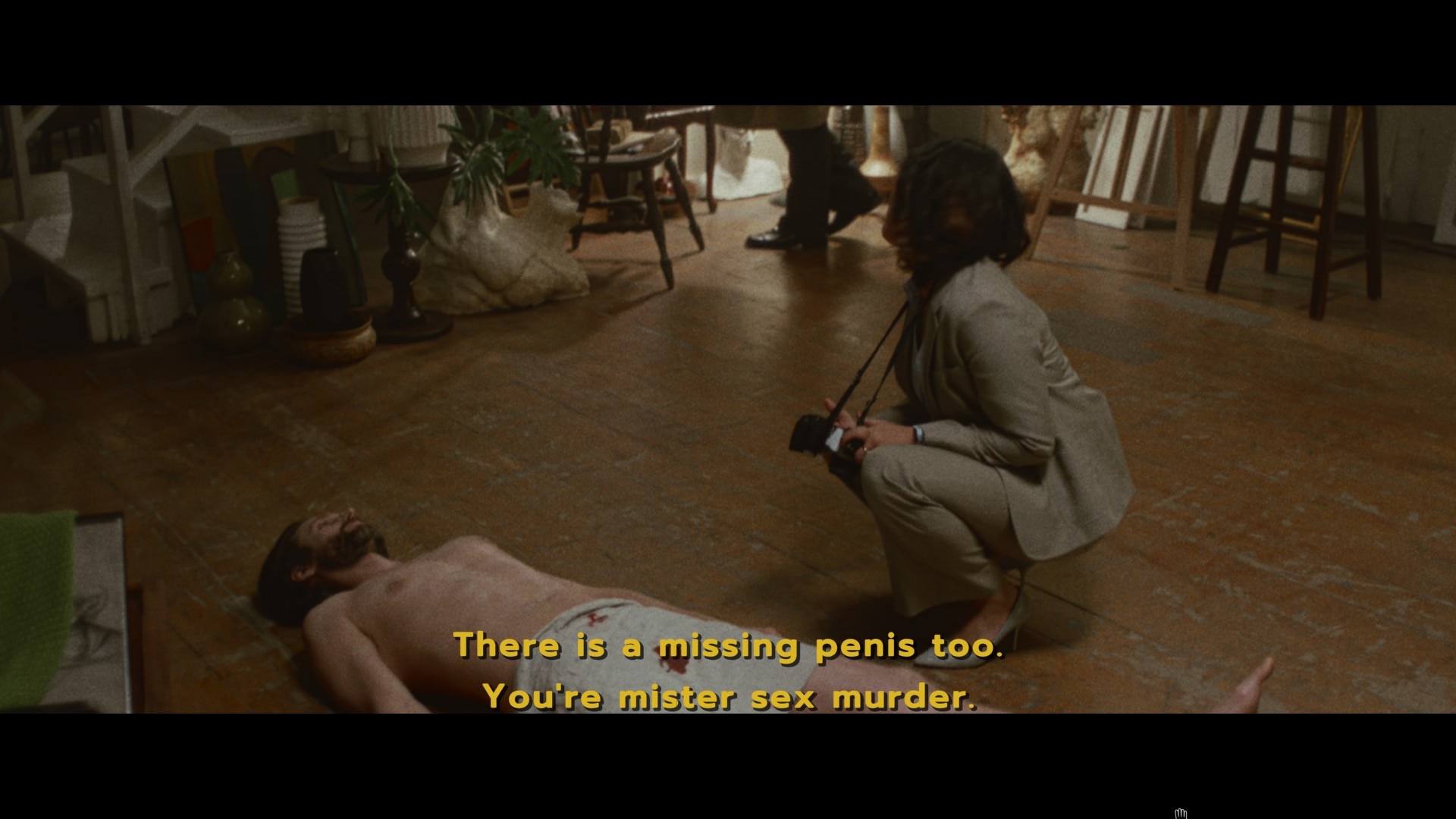Искусство требует жертв
Повесть
Часть 1
Нервный срыв застиг Анюту внезапно, как опытный налётчик. Она было вышла из дома по конкретному делу, а вместо этого оказалась у реки с четвертинкой водки «Гжелка» и краснобоким яблоком в сумке. Возле перевернутой лодки пила из горлышка горькую дрянь и заедала немытым яблоком.
Перчатки потеряла ещё раньше, когда неожиданно для себя, повинуясь напавшей тоске, изменила маршрут. Вместо того, чтобы идти к автобусной остановке, вошла в маленький магазинчик, напоминавший сельповский, а ныне гордо именуемый «продмаркетом».
Ноги Анюты, привалившейся пятой точкой к лодке, постепенно проваливались все глубже в мокрый снег, а руки покраснели от холода. В ботинки уже проникла талая вода, но Анюта не трогалась с места, с отвращением делая новые глотки из обжигающей холодом бутылки.
Она понимала, что ведёт себя непотребно, но никакой другой способ одолеть своё состояние не приходил в голову. Просить помощи у Бога Анюта не умела, хотя верила — Господь существует. Она не считала свою персону достойной божественного внимания. Поэтому с любыми трудностями в жизни пыталась управляться сама. В церковь не ходила, хотя лоб изредка крестила, как научила в детстве бабушка.
— Бабуленька, Анисья Андрияновна, помоги мне, — вдруг тоненько проплакала, как пропела Анюта.
Где твоя бабуленька, Анюта?.. Лежит Анисья Андрияновна лет тридцать как под слоем земли высотой в полтора твоих роста, а душа её далеко, далеко и уже отвыкла любить тебя…
Из ближнего дома вышла молодая тетка в телогрейке на босу ногу, презрительно оглядела Анюту:
— Шляются вокруг лодок всякие бляди, покою нет ни ночью, ни днем! — Сплюнула и пошла назад, сверкая голыми икрами.
Анюта не разобрала никаких слов, кроме одного. Отбросила недопитую четвертинку в снег и захотела выбраться на набережную. Но не тут-то было. Ноги вязли, Анюта то и дело плюхалась в снег, не в силах сохранять равновесие. Она перепугалась, оттого что не может выбраться и перестать рыдать не может. Если бы я не оказалась здесь, а пошла бы сразу домой, — не обозвали бы, корила себя она.
На ту, кем её обозвали, Анюта совсем не походила. Была она аккуратной дамочкой, одетой ладно и скромно, на носу имела очки, а на голове благородной формы маленькую шляпку. Круглая старинная брошь, доставшаяся от бабушки, украшала ее блузки классического покроя, скалывая их под самым воротничком — всегда маленьким и полукруглым, на высокой стоечке. В свои тридцать с небольшим Анюта скорее напоминала гимназистку прошлого века, чем особу лёгкого поведения.
Преградой к дому, почти неодолимой, казалась Анюте кривая улочка, возвышавшаяся перед ней горбом. Но все же потихоньку шла и шла, останавливаясь, утирая слёзы, и с детским страхом думала, что одолеет горб, а дом её на привычном месте не окажется, и придётся ей одиноко и горько бродить вот так всю оставшуюся жизнь. Нисколько не находила Анюта это опасение смешным. Ведь случилось же с ней, человеком дисциплинированным и непьющим нечто несусветное, отчего же не может приключиться подобное и с домом, и с городом, и со всем миром. Вот-вот она обнаружит, что дальше идти некуда, убежища искать негде, утешения и сочувствия — не у кого… На улочке горбатой ни души. Может, весь род людской вымер, — иначе отчего бы такая тоска? Остались на свете только Анюта да злая молодуха с набережной, обозвавшая ее нехорошим словом. Впрочем, молодуха тут не при чем… Анюта сама виновата, что оказалась возле её добра в час, когда должна была подойти для подписания договора к бизнесмену Грибову, личной встречи с которым добивалась месяц. Правда, неизвестно, подписал бы Грибов сегодня договор или нет. Первая встреча два дня назад приняла оборот неожиданный, для Анюты просто ошеломительный.
Пока бойко выдавала выверенные, заранее заготовленные речевые блоки, должные убедить Грибова, что участие его фирмы в издательском проекте социально-деловой элиты региона и выгодно, и престижно, он смотрел на неё оценивающе, как на приглянувшуюся игрушку, купить — не купить. И, едва Анюта закончила речь, сведя её к тому, что осталось де им только решить, сколько страниц в будущем издании закажет и оплатит Грибов — три, или пять, а может, больше (хоть бы две-то заказал!), Грибов буднично произнес:
— Пойдешь со мной в баню, так хоть на пятнадцать подпишусь.
Анюта механически отметила про себя, что с пятнадцати страниц она, как менеджер, получит пятнадцать тысяч рублей — фантастика! — а если и текст сама напишет, то еще по сто рублей со страницы, итого… И тут до её сознания дошла первая часть грибовской фразы. Она открыла рот и поперхнулась воздухом, закашлялась, низко склонив голову, а когда подняла взгляд на Грибова, увидела — он забавляется её реакцией: в глазах чёртиками пляшет откровенное веселье. Это уж было слишком. Анюта взяла себя в руки и скучным голосом произнесла:
— Этого условия в договоре нет.
И вдруг, совершенно не нарочно, коротко зевнула, даже не успев прикрыть рот ладошкой.
Грибов расхохотался и положил конец сцене:
— Ладно, приходи денька через два в это же время, я решу, буду подписываться, или нет. Мне надо с кое с кем посоветоваться… Ну и сама тоже подумай и решай. У меня, знаешь, какой бассейн при сауне?.. Будем вдвоём.
Нет, Анюта никогда не согласится на физическую близость с человеком из-за денег — это окончательно и бесповоротно. Но она почуяла, от Грибова исходит запах не только дорогого одеколона, пахнет от него победителем, мужчиной, создавшим себя самостоятельно. И внутренний соблазн, который она зафиксировала, сказал о том, что Анюта до сих пор плохо знала себя.
Теперь она рыдала и из-за этого тоже. Горючая смесь унижения и возмущения, в которое ввергло ее предложение Грибова, была одной из причин ее нынешнего состояния. Не главной, не главной, понимала Анюта. Просто последней каплей, переполнившей ее способность преодолевать жизненные ситуации.
В дверь своего дома Анюта не вошла, а ввалилась, роняя на ходу сумку, шляпу, пальтишко, шарф на пол. Добралась до постели и укрылась с головой одеялом.
Кроме непонятной скорби и тоски она чувствовала вину человека, уличённого на суде в страшном каком-то преступлении. Анюта понимала — реальные ёе грехи и слабости не могли смять столь беспощадно. Следовательно, нужно просто догадаться, в чем она виновата на самом деле, и тогда прояснится, откуда весь этот ужас, мысли о том, что вскоре произойдёт нечто, отчего никому, в том числе Анюте, не будет спасения.
Ах, Анюта! Напрочь забыла ты стихотворение, однажды прочитанное и непонятое тобой. Лишь авторитет автора удержал тебя от восклицания: «Бред какой-то». А помни ты его, поняла бы — настроения Пушкинского «Странника» овладели тобой, Анюта.
Ты будешь плакать до темноты, а потом уснешь и не услышишь, как придет из школы сын, а с работы муж, с которым вы уже несколько лет спите в разных комнатах и мало разговариваете. Вот и сегодня, убрав с дороги твои вещи, он удивится, но, поправив твое одеяло, молча уйдет к себе.
А ты будешь крепко спать, по-детски всхлипывая до утра. Звёзды, Анюта, будут мерцать над крышей твоего дома, над горбатой улочкой, над лодкой, возле которой ты промочила ноги, над великой русской рекой, медленно задыхающейся от стоков, над всем захламленным городишком с его трущобами и супермаркетами, сиротскими домами, банками и казино, над тюрьмой, больницами, ресторанами, родильными домами…
Звезды, Анюта, будут грустить о том, что приключилось с тобой. Великий поэт описал, но не объяснил, отчего бывает такое. Только знал, что бывает. А о том, что будет с тобой после этого, умолчал. Потому что и гениям Господь не открывает всего.
Так и знала — именно это она и скажет:
— Что-то рано вы, Нина Сергеевна, нынче садом занялись.
Соседка с огромным животом шествует мимо со своим выводком, — каждый год к девчоночьей ораве прибавляется ещё одна.
Я и без неё знаю, что сад во мне пока не нуждается. Только возле дома земля подсохла, около заборов лежит нерастаявший снег, посередине — болото. Окапываю вишню возле самых окон дома. Сад не нуждается во мне. Это я нуждаюсь в нём, в нехитрой работе с лопатой и граблями – как в терапии. Больше нечем уравновесить нестихающий ад в душе. Спиртное уже не примиряет с действительностью, я перескочила ту черту, когда оно помогало жить. Теперь что со спиртным, что без спиртного — одинаково плохо.
Когда-то моя бабушка Анисья Андрияновна говорила: работа от любой кручины избавляет, когда тебе плохо — работай…
Ох, как хочется сегодня быть внучкой, дочерью! Увы… Молодость позади, а нормальное ощущение жизни давно сменилось мучительным желанием не быть, не жить, не существовать. Однако оставить без себя на этом свете младшего ребенка невозможно. «Дети наши заложники в руках несчастья», Бальзак определил этой фразой мое положение вполне.
Казалось бы, время удачи: без долгих томительных ожиданий, даже раньше, чем я того пожелала бы сама, мне издали книгу рассказов. Должна бы радоваться. Мои издатели верят в меня больше, чем я. Говорят, у меня два пути в литературе: в традициях русской классической или коммерческой, что с тем и другим, я, без сомнения, справлюсь. Вопрос в том, что выберу. (Между — выберу, если получится). А что писала, пишу и писать буду — никто в этом не сомневается. Я слышу о моей смелости, о не вполне женском складе ума и характера, о мужестве писать с тою силою откровения, с которой начинается, да и кончается литература.
Воздержусь от комментариев. Меня-то преследует ощущение непоправимого шага в связи с выходом книги. Испытываю массу общих и частных неловкостей и чувствую совершенно немужественное желание спрятаться куда-нибудь, забиться в щель, уехать, наконец. С рецензентами без возражений соглашаюсь только в одном: да, смелость быть искренней необходима, и она имеет место быть. Теоретически этические неловкости могу разрешить легко. Да, в отдельных рассказах можно угадать прототипы — здесь и сейчас, а вот в другом городе или через сто лет — уже нет, зато правда жизни, ее вкус, запах и цвет сохранятся в тексте навсегда. Но пусть «художником руководит не инстинкт самосохранения, а инстинкт сохранения бытия», — если ты пренебрегаешь инстинктом самосохранения, начинается разрушение — такая правда стоит за красивым и точным афоризмом. Может, это та жертва, которую потребовало от меня искусство?.. Может, просто я-женщина оказалась неадекватной себе-писательнице? Писательница решилась, а женщина плачет и терзается, она не готова к людскому суду. Она знает, что этой книжкой экзамен на тему «все как у людей» в этом городе не сдала. И вот она берет ручку и пишет: «Нервный срыв застиг Анюту внезапно, как опытный налетчик».
Ну и зачем я придумала Анюту? И неужели думала, будет интересно прятаться за беспомощным персонажем? Настроения Пушкинского «Странника», особенно пятой его части, овладели мною, а не Анютой, и грузить молодую женщину непосильной ношей для литературы, может, и не ново, но правда и неправда не должны сходиться на одной черте, как нижнее и верхнее давление крови. С Анютой, по всей видимости, всё обойдется более-менее благополучно. Выревелась и уснула, а утром встанет, повздыхает и пойдет жарить яичницу. Может, сходит в больницу, возьмет бюллетень, а потом выйдет на работу, как ни в чём не бывало, принимая ещё какое-то время транквилизаторы и витамины.
Фабула треснула в том месте, где возник образ Пушкинского Странника. Анюта молода, слой несущей ее жизни не может соприкасаться с его трагически-прекрасным сумасшествием, с пророческим безумием, с его тяжёлой скорбью.
Моей героине для нервного срыва вполне достаточно крохотной пайки женского счастья, выпавшей на её долю, того, что она безответно влюблена в своего художника (я же заранее знаю о ней почти всё), так влюблена, что плохо себя контролирует. Для неадекватного поведения ей достаточно столкновения с человеком, умело считающим прибыль в процессе собственного распада, с новыми экономическими условиями — этим царством уголовников. Рассказ о том, как любовь, быт, семья и среднеарифметический скот навроде Грибова доводят до депрессии и нервного срыва, получился бы, в итоге, живым и достоверным. А читатель чувствовал бы смутное удовлетворение оттого, что все это происходит не с ним, а с ним произойти не может, — всё это выдумки, литература…
Часть 2
Два дня назад Анюта мчалась из Белоречья, от Грибова, до мастерской своего художника пешком. Она была достаточно неопытна, чтобы знать — защищаться от одного мужчины другим — практика нерезультативная. К тому же Анюта слегка заблуждалась, полагая, что между ней и художником начинается нечто, волнующее одинаково обоих. Художник, конечно, давно зафиксировал её в поле своего мужского притяжения, но к развитию сюжета не стремился. Он уже в том возрасте и положении, когда полезность связи доминирует над приятностью. А любовница-юрист, любовница-чиновник, любовница-владелица турагенства, любовница-журналист вместе отнимают столько времени и сил, сколько одна среднестатистическая любовница, не обремененная никакими делами, кроме связи с возлюбленным. Эти же дамы требуют от художника поклонения и внимания в свободное от работы и других связей время. Так они удовлетворяют свою потребность в причастности к искусству, а он без особых хлопот решает возникающие в практической жизни проблемы.
Анюта же с её легко прочитываемым обожанием во взгляде будила в нем мужчину, а мужчина просыпаться не хотел. Более того, она будила в художнике Художника, но первый давно обходился конъюктурой, паразитируя на славе второго, добытой в вынужденном родстве с беззвестностью и нищетой. Его свободомыслие было выражено и исчерпано, теперь он мог спокойно почивать на трофеях прошлого. Он и почивал. Послеобеденный сон вошел в привычку, поскольку отвычки к раннему подъему приобрести не удалось. Зато редко шёл спать раньше двух-трех ночи, причиной чего были не творческие муки и радости, а бесконечные тусовки в его мастерской, больше похожей на салон светского человека.
Анюта волновала его в той степени, в какой бесполезная точёная статуэтка может волновать не лишенного чувства прекрасного мужчину. Как все художники, он был неравнодушен к деталям, его умиляли старомодные блузки не вызывающих цветов, её юбочки в складку, всё же не столь длинные, чтобы не задуматься над тем, как продолжается возникающая из крошечного башмачка изящная линия пленительной ножки. Но если бы эта молоденькая женщина ограничилась своей внешней привлекательностью и ловила кайф, испытывая пределы её власти, художник, пожалуй, позволил бы себе роскошь иметь её время от времени в своей спальне, несмотря на перегруженность сексуальными обязанностями в отношении любовниц и жены. Да, он был женат, но как раз жена хлопот доставляла меньше, чем любовницы. На тусовках она оказывала неоценимую помощь в приготовлении бутербродов и наполнении рюмок. Безропотная, тихая и молчаливая, она была прозвана тусовщиками рабыней Изаурой. Анюте всегда казалось, будто смотрит на неё сквозь матовое стекло — личность рабыни имела смутные очертания.
Такая стертость была, отчасти, результатом брака с художником, врожденным лидером. Вопрос о том, кто возле кого реализуется как личность, в принципе не стоял, когда они поженились. Разбирая скарб, который каждый привнес в совместное бытие, обнаружили, что книги составляют содержимое двух чемоданов.
— Это, — художник показал на ровные, любовно расставленные столбики её книг, — мы отнесем к букинисту.
Сказал так безапелляционно, что возразить она не смогла, хотя это были её любимые книги. Но и мужчина был любимым. Тот, двадцатипятилетней давности выбор между книгами и покорностью мужчине просматривался в ней и ныне. А можно ли было не выбирать, сохранить и то, и другое — об этом она не умела думать.
Ох, не вовремя Анюта влетела к художнику! Он как раз собирался заснуть, чтобы вечером быть в форме. Анюта и её непонятная взволнованность были ему об сей час явно ни к чему. Эксцентричная, однако, особа, подумал он, глядя, как рука Анюты с чашкой кофе подрагивает.
— Случилось что-то, детка? — спросил он только чтобы сказать что-нибудь.
Анюта, конечно же, не могла рассказать о Грибове и его гнусном предложении. Случилось, случилось, — билось в её мозгу. Случилось то, что не могу сейчас без тебя, без твоего чудного голоса, без твоих глаз, и, может быть, без твоих объятий. Только рядом с тобой я могу успокоиться, почувствовать себя защищённой от всех грибовых-мухоморовых на свете!
— Да нет, ничего особенного, — ответила она. — Разве что написала новые стихи. Вчера.
Вчера шел первый в этом году дождь. Анюта поздно возвращалась домой и думала о художнике. Ей неодолимо хотелось если не увидеть его, то хотя бы пройти мимо его жилища. Брызги дождя, отражая свет фонаря, усиливали его, падали на небольшой особнячок освещённой сверкающей полусферой, а выше — непроглядная темень ночного неба…
И птицы возле дома твоего,
и солнечные зайчики летают…
И свет стоит, как шар, и тьма с него
стекает…
Птицы и зайчики проникли в стихи из другого, утреннего времени, зато все остальное было здесь и сейчас — в самом сердце Анюты:
В реальности невысказанных слов
и в крошеве дождей колюче-звездных,
прошу: уйди, минуй меня, любовь!..
Но поздно…
В тяжелой скорби этих легких дней
почти пересекаются маршруты.
Между тобою и душой моей —
минута…
Ей на самом деле вчера казалось, что не хватает какого-то пустяка, стечения обстоятельств, каких-то слов, произнести которые она всё не осмеливалась, и наступит счастье…
Счастье или горе, Анюта, счастье или горе?…
Почуяв такую кардинальную неоднозначность, она решила не читать пока стихов.
— Лучше я расскажу сон. Мне приснилась Ваша новая работа.
Художник нахмурился. У него не было новых работ. Уже очень давно не было новых работ. Заказы выполняли два менее удачливых собрата, а он лишь слегка прикладывал руку да ставил в углу свои инициалы — и работа модного художника попадала в руки благодарного заказчика.
— Мне снилось, я живу в совершенно пустой комнате. Только на стенах две картины. Я ещё не знаю, чьи, не знаю, что за комната, где она, может, на том свете?.. Подошла ближе и увидела, что первая — «Зимний пейзаж» Питера Брейгеля — это моя любимая, там, где она висит, я чувствую себя более чем дома. Это лучшая на свете картина, возле неё хочется жить, но не страшно и умереть. Я обрадовалась, и подумала: а вторая? Чья вторая? Уже поняла, что в этой комнате могут быть две только равновеликие картины… И тут услышала голос, который сказал: Это работа художника… и назвал Ваше имя…
— Но я же не пишу, ты же знаешь, я не пишу.
— Я так и сказала: но он же не пишет! А мне ответили: художник пишет, даже если не берёт в руки кисть. Он пишет картину внутренне… Я поняла, это пророческий сон. Вы ещё напишете, обязательно — самую лучшую на свете картину!
Художник какое-то время молчал, а потом сказал:
— Спасибо тебе. Но знаешь, Анюта, пойдем-ка, я провожу тебя до дома. Сегодня у меня гости… Знала бы ты, как мне бабы надоели…
Странно, я не могу точно сказать, обиделась ли Анюта на двусмысленную фразу. Да и заметила ли, что она двусмысленна? «Знала бы ты, как мне бабы надоели» — что это, жест доверия, или хамство, замаскированное со змеиной тонкостью?
С тех пор, как Анюта продолжила существовать вопреки тому, что я не вместилась в её персону и перечеркнула неинтересный мне самой персонаж, она продолжила существование, а я понимаю её не вполне. Но хорошо, что она есть. Ведь больше у меня никого нет. Одиночество грозит превзойти мои жизненные силы. Но если Анюта больше не появится, придётся обойтись без неё. Хотя с ней проще — когда она здесь, я живу её жизнью, забывая, хотя бы на время, свою. Я думаю о ней и без неё, но лишь гадательно: что она делает? Как проходят её дни после нервного срыва? Когда она, сама того не ведая, оживет для меня и заставит мои пальцы, едва успевающие фиксировать её состояния и события, бегать по клавиатуре компьютера?.. Мне нравятся стихи, которые она сочинила. Когда-то я тоже писала стихи, но — года к суровой прозе…
Да, проза сурова. Нужен очень суровый толчок, чтобы я пошла к Мастеру. Я пошла, нуждаясь в его мудрости. Потому что его мудрость всегда имеет половой окрас. Когда благородная, когда жлобская, но всегда — мужская. Я опять нуждалась в мудрости не-терпения, действия. Точнее, я нуждалась в заострении собственного вектора.
Он сказал: художник имеет право писать портреты.
А то я не знала!
Показал две свои работы. Это были не гобелены, — пастель. Одна голубовато-сиреневая, — трава в инее. Другая — ветка лиственницы на фоне чёрного неба. Луна освещает её не изнутри работы. Луна, очевидно, светит отсюда, из нашего мира. Черное небо, зеленая ветка, белый свет. Глаз не отвести. Я ахнула: как красиво! А он сказал: вот, а меня тоже, как тебя, грызет свой червь, — не слишком ли это красиво? Может, это уже на грани кича?..
— Если тебе всё это не помогает, делай как я, — посоветовал он напоследок.
— Как?
— Я говорю себе: а всё равно я лучше всех, и пошли бы все…
Ничего не скажешь, дельный совет.
— А ты правду писала? — спросил он.
— Самую честную. Только про тебя немножко привирала. Ты ни в кого не превращался.
— Это в каком рассказе?
— «Превращение Мастера». Ты становишься молодым парнем, и мы едем с тобой в машине по ночному городу, а потом занимаемся любовью, тоже в машине — чистой воды фантастика. Это всё было не с тобой.
— Художник имеет право творить мир по своему усмотрению. Ты на всё имеешь право, когда пишешь. Если будешь оглядываться на окружающих, ничего путного не получится.
А то я не знала!
Анюта поняла, что ошиблась, заговорив с сыном об этом. Ничего не надо было говорить заранее. Следовало уехать, устроиться, потом позвать его на лето. Каникулы на море плавно бы перешли в учебный год, — и не вспомнил бы о прежней жизни! А теперь?..
Анюта не ожидала, что в свои десять лет он уже дорожит чем-то и кем-то больше, чем ею.
— Уезжай, — сказал он, — а я останусь здесь!
И разревелся.
«Здравствуй, дорогая тётушка, — писала накануне Анюта письмо в Феодосию. — Сегодня Пасха, Христос воскрес. А я еле жива. Но жить надо, дорогая тетушка, и чтобы жить, мне необходимо уехать отсюда. Ты одна, и мы с Николенькой одни. Мы переедем в Феодосию, конечно, если ты не против принять нас на первое время. Я бы могла работать в газете. В местных меня печатают охотно. Но если не возьмут, я могу мыть тарелки или полы. Быть секретаршей или менеджером. Мне всё равно, главное — уехать отсюда.
Тётушка, хотя мы не виделись десять лет и почти столько же не переписывались, надеюсь, ты поймёшь причины моего намерения.
Николенька родился слабый, мама приехала сюда, когда ему было два месяца. Я кормила его грудью, когда она подошла и сказала: Ну что ты так над ним надрываешься? Всё равно он у тебя не жилец! (Всю ночь мальчика рвало, шейка покраснела от аллергической реакции на цветение сада, он плакал, и плакала я…). Тётушка, я ничего не смогла ответить. Только стала присматриваться, как к чужой. Что произошло с ней за годы, что мы не виделись? Ведь она так любила меня и брата! Позже стало понятно, за годы разлуки она разлюбила меня, перенеся всю любовь на брата, а Николеньку не только любить — жалеть не разумела.
Свою квартиру она продала и деньги отдала брату. Костя потратил их на «красивую жизнь». Пока он сыром в масле катался, я сидела в отпуске по уходу за ребёнком и, что называется, крупинки в каше считала. Не ответил на мою единственную просьбу купить племяннику зимнюю одежду. Потом сказал, я сам трудно жил. Когда человеку хватает денег на то, чтобы ездить на такси и ежедневно проводить вечера в ресторане, он не думает, что кто-то не может положить масла в ежедневную кашу без котлеты. Молодость многое извиняет. Но они обманули меня — мама сказала, что сдала квартиру государству и без копейки приехала сюда. Зачем было обманывать?.. Урок лжи и эгоизма она дала Косте вместе с деньгами.
Когда родился Николенька, она сказала Косте: ты теперь отрезанный ломоть. Анюта тебе больше помогать не будет, после неё и дом, и квартира Кольке достанутся, а тебе ничего.
Николеньку они невзлюбили оба с самого его рождения, но Костю я не виню. Мама научила его ненавидеть Николеньку, обманывать меня. Со временем я увидела: они как раковой опухолью, проросли каким-то клановым эгоизмом, став одним существом — барином Костей и рабыней, преданной ему, и только ему.
Когда Николеньке исполнилось восемь лет, он впервые обратил внимание на отношение к нему бабушки:
— Мама, почему в день рождения мне все дарят подарки, а бабушка никогда не подарила даже шоколадку? Она совсем не любит меня.
С тех пор он начал не слишком-то вежливо вести себя в отношении её. Но ведь сам-то слышал от бабушки только «дурак», «идиот» и подобное. Но и в ответ слышала: «сама такая». «Идиота» он получал по любому поводу, — не так прошёл, не так сел, не то сделал. Он не идеальный, просто обычный живой ребёнок, но даже если бы стал идеальным, ничего не переменилось бы. Я думаю, маму устроило бы только то его положение, в котором он не двигается, не ест, не дышит, наконец.
Однажды, когда я предупредила, что задержусь на работе, она устроила расправу над ребенком. Вернувшись, я увидела Николеньку с разбитыми, распухшими губами, в синяках, как потом выяснилось, по всему телу. Костя поднимал его на высоту своего роста и швырял на пол — чтоб не повадно было впредь «обижать» бабушку… А бабушка сидела рядом и молча смотрела на это.
Я не сказала Косте ни слова. А её спросила: ты хочешь оставить меня без брата и сына? Ведь если Костя убьет или покалечит Колю, он сядет в тюрьму…
Тётушка, я понимаю, тебе тяжело читать моё письмо, но пусть утешит тебя, что это было давно, теперь Костя женат, мы сохраняем дружелюбные отношения, его жену я полюбила так же глубоко, как, к сожалению, наша мать её невзлюбила.
Постараюсь покороче объяснить тебе, как обстоит дело с отцом Николеньки. Как-то я сказала ему: «Какой ты, сынок, счастливый: и папа, и мама у тебя есть. Вот у нас с Костей не было папы». Малыш ответил: Мама, но ты же знаешь, что папа у меня есть в той же степени, в какой у тебя — муж».
Тётушка, ему только десять лет, и, как видишь, он никакой не идиот. Напротив, умный мальчик. Я не думаю, что он будет сильно скучать по отцу — ведь мы уже жили несколько лет без него. Однажды я ушла прямо из-за стола, от всех них — от мужа, Кости, мамы, не пересилив какой-то очередной обиды. А муж попробовал жить с другой женщиной… Не понравилось. То ли ему, то ли ей — я не вникала.
Напиши мне, тётушка, не возражаешь ли ты на мой переезд с Николенькой к тебе. Только на первое время, а потом мы продадим здесь квартиру и хоть какую-то хибарку приобретем в Крыму. Целую твоя Аня.»
Часть 3
«Здравствуй, Аня!
Получила бандероль с твоими книгами стихов. О них пока не могу сказать ничего определённого, некогда было читать. Спешу дать тебе ответ, потому что ты его ждёшь. Когда что-то задумаешь, так и хочется скорее узнать результат.
Обрадовать я тебя не могу, потому что ты всё решаешь очень поспешно, забывая о своих ошибках. Ведь это не простое дело, не вещь переслать из одного города в другой. Я прочла письмо и до такой степени удивилась твоему решению, что долго не могла прийти в себя. Не потому, что это связано со мной, а вообще. Ты не понимаешь, что за город, а, главное, что у тебя за душой? Здесь в сезон некоторые квартиры-люксы сдают по триста долларов за одни сутки. Насчет прописки. Прописаться приезжему — ты не представляешь сумму, которая для этого нужна. Раньше надо было думать о переезде, когда был единый Союз, а ты поспешила замуж. За кого? Мать тебе говорила, порядочный человек жену и детей не бросит. Так вы же нас, матерей, считаете дурами, выжившими из ума. И как ты только о своей матери такое пишешь! Она души не чает в Косте, а ты ревнуешь. Конечно, Колька для неё уже не то. Она сделала как ты просила — приехала к тебе. Вот тут-то и совершила непоправимую ошибку. Сейчас с детьми может жить тот, кому жизнь надоела. Я сделала такой вывод, когда последний раз ко мне приезжала моя дочь с семьей ещё до перестройки. Они были в отпуске десять дней — так мало, но было достаточно, чтобы понять, узнать и почувствовать их отношение ко мне. И я сделала вывод, что очень счастлива, потому что живу одна. Мне и раньше мои подруги говорили об этом, но я как-то сомневалась, а тогда ясно поняла.
Мы отвыкли друг от друга и совсем по-разному мыслим и понимаем, и уже нет ничего общего между нами. Но у меня есть надежный и верный, любящий меня Друг и Отец — это Бог, который мне во всем помогает, и я живу только с ним. И ведь Бог нас предупреждает, что все забудут и откажутся, а Он никогда не оставит нас. Он наша надежда и спасение.
Так что, Аня, не обижайся на меня, я принять тебя не могу. Вот тебе и «дорогая тётушка», как ты пишешь. Я живу спокойно, мне все и вся уже мешает. Работаю, потому что не хочу пускать квартирантов, они меня раздражают. А здесь люди не работают, за счет квартирантов живут. Привет маме передай. Целую вас.»
Анюта прочла письмо и тут же села писать ответ: «Дорогая тётушка, ты только не переживай! Обижаться на тебя и не подумаю». А дальше дело застопорилось. Ей хотелось объяснить, что не в ревности дело. Что в словах тетушки «конечно, Колька для неё уже не то» много жестокости в отношении ребёнка. Для кого — не то? За что — не то? И если все же «не то», то неужели нельзя посчитаться с её, Анютиными материнскими чувствами, не демонстрировать неприязнь к Николеньке?.. Но выходило это, как ни старайся, обидно для тётушки, а обижать её Анюте совсем не хотелось. Она пожалела тётушку, не поверив, что можно быть счастливой, когда взаимопонимание и взаимоотношения с детьми потеряны. Это произошло, потому что у тётушки, как и у матери, никогда не появляется сомнения в своей правоте. Правоту устанавливает жизнь — и та, и другая поплатились за свою ограниченность одиночеством — вне семьи, как тётушка, или в семье, как мать – уже даже Костя тяготился ею, порой не скрывая раздражения. Анюте повезло, раз сама она способна понимать: не обязаны дети любить и почитать только за то, что она делала им хорошее и она старше. Нельзя обязать, – тебя будут любить, если ты этого достойна. Если тебе не хватает внимания – взгляни на себя в упор: возможно, чем-то ты это заслужила. Нужен душевный труд над собой, требованиями ничего не добьёшься.
Право молодых мыслить, чувствовать и поступать иначе, как того хотелось бы ей, потребует терпения, но к этому она готова. Самое большое несчастье наступит, если она утратит любовь младших членов семьи — будь это Николенька или Костя с его семьей. Хотя и непонимание со старшими больно и горько. Однако тут от неё ничего не зависело — вернуть время и не родить Николеньку она не могла. И, упаси Боже, не хотела. Даже ради обретения матери, которую потеряла, хотя та жила рядом и в которой Анеюта остро нуждалась.
Роскошь полной откровенности — кто и когда мог себе это позволить, живя в мире людей? «Безумству храбрых поем мы песню», сказала мне одна поэтесска. А другая мадам на презентации книги не проконтролировала себя. Когда речь коснулась того, что некоторые прототипы легко угадываются, лицо её полыхнуло негодованием… Однажды мы встретились с ней в городе. Я узнала пару её любовных историй, а когда вошли в кафе, уже полагалась ответная откровенность. Сначала я не назвала имени, но потом, когда мы обсуждали все перипетии наших любовей, строили предположения — поддалась и сказала, кто он. И напрасно! Её лицо мгновенно полиняло, словно его выстирали. Она поскучнела, но вскоре справилась с собой. Мы расстались, уверив друг друга в неприкосновенности доверенных тайн и дальнейшей дружбе. Дружба как-то не состоялась, но на презентацию она пришла, хотя я нечаянно забыла её пригласить.
Негодование на лице было неиндивидуальным. Оно было заранее готовым и легальным где-то там, в женской компании, которой принадлежал, очевидно, мой герой больше, чем мне… Да мне он вообще не принадлежал ни в какой степени. С его стороны всё было половинчато и осторожно. Он ускользал от подлинной близости, — даже дружеской. Конечно, он ни в чём не виноват. Это я невпопад потянулась к нему. От ненужной любви, как от паршивой собаки шерсти клок, остались пара стихов да рассказ. И одна белая роза в ворохе красных, подаренных мне на презентации — не надо долго гадать, кто её преподнёс.
Увидев негодующие черты моей случайной поверенной, подумала: если бы публика состояла не из творческих людей, а из таких вот бизнес-леди — меня сожгли бы на площади!
Отчего я придала так много значения этому? Отчего такая мелочь мучила меня? Ведь были же там и другие лица, другие глаза. Особенно одни, всё понимающие так и настолько, что в них читалось страдание. А человек посторонний моей судьбе, я даже не решусь, наверное, поблагодарить его за то, что тогда он своим взглядом уравновесил сюжет.
Может, моя мука оттого, что между мадам и мной был момент доверия? Но из этого следует только то, что вредно обходиться без подруги, которой можно доверять, столько лет, сколько обхожусь я.
Разработав собственной книгой свою форму абсолютной искренности, я не знала, какой чесоткой заплачу за это. Думаю, некоторый контингент должен теперь шарахаться от меня. Для другого я обрету статус своеобразной городской дурочки. Есть третьи, которых моя книжка удивила и просто очень понравилась. Хорошо, что они есть, но мне от этого почему-то не легче.
Не вылезаю из депрессий по причине того, что общество не готово к моей полной искренности, она попросту не нужна, она опасна и страшно произнесть — неприлична! Содержание не должно выпирать из общепринятой формы. Желательно, чтобы его вообще не было. Пустая, внешне благочинная формочка, и всё.
Анюта пришла на очередную тусовку по поводу очередной выставки очередного флагмана городского андеграунда.
Эстетическая продукция последние годы стала единственным поводом для общих сборищ, новой формой ходить в гости.
Художники говорили о том, что реализм одичал, изжил себя…
— Береза — значит любовь к родине, купола, церковки — значит духовность… Ну скучно же!
Им возражали:
— Кто не научился рисовать натурщиков, подвизается в маргинальных изобразительных сферах. Это удел недоучек!
Вокруг спорили, чокались, смеялись и сердились.
— Форма, форма, вот что главное! Форма, а не рисунок.
— Изобразительная культура это ограниченное пра-ви-ла-ми синтезирование реальности, а не расчленение её. Вы уничтожаете реальность! Всё ваше абстрактное, концептуальное и постконцептуальное искусство ставит человека в тупик. Оно даже не модель мира, а модель представлений о нём малокультурных людей! Оно не становится носителем нравственности.
Последняя фраза вызвала смех.
— А вот пришёл человек, зритель, пусть Анюта скажет, ставит её в тупик или…
— Или. — Сказала Анюта. — Мне просто не нравится, когда при слове «нравственность» смеются.
— О как, — улыбнулся Анютин художник.
— Ну да, продолжала Анюта, — я отношусь к недобитым романтикам, которые считают, что искусство должно улучшать нравы.
— А по делу что ты думаешь, Анюта? Нравятся тебе эти работы?
— Ну что я вам — искусствовед?
— Анюта, мы тут все сами себе искусствоведы, а ты больше — ты зритель. Посмотри-ка на эту работу… – художник, приобняв за талию, увлек её к ближайшей картине. — Скажи, что ты здесь видишь. Ты же поэт, ты обязательно что-то видишь.
— Вообще-то я тут ничего не вижу.
— Ну как же! Смотри, как смело художник обращается с формой. Ты же знаешь, что плоть искусства живописи это форма. Она сама становится содержанием. Недаром Петров-Водкин по Европам и Азиям метался в поисках не содержания, а формы, языка! Вот в сфере, где ты подвизаешься — кому дают Букеров? Людям, которые искорежили литературную форму.
— Давайте про что-нибудь одно: или про живопись, или про литературу. Я видела работу Николая Шувалова «Апокалипсис»: изображен несущийся над планетой конь, но весь разорванный. Это апокалипсис войны. Война разрывает плоть, душу — это понятно, разрушение формы подчеркивает суть явления. А здесь непонятно. С разрушением формы разрушается и содержание. Его просто нет, а есть какая-то ложная многозначительность. И за ней пустота, как ни вглядывайся.
— Устами младенца… — сказал художник, оборачиваясь к друзьям. — И все же, Анюта, должен тебе заметить, что кто-то пытается продолжать работать в традиционных реалистических формах, а они не наполняются содержанием — ни философским, ни чувственным — никаким. Внешняя благополучная формочка и все… Этот, по крайней мере, ищет…
Эк, куда занесло меня с моей Анютой. Она в среде художников, возле работ, очевидно, интересных тем, что в них у искусства конец перспективы. Но дважды чёрный квадрат не изобретешь — хорошо бы Анюте подсказать эту мысль! Однако мы с нею живём в параллельных мирах… Я уже не вижу её, не знаю, чем закончится вечер в художественном салоне и, честно говоря, сожалею об этом. Потому что когда Анюта исчезает, снова начинаю заниматься самокопанием, а это совсем, совсем неблагополучное времяпровождение. Повторяю вычитанную недавно мысль святого Кирилла Александрийского: «Каждое дело наше, когда прямо последует правилам благочиния, не порождает для нас никакого смущения». Наверное, я не случайно натолкнулась на неё. Когда тебя долго что-то мучает, ответы приходят порой в наугад раскрытой книге. Надо только не забывать, что случай — это язык Бога…
Выходит, издание моей книжки — неблагочинный поступок? Остается вдуматься в слово «благочиние» со всех сторон, перевернуть вверх ногами, разложить на смыслы, слоги, на атомы, черт побери! Что мне это даст? Что я противопоставлю ему? Чего больше в нем: формы или содержания? Эпитет оно или действие? Эпитет со значением действия?.. Что ни говори, до благочинности в известном смысле мне как до Гималаев.
Но больше интересует уже другое: когда кончится моё смущение? Ведь не каюсь же я в том, что книжка издана, а просто мучаюсь смущением… И Анюта — интересно, как разрешатся её жизненные конфликты и скоро ли? И что за невидимые нити то связывают меня с нею, то разводят, убеждая, что она не только мой вымысел, а часть большого мира, постичь который нашей мудрости не снилось. Однако кое-какие выводы брезжат. Например, догадываюсь, что не столь важно понять, отчего мои муки, а для чего они? Не Бог весть, какая крупная мысль, но движение все же есть.
Нет работы страшней и слаще, чем саму жизнь укладывать в рамки литературного жанра. И если решаешься на неё, должна быть готовой к тому, что за продвижение по этой дороге платят дорого.
А природу моего смущения объяснил человек, с которым мы никогда не встречались. Он написал: «Книжка у тебя получилась цельной, потому что глубоко личностна, так мне показалось. Героиня рассказов практически одна женщина (не будем отождествлять её с автором). Это сильная и смелая женщина, которая не боится обнажать душу, что для женской прозы довольно-таки редко, чаще встречаются или кокетство, или бесстыдство. Кокетству не веришь, бесстыдство быстро надоедает. А смелость, причем не безоглядная, а вроде как нечаянная или отчаявшаяся, о которой потом сожалеют, такая смелость делает рассказы достоверными. И она в книге присутствует. В целом — книга крепкая — поздравляю!»
Так что у меня нет другого выхода, как постараться быть достойной своей «крепкой» книги…
Как пОшло, думала Анюта, что мне пришла в голову эта мысль. Потом сказали бы: она как Анна Каренина, бросилась под поезд. Да ещё это совпадение имён! А Николенька!.. Как я только могла всерьёз планировать… Я обязана жить ради сына. Если он останется без меня в семье, это хуже, чем остаться одному.
Она выздоравливала от всего разом: от мрачных мыслей, от увлечения художником и даже от кошмарного Грибова. Почему Анютина жизнь должна зависеть от тех, кто её не полюбил или оскорбил? Чем больше она осознавала правомерность вопроса, тем легче становилось. Облик художника, ещё возникающий в воображении, словно пылью покрылся, думать о нём стало скучно. Следующая встреча с ним перестала быть главным событием, которому подчинялась её жизнь. Если встреча почему-либо не произойдёт, даже лучше. Уж Анюта-то, во всяком случае, не будет искать повода для неё. Последнее «свидание» вразумило её: стоять с другими дамами в очередь за пустотой она не будет. Её чувство художнику не нужно, он не может на него ответить, как не может написать картины. Искусство требует жертв, а если не хочется никаких жертв и найден рецепт бескровного существования?..
Приятней думать о том, что скоро лето, они с Николенькой пойдут на пляж, он будет бежать впереди, а она любоваться его золотистым затылочком и мелькающими розовыми пятками… «Дети — наши заложники в руках несчастья», — повторила Анюта вслух бальзаковскую фразу, которая еще некоторое время назад казалась ей абсолютно точной, и улыбнулась. Дети это спасение, а несчастья — отдельно, хотя в известных положениях то и другое можно нечаянно «склеить».
Анюта перестала остро чувствовать неблагополучие своей жизни, хотя понимала, что оно никуда не делось. Отношения с матерью, мужем оставались тупиковыми, были и другие проблемы, но ведь было и время впереди… Никто же не обещал, сказала себе Анюта, что я родилась на свет ради райских кущ. Наверное, это нормально, если жизнь горчит. Пусть даже порой слишком.
2003 г.
Новости партнеров
- Регистрация
- Вход
За сутки посетители оставили 316 записей в блогах и 3266 комментариев.
Зарегистрировалось 12 новых макспаркеров. Теперь нас 5034335.
IMMORTALITY
Дата выпуска: 30 августа 2022
Страна: Великобритания
Жанр: интерактивное кино, квест
Разработчик: Sam Barlow, Half Mermaid
Издатель: Half Mermaid
Платформы: ПК, Xbox Series, iOS, Android
Похожие игры:
Сэм Барлоу – удивительный человек. Геймдизайнеры такого масштаба обычно или навсегда меняют индустрию, или как минимум оставляют в ней неизгладимый след. Его визионерские амбиции и глубина творческого потенциала были явственно видны еще в далеком 2009-м, когда состоялся релиз до сих пор крайне недооцененного широкой игровой общественностью проекта Silent Hill: Shuttered Memories. Проекта, который умудрился на весьма ограниченной по возможностям портативной платформе полностью погрузить игрока в вязкую атмосферу глубокого психологического триллера, параллельно переизобретая одну из самых одиозных франшиз современного хоррора и вводя в привычный геймплей новые экспериментальные элементы. Но настоящая слава пришла к Барлоу после ухода из Climax Studios, когда он основал собственную независимую инди-контору Half Mermaid и буквально с дебюта был зачислен в мессии жанра FMV (Full Motion Video). Их первая игра, Her Story, несмотря на свой скромный бюджет, небольшую продолжительность и камерность, была просто глотком свежего воздуха для поклонников умных игро-фильмов и несла в себе ряд оригинальных идей и решений, впоследствии ставших визитной карточкой проектов студии. Получив признание критиков и сколотив небольшую фанбазу преданных поклонников, Сэм решил повысить ставки, и в 2019 году свет увидел Telling Lies, который, являясь идеологическим наследником Her Story, был масштабнее предшественника во всем, начиная от подбора именитых актеров уровня Логана Маршалла-Грина на главные роли и заканчивая весьма приличным «хронометражом». Но критики приняли новое творение Барлоу уже не столь тепло ввиду целого ряда неоднозначных моментов, хотя в целом игра получила скорее положительные оценки и по-прежнему могла похвастаться оригинальными концепциями и экспериментальным подходом к сторителлингу. И вот, спустя три года, состоялся релиз нового мудреного шедевра из FMV-триптиха Half Mermaid, а заодно главного героя нашего сегодняшнего обзора. И это на данный момент самый сложный, глубокий, масштабный и амбициозный проект британского геймдизайнера, который без преувеличения является высшей точкой жанра игровых фильмов – и по совместительству гвоздем в крышку его гроба. Итак, добро пожаловать в Immortality. Точнее, «добро пожаловать» тут будет не совсем корректной формулировкой, потому что на самом деле нас особо никто не ждет и рассчитывать приходится максимум на амплуа случайного наблюдателя. Но об этом дальше.
Первичная сюжетная затравка Immortality (если тут вообще применимо понятие «сюжета» в его общепринятом смысле) заключена в исследовании деталей загадочной жизни и творчества юной актрисы Мариссы Марсель – за свою карьеру она снялась в трех потенциальных кассовых хитах, ни один из которых по каким-то причинам так и не добрался до больших экранов. Первый фильм начинающей кинозвезды, «Амброзио», является экранизацией классического готического романа М. Г. Льюиса «Монах» и представляет собой историю испанского священнослужителя, поддавшегося плотской страсти и впоследствии совращенного силами зла и продавшего душу дьяволу. В экранизации, как и в оригинальном романе, поднимаются табуированные темы чёрной магии, сатанизма, сексуального насилия, инцеста и природы греха, что, в свою очередь, также весьма характерно для итальнского джалло шестидесятых, в стилистике которого фильм и был создан. Вторая лента, полицейский триллер «Мински», снята спустя два года и повествует о молодом детективе, ведущем расследование жесткого убийства известного художника и в процессе работы над делом попавшем под чары одной из его муз (по совместительству потенциальной подозреваемой). К темам сексуальности и насилия здесь добавляются пространные размышления о природе искусства. Третий фильм снят аж спустя 29 лет, в 1999-м, и рассказывает о юной поп-звезде и ее незадачливой дублерше-двойнике, которые впутываются в круговорот драматических и жутких событий в лучших традициях криминальных триллеров 90-х. По короткой внутриигровой легенде, которую можно прочесть в небольшом буклете в главном меню, после третьей киноленты, которая также не добралась до зрителей, Марисса Марсель пропала. Что с этим делать и «кто убил Лору Палмер», предстоит решать исключительно игрокам.
Впрочем, с пустыми руками нас не оставят, предоставив во временное пользование эдакий виртуальный аналог спецаппаратуры для монтажа и обширный архив с порезанными на куски видеофрагментами, представляющими собой «салат» из отрывков всех трех кинофильмов вперемешку с любительскими съемками закулисных репетиций и обрывками телевизионных интервью. Таким образом, в отличие от Her Story, работать в этот раз придется не с текстовыми запросами, а напрямую с визуальными образами. В начале игры нам дают открыть стартовый ролик, на котором предстоит потренироваться в использовании основных геймплейных механик Immortality. А инструментарий, собственно говоря, довольно скудный: можно отмотать ролик к началу (как правило, большинство сцен начинаются со студийной хлопушки, дающей сигнал к началу съемки очередной сцены фильма), покадрово промотать вперед или назад вручную в слоу-мо режиме или включить ускоренную/замедленную перемотку пленки, регулируя скорость воспроизведения. В любой момент текущее видео можно поставить на паузу и кликнуть на любой объект на экране, который курсор помечает как активную зону. Яблоко, окно, распятие, лицо исполнителя главной роли – все что угодно. В этот момент произойдет мгновенный переход к случайной сцене на другой пленке, связанной визуально или не всегда очевидным контекстом с выбранным объектом. Только таким способом мы накапливаем прогресс и двигаемся вперед, открывая все новые и новые ролики и постепенно собирая разрозненную мозаику в единое целое в отчаянной попытке выяснить, что же все-таки на самом деле случилось с Мариссой Марсель.
И тут надо четко понимать, что как такового геймплея в привычном смысле слова в Immortality вы не найдете. Вся эта несложная и ограниченная механика работы с пленкой – всего лишь необходимый базовый инструментарий, исполняющий ровно одну функцию: позволить нам добраться до истинной сути артхаусного шедевра безумного английского гения. Почти все в Immortality не то, чем кажется, или совсем не то, о чем вы изначально подумали. Практически в каждой сцене есть двойное дно, которое можно (и нужно) обнаружить с помощью тех самых пресловутых «простых» геймплейных механик, о которых шла речь выше. Причем некоторые игроки приходят к пониманию, как это на самом деле должно работать, даже не на первом часу игры! Но в итоге, следуя таким образом за тайными знаками и фантомной изнанкой старых пленок, можно получить ни с чем не сравнимый экспириенс, который только игровым назвать и язык-то не поворачивается. Впрочем, даже помимо заложенных в ядре экзистенциальных откровений и авторского мета-комментария Immortality способна очаровать и влюбить в себя просто своим визуалом, оставив неизгладимые впечатления. Объем проделанной командой Барлоу работы колоссален – часы отснятого материала, три (а то и все четыре) созданных с нуля полноценных мини-фильма со своей стилистикой, сюжетом, манерой съемки, операторскими приемами, атмосферой и декорациями. Добавьте к этому блестящий профессиональный актерский ансамбль, который моментами сделал бы честь любому голливудскому инди-хиту и который выкладывается здесь на все сто. С каждой новой сценой проникаешься игрой, с интересом наблюдаешь за перипетиями не только основных сюжетных линий, но и закулисных интриг, начинаешь сопереживать персонажам второго плана и оценивать их метаморфозы и взаимодействие друг с другом в новых проектах и реальных жизненных ситуациях вне сцены, открывая все новые и новые грани истории. Это нереальное погружение в атмосферу и самая масштабная и беспрецедентная попытка совместить форматы кино и видеоигр, в которой задействованы маститые профессионалы киноцеха, среди них, к примеру, затесались именитые сценаристы Аллан Скотт и Барри Гиффорд (тот самый, что приложил руку к «Шоссе в никуда»).
Кстати, пару слов о Дэвиде нашем Линче. В Immortality Half Mermaid удалось блестяще передать «эффект зловещей долины» и нагнать жути на пустом месте очаровательными в своем изяществе приемами. Рассказать об этом подробнее было бы все равно что открыть новую книгу на последней странице, поскольку ввиду особенностей структуры даже небольшие спойлеры для игры крайне пагубны и способны существенно испортить удовольствие от самостоятельного прохождения и постепенного открытия ее тайн. Поэтому, уподобившись авторам истории Мариссы, ограничимся полунамеками. Скажем лишь, что при создании этой истории Сэм Барлоу явно выложился на все сто, выжав из себя весь накопившийся за долгие годы работы культурный багаж. Помимо традиционного культового британского прозаика новой волны Джеймса Балларда, вдохновения творчеством которого Сэм не скрывал еще в ранних своих проектах, здесь отчетливо видно влияние еще пары десятков великих демиургов, от Гринуэя до Ардженто, от Шекспира до Баркера. А Хичкоку и особенно Линчу (не зря мы его неоднократно упоминали) вообще отведено особое место, так как начиная с определенного момента история по сути своей превращается в артхаусный психоделический триллер о жизни и смерти, непорочности и сексуальности, роли искусства и творца. Это любовное послание автора кинематографу, и в своей бескомпромиссности оно уникально. Ничего подобного не было в мире компьютерных игр раньше и, скорее всего, не будет после.
Проблема же Immortality в том, что это такая «вещь в себе». Артхаус как он есть, «Внутренняя империя» от мира видеоигр. Она максимально недружественна к игроку с самого начала. Точнее, не то чтобы недружественна, а скорее совершенно безразлична. Ей все равно, сможете ли вы понять ее, легко ли вам будет освоиться. Гайд максимально скуп и сух, игрок полностью обезличен, мотивация продолжать или хотя бы даже начать практически никак не подогревается. Immortality не стремится продать себя игроку. Она хочет, чтобы вы сами захотели ее разгадать, по-настоящему зажглись этим, поскольку малодушных, не выдержавших местного бесконечного гринда видеофрагментов, она отсеет еще до первых титров. Это энигма из тех, к которой сложно подступиться, но если ей удастся чем-то вас зацепить, не будет вам покоя до самого конца. В этом Immortality невероятно схожа с нашумевшим романом-загадкой «Дом листьев» Марка Данилевского или даже с Конфигурацией Лемаршана из «адского» цикла Клайва Баркера. Ее сложно разгадать, но если удастся, вы испытаете нечто очень особенное.
Но все вышесказанное автоматически отсекает огромный сегмент потенциальных игроков. Даже если бы Immortality вышла исключительно как кинофильм, порог вхождения остался бы крайне высоким. Так как, по сути, весь видеоматериал в данном проекте – чистой воды артхаус. Прибавьте некоторую затянутость, репетативный геймплей, целиком основанный на гринде, и отсутствие русского языка при изобилии беглой англоязычной речи в кадре, и вы легко поймете, почему оценить по достоинству или хотя бы бегло ознакомиться с этим magnum opus студии Half Mermaid в нашей стране рискнут очень и очень немногие, несмотря на единодушный восторг большинства зарубежных игровых изданий.
Однако если вы искренне любите кинематограф, загадки, кровавые мистические триллеры, владеете английским языком на уровне, близком к intermediate, или готовы кропотливо сидеть у экрана монитора со словарем, то настоятельно советуем присмотреться к Immortality. Это штучная работа, которая со временем приобретет культовый статус, и определенно способная вас удивить уже прямо сейчас.
И будьте осторожны: возможно, в этой игре живут призраки. Мы вас предупредили.
Ирония истории
В письме к Вере Засулич от 23 апреля 1885 года Энгельс писал:
Люди, воображавшие, что они сделали революцию, всегда убеждались на следующий день, что они не знали, что делали, – что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории.
Однако в сочинениях Гегеля «иронии истории» нет. Арсений Гулыга в книге «Немецкая классическая философия» (1986) справедливо заметил, что «иронии истории» в вышеозначенном смысле соответствует гегелевская «хитрость разума» (die List der Vernunft).
Цитирую Гегеля:
Во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся (…); они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и не входило в их намерения.
Можно назвать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причем то, что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред.
(Введение к «Лекциям по философии истории» (1822–1831; опубликованы в 1837 г.); перевод А. Водена)
В немецкой печати «ирония истории» (die Ironie der Geschichte) появилась не позднее 1830-х годов. Обычно это выражение использовалось в значении «насмешка истории», вне какой-либо связи с учением Гегеля. (Кстати: примерно в то же время во Франции появилось выражение «ирония судьбы» – «ironie du sort».)
Но по крайней мере однажды «ирония истории» уже в 1840-е годы встречалась в «гегельянском» контексте. Весной 1848 года историк Антон Шпрингер опубликовал книгу «Взгляд Гегеля на историю». В предисловии он писал по поводу Февральской революции во Франции: «Парижане показали, что они понимают, как правильно осуществлять иронию истории (die Ironie der Geschichte gut durchzuführen)…».
Историк астрономии Зигмунд Гюнтер говорил об «иронии истории» применительно к самому Гегелю:
«Попытка Гегеля вторгнуться в область астрономии и априорно вывести невозможность существования планеты между Марсом и Юпитером была, по иронии истории, более чем убедительно опровергнута открытием этой планеты в том же самом году». («Цели и результаты новейших исследований по истории математики», 1876.)
«Вторгнуться в область астрономии» Гегель попытался в своей диссертации «Об орбитах планет», законченной осенью 1801 года. Он не догадывался, что уже 1 января того же года итальянец Джузеппе Пиацци открыл Цереру – первую из малых планет, расположенных между Марсом и Юпитером. Промах Гегеля послужил поводом для многочисленных шуток, тем более что поначалу Церера считалась «полноценной» планетой, восьмой по счету.
Иногда именно в этой связи цитируют будто бы сказанные Гегелем слова: «Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов». (См. статью «Факты – упрямая вещь».)
Искусство требует жертв
Выражение это возникло в России. По-видимому, первым в литературу его ввел драматург Николай Евреинов.
В 1911 году в петербургском театре пародий «Кривое зеркало» была поставлена гротескная комедия Евреинова «Школа этуалей». «Этуалями» (от франц. «l’étoile’ – «звезда’) называли тогда кафешантанных певиц «с именем». Директор «Школы этуалей» требует, чтобы его подопечные исполняли свои номера «бесстыдно», но в то же время «прилично». Об их ремесле он говорит как о высоком искусстве:
– Вы должны священнодействовать, когда исполняете шансонетку.
А когда одна из учениц «Школы» ударяется в плач, не выдержав гневных замечаний директора, его помощница утешает девушку:
– Ну, брось реветь! Мало ли чего ради искусства не натерпишься! Искусство требует жертв.
Как видим, сентенция появляется в сугубо пародийном контексте.
В следующем, 1912 году Московский художественный театр показал новую драму Леонида Андреева «Екатерина Ивановна». Пьеса стала одним из театральных событий сезона и живо обсуждалась в печати. Главная героиня, жена члена Государственной думы, становится любовницей художника Коромыслова, который в своем искусстве специализируется, как он сам говорит, на «голых бабах». Вот сцена из заключительного, IV акта:
Коромыслов, разговаривая и шутя, внимательно работает над картиной «Саломея». Саломея – Екатерина Ивановна. Полуобнаженная, она стоит на возвышении.
КОРОМЫСЛОВ. Вы не устали, дорогая? Ну, потерпите, потерпите, искусству нужно приносить жертвы.
АЛЕКСЕЙ. Вы это всем дамам говорите?
КОРОМЫСЛОВ. Что такое говорю?
АЛЕКСЕЙ. Что искусство требует жертв.
КОРОМЫСЛОВ. Всем. Они любят ласку.
АЛЕКСЕЙ. А искусство – жертвы?
КОРОМЫСЛОВ. А искусство любит жертвы.
О том, что эта сцена не была забыта и в двадцатые годы, свидетельствует комедия Бориса Ромашова «Воздушный пирог» (1925). Здесь Мирон Зонт, редактор журнала «Красная кулиса», обращается к директору банка, который едва ли случайно носит фамилию Коромыслов:
– Искусство требует жертв. Наш журнал стоит на защите завоеваний всех фронтов. Цена номера тридцать копеек. Тираж шесть тысяч. Главное объявления [т. е. реклама. – К.Д.].
По-видимому, еще и в тридцатые годы фраза «Искусство требует жертв» употреблялась по преимуществу в ироническом смысле – например в фельетоне Ильфа и Петрова «Когда уходят капитаны» (1932).
В 1941 году детский писатель Яков Тайц опубликовал автобиографический рассказ «Про Ефима Зака». Герой рассказа, дореволюционный «художник вывесок», вспоминает:
– Мой знаменитый земляк Исаак Левитан учил меня: «Главное, Ефим, это натура!». (…) И еще он говорил: «Искусство требует жертв (…)».
Ирония авторского повествования очевидна.
Зато после войны эту сентенцию уже совершенно всерьез, как завет основателя Художественного театра, привел оперный режиссер Павел Румянцев, вспоминая о создании в 1926 году Оперной студии Станиславского:
«Лозунгом того времени, как и вообще во весь период существования студии, были слова К. С. Станиславского: “Искусство требует жертв”» («Система К. С. Станиславского в оперном театре», опубл. в «Ежегоднике МХАТ. 1947»; год издания: 1949).
Других подтверждений того, что Станиславский говорил именно это, не имеется.
История повторяется дважды…
Выражение «История повторяется» появилось в немецкой печати не позднее 1830-х годов. Затем были отысканы его античные предшественники, прежде всего вступление Фукидида к «Истории Пелопонесской войны» (конец V в. до н. э.):
…исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде)…
(Перевод Г. Стратановского)
Близкая мысль выражена у Плутарха (II в. н.э):
Поскольку поток времени бесконечен, а судьба изменчива, (…) часто происходят сходные между собой события. (…) …Неминуемо должны по многу раз происходить сходные события, порожденные одними и теми же причинами.
(«Серторий»; перевод А. Каждана)
В XIX веке Гегель учил:
Наполеон был два раза побежден, и Бурбоны были изгнаны два раза. Благодаря повторению того, что сначала казалось лишь случайным и возможным, оно становится действительным и установленным фактом.
(«Лекции по философии истории» (1837); перевод А. Водена)
Эту мысль продолжил Карл Маркс:
Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.
(«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852), I)
О смене трагедии фарсом на исторической сцене еще раньше говорил Генрих Гейне:
…великий праотец поэтов [т. е. Бог] в своей тысячеактной мировой трагедии доводит комизм до предела (…): после ухода героев на арену выступают клоуны и буффоны с колотушками и дубинками, на смену кровавым революционным сценам и деяниям императора [Наполеона] снова плетутся толстые Бурбоны…
(«Идеи. Книга Le Grand» (1826); перевод Н. Касаткиной)
Маркс свое замечание о двукратном повторении истории поясняет примерами того же рода: «Коссидьер вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспьера, Гора 1848–1851 гг. вместо Горы 1793–1795 гг., племянник вместо дяди. И та же самая карикатура в обстоятельствах, сопровождающих второе издание восемнадцатого брюмера!» Речь шла о сходстве между переворотом 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), когда единоличную власть захватил Наполеон Бонапарт, и переворотом 2 декабря 1851 года, осуществленным его племянником Луи Бонапартом.
В 1970 году в американской печати появилась поэтическая метафора «История не повторяется, но рифмуется», приписанная Марку Твену.
На сайте «Quoteinvestigator» указан любопытный предшественник этого афоризма. В октябрьском номере лондонского журнала «The Christian Remembrancer» за 1845 год появилась обширная рецензия на изданную в Англии книгу А. Н. Муравьева «История Церкви в России» (1842). Рецензент писал:
Зрелище повторяется; восточное солнце восходит вторично; история неосознанно повторяет свой рассказ, оборачиваясь какой-то мистической рифмой; одна эпоха оказывается прообразом другой, и извилистый ход времени снова приводит нас к той же точке.
http://flibustahezeous3.onion/b/541330/read#t20