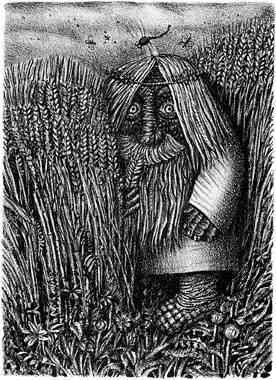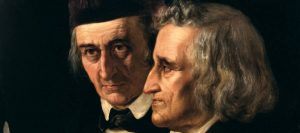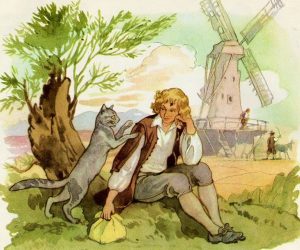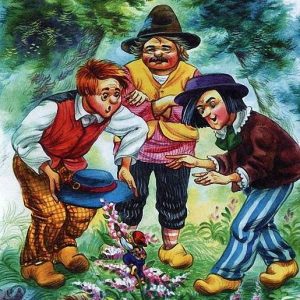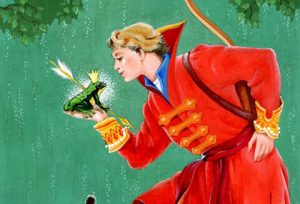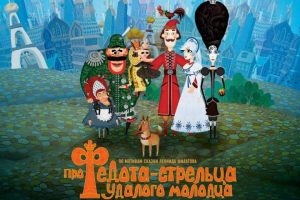«История возникновения русской народной сказки и ее значение
для развития детей дошкольного возраста»
Выполнила: Петрова Е.С.
Ярославль 2017 г.
Аннотация. В статье дается определение сказки, история возникновения сказки, история возникновения русской народной сказки, методика работы со сказкой в детском саду, значение сказки для развития детей дошкольного возраста.
Ключевые слова. Сказка, «байка» или «басень», сюжет, народная сказка, вымысел.
Введение.
Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа.
(Алексей Николаевич Толстой)
Мы очень любим сказки!
Впервые мама рассказала мне сказку в раннем возрасте. Она говорила мне, что сказка развивает, обогащает воображение, т. к., слушая сказку, чувствуешь себя ее активным участником и всегда представляешь себя с теми из ее персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. Слушаешь сказку и переживаешь или радуешься вместе с её героями. А тем, кто фантазирует, принадлежит будущее.
Прошли годы, но эти занимательные истории не потеряли своей актуальности. В наше время мамы покупают для своих малышей красочные иллюстрированные книжки, в которых находятся старые добрые истории, полюбившиеся нам еще в детстве. Что такое сказка? За много столетий было придумано множество интересных историй, но кто их придумал и, главное, для чего?
С территорий возникновения первых сказок – древней Индии и фантастических стран Востока — шла сказка своим завоевательным путем, охватывая огромные районы, овладевая мыслью человека, внося новые веяния в круг его жизненных начал и разрушая в нем вековые предрассудки. Сказка вносила новую струю в жизнь, полную свежести и прелести, развивала величайшие дары человека – ум и фантазию, которые всегда давали человеку так много импульсов для его развития.
Своим движением сказка объединяла отдельные народы, давала одному народу вести о другом, хотя бы и в туманных, фантастических образах, возбуждая живой интерес к жизни в чужих землях.
Что, как не сказка заставило финикийских мореходов отважиться попытать счастья в путешествиях к далеким странам с целью разузнать, что делается вне их родины. Уже позже их чудесные рассказы о далеких, таинственных землях не раз служили поводом смелым и решительным людям к отважным предприятиям и далёким плаваниям.
В глубокой древности сказочные повествования не только возбуждали интерес в людях к дальним странам и побуждали путешественников к действиям, они ещё и стремились облагораживать человека, воздействовать на формирование в нем правильных основ.
Сказка указала преимущество человека перед животным, определила человеку необходимость стать выше самого себя. Она с очевидностью показала, как человек должен смотреть на основные понятия о добре и зле, и в какую сторону должны клониться его идеальные воззрения. Сказка развилась до степени обличительности только в более или менее развитых государствах.
Сказка – это тот памятник, вечно живущий и вечно юный, которому современная культура должна выказывать полное уважение и благодарность в силу того, что в основе всякой культуры ею заложено первичное понятие человека о сущности добра и зла.
Сказка – это живая, неумирающая история народа, правда, являющаяся для нас в самых общих чертах, но зато обрисовывающая характерные особенности каждой нации, её взгляды на жизнь, историю, явления природы.
Представьте себе, как был бы беден народ, у которого не было бы сказок? Не было бы в людях с детства заложенных той душевности, мягкости, взаимной любви, без чего из ребенка вырастали бы люди узких взглядов, не понимающие друг друга, круг деятельности которых крайне ограничен и охватывает только удовлетворение потребностей своего «я».
В разное время сказки пытались предать забвению, но покончить с этим жанром не могли. Сказки постепенно оправились, приспособились к новым условиям, и начали жить бок о бок с новыми изданиями. И даже в то время, когда были гонения на сказку, не одна детская, не одна избенка слышала воссоздание таинственным голосом этих мотивов чудного, вечно живого, вечно свежего народного эпоса. И гонимые сказки втихомолку делали великое дело сохранения нежной детской души в её естественном стремлении к фантастической мечтательности. Они совершали великое дело воспитания в детском сердце основных начал идеальной нравственности.
Сказки на Руси
Когда на Руси появилась сказка? Что послужило толчком к рождению сказки? На пустом ли месте появилась она? Сказка пришла на смену мифу. В X-XI веках в Киевской Руси, как предполагают, появилась сказка. Она закрепилась в разновозрастной категории. И лишь в XX веке сказка стала принадлежностью детской аудитории.
Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, классический образец фольклора.
Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, который никогда не создавался специально для детей. Корни русской сказки уходят в славянское язычество. Нельзя не сказать о том, что русская сказка не раз подвергалась гонениям. Церковь боролась с языческими верованиями, а заодно и с народными сказками. Так, в XIII веке епископ Серапион Владимирский запрещал «басни баять», а царь Алексей Михайлович издал в 1649 году специальную грамоту с требованием положить конtц «сказыванию» и «скоморошеству». XIX век тоже не принес на¬родной сказке признания чиновников охранительного на¬правления. Но не только цензура боролась с народной сказкой. С середины того же XIX века на нее ополчились известные тогда педагоги. Они были уверенны в ее отрицательном воздействии на слушателя; считали, что сказка задерживает умственное развитие детей, пугает их изображением страшного, расслабляет волю, развивает грубые инстинкты и т. д. Такие же аргументы приводили противники этого вида народного творчества уже и в советское время. Педагоги считали, что сказка уводит детей от реальности, вызывает сочувствие к тем, к кому не следует, — ко всяким царевичам, царевнам и прочим антисоветским персонажам. Рассуждения о вреде сказки вытекали из общего отрицания ценностей культурного наследия.
Однако уже в XIX веке появились люди, которые хотели собирать и сохранить устное народное творчество (И. М. Снегирев, П. В. Киреевский, В. И. Даль, А. Н. Афанасьев, И.А.Худяков, П.А.Бессонов). Благодаря этим подвижникам, сегодня мы можем наслаждаться самобытными и уникальными произведениями русского народа.
Рассказывание сказок на Руси воспринималось как искусство, к которому мог приобщиться каждый, независимо от пола и возраста, и хорошие сказочники весьма высоко почитались в народе. Они учат человека жить, вселяют в него оптимизм, утверждают веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла скрываются реальные человеческие отношения.
Сам термин «сказка» появился в 17 веке, и впервые зафиксирован в грамоте воеводы Всеволодского. До этого времени широко употреблялось слово «басень», производное от слова «баять», то есть рассказывать. К сожалению, имена профессиональных сказочников прошедших времен не известны современным исследователям, но известен факт, что уже в 19 веке ученые стали заниматься пристальным изучением русского фольклора, в том числе и сказок.
Сказка – понятие обобщающее. Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести то или иное устное прозаическое произведение к сказкам. Принадлежность к эпическому роду выдвигает такие ее признаки, как повествовательность и сюжетность. Сказка обязательно занимательна, необычна, с отчетливо выраженной идеей торжества добра над злом, правды над кривдой, жизни над смертью; все события в ней доведены до конца, незавершенность и незаконченность не свойственны сказочному сюжету…
Основным жанровым признаком сказки является ее назначение, то, что связывает сказку с потребностями коллектива. «В русских сказках, дошедших до нас в записях XVIII – XX вв., а также в сказках, которые бытуют сейчас, доминирует эстетическая функция. Она обусловлена особым характером сказочного вымысла».
Вымысел характерен для всех видов сказки разных народов.
В.И. Даль в своем словаре трактует термин «сказка» как «вымышленный рассказ, небывалую и даже несбыточную повесть, сказание» и приводит ряд народных пословиц и поговорок, связанных с этим видом народного творчества, например знаменитую «ни в сказке сказать, ни пером описать». Это характеризует сказку как нечто поучительное, но в тоже время невероятное, рассказ о том, чего не может произойти на самом деле, но из которого каждый может извлечь определенный урок. Уже в начале XX века выходит в свет целая плеяда сборников русских народных сказок, вобравшая в себя жемчужины народного творчества.
Русские народные сказки от других сказок народов мира отличает, прежде всего, их воспитательная направленность: вспомним хотя бы знаменитую присказку о том, что сказка ложь, да в ней намек. Труд в русских народных сказках изображается не тяжкой повинностью, а почетной обязанностью каждого. В них воспеваются моральные ценности, такие как альтруизм, готовность прийти на помощь, доброта, честность, смекалистость. Они являются одним из самых почитаемых жанров российского фольклора благодаря увлекательному сюжету, открывающему читателю удивительный мир человеческих взаимоотношений и чувств и заставляющему поверить в чудо. Таким образом, русские сказки – это неисчерпаемый источник народной мудрости, которым пользуются до сих пор.
Воспитательная функция сказки – один из ее жанровых признаков. «Сказочный дидактизм пронизывает всю сказочную структуру, достигая особого эффекта резким противопоставлением положительного и отрицательного. Всегда торжествует нравственная и социальная правда – вот дидактический вывод, который сказка наглядно иллюстрирует».
История возникновения сказки как жанра.
Исторические корни русской сказки теряются в седой древности, каждый исторически этап жизни русского народа отражается в сказке, вносит в неё закономерные изменения. Изучение этих изменений, вернее, обобщение этих изменений, даёт возможность говорить о конкретном процессе жизни русской скази, то есть об её истори.
Установить точно. Когда именно русская сказка определилась как жанр, когда именно начала жить как сказка, а не верование или предание,- невозможно.
Первые упоминания о русской народной сказке относятся к Киевской Руси, однако истоки её теряются в незапомятных временах. Что же касается феодальной Руси, то нет никаких сомнений, что сказки, в нашем понимании, были в Киевской руси одним из широко распространённых жанров устного народного творчества. Памятники древнерусской литературы сохранили достаточно упоминаний о сказочниках и сказках, чтобы в этом не сомневаться.
Самые ранние сведения о русских сказках относятся к 12 веку. В поучени «Слово о богатом и убогом» в описани отхода ко сну богатого человека среди окружающих его слуг, тешащих его на разные лады, с негодованием упоминаются и такие, которые «бають и кощунять», то есть рассказывают ему на сон грядущий сказки. В этом первом упоиминании сказки полностью отразилось противоречивое отношение к ней, которое мы наблюдаем в русском обществе на протяжении многих веков. С одной стороны, сказка- любимое разблечение потеха , ей открыт доступ во все слои общества, с другой стороны, её клеймят и преследуют как нечто бесовское, не позволительное, расшатывающее устои древнерусской жизни. Так, Кирилл Туровский, перечисляя виды грехов, упоминает и баяние басен; митрополит Фотий в начале 15века заклинает свою паству, чтобы она воздержалась от слушания басен; царские указы 17 века неодобрительно отзываются о тех, кто губит свои души тем, что «сказки сказывает небывалые».
Всё это даёт нам основание пологать, что в Древней Руси сказка уже выделилась как жанр из устной прозы, размежевалась с преданием, легендой и мифом. Её жанровые особенности — «установка на вымысел и равлекательные функции осознаются в равной мере как её носителями, так и гонителями. Уже в Древней Руси они – «сказки небывалые» и именно как таковые продолжают жить в народном репертуаре в дальнейшие века».
Исследователи о сказке и её жанровых особенностях.
Исследуя сказку, учёные по-разному определяли её значение и особенности. Одни из них с безусловной очевидностью стремились охарактеризовать сказочный вымысел как независимый от реальности, а другие желали понять, как в фантазии сказок преломилось отношение народных рассказчиков к окружающей действительности. Считать ли сказкой вообще любой фантастический рассказ или выделять в устной народной прозе и другие её виды – несказочную прозу? Как понимать фантастический вымысел, без которого не обходиться ни одна из сказок? Вот проблемы, которые издавна волновали исследователей.
Ряд исследователей фольклора сказкой называли всё то, что «сказывалось». Так, академик Ю.М. Сооколов писал; «Под народной сказкой в широком смысле этого слова мы разумеем устно-поэтический рассказ фантастического, авантюрного или бытового характера ». Брат учёного, профессор Б.Ю. Соколов, тоже считал, что сказкой следует называть всякий устный рассказ. Оба исследователя утверждали, что сказки включают в себя целый ряд особых жанров и видов и что каждый из них можно рассматривать особо.
Попытку отличить сказку от других жанров фольклора предпринял более ста лет назад К.С. Аксаков. Говоря о различии между сказками и былинами, он писал: «Между сказками и песнями, по нашему мнению, лежит резкая черта. Сказка и песня различны изначала. Это различие установил сам народ, и нам всего лучше прямо принять то разделение, которое он сделал в своей литературе. Сказка – складка (вымысел), а песня – быль, говорит народ, и слова его имеют смысл глубокий, который объясняется, как скоро обратим внимание на песню и сказку ».
Вымысел, по мнению Аксакова, повлиял и на изображение места действия в них, и на характеры действующих лиц. Своё понимание сказки Аксаков уточнял такими суждениями: «В сказке очень сознательно рассказчик нарушает все пределы времени и пространства, говорит о тридесятом царстве, о небывалых странах и всяких диковинках». Аксаков считал, что самое характерное для сказок — вымысел, причём сознательный вымысел. С этой трактовкой сказок не согласился известный фольклорист А.Н. Афанасьев. «Сказка- складка, песня- быль, говорила старая пословица, стараясь провести резкую границу между эпосом сказочным и эпосом историческим. Извращая действительный смысл этой пословицы, принимали сказку за чистую ложь, за поэтический обман, имеющий единою целью занять свободный досуг небывалыми и невозможными вымыслами. Несостоятельность такого воззрения уже давно бросалась в глаза», — писал этот учёный. Афанасьев не допускал мысли, что «пустая складка» могла сохраняться у народа в продолжение целого ряда веков и на огромной протяжённости страны, удерживая и повторяя «один и то же представления». Он сделал вывод: «нет, сказка — не пустая складка, в ней как и вообще во всех созданиях целого народа, не могло быть, и в самом деле нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от действительного понимания сказки».
Признак, принятый Аксаковым значимым для сказочного повествования, был положен с некоторыми уточнениями в основу определения сказки, предложенного советским фольклористом А.И. Никифоровым. Никифоров писал: «сказки — это устные рассказы, бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся специальным композиционно — стилистическим построением». Поясняя смысл своего определения, Никифоров указывал на три существенных признака сказки: первый признак современной сказки — целеустановка на развлечение слушателей, второй признак — необычное в бытовом плане содержание, наконец, третий важный признак сказки — особая форма её построения.
Традиционно выделяют три типа сказки:
1)волшевную;
2)бытовую;
3) сказку о животных.
Каждый из этих типов имеет свои особенности.
Народные сказки — это уникальная энциклопедия истории, общественного строя, быта и мировоззрения нашего народа. За много веков наши предки придумали тысячи сказок. Словно на крыльях они перелетали из века в век и передавали мудрость одного поколения другому.
Особенности русских народных сказок.
В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…
Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…
Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.
Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: мал-еньк –ий, брат-ец, петуш-ок, солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, вот, что за, ка…( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!)
Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Не случайно А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!
Особенности русских народных сказок.
В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буйну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго ли, коротко ли…
Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная…
Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил;- и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.
Языку сказок свойственно употребление имен существительных и имен прилагательных с различными суффиксами, которые придают им уменьшительно – ласкательное значение: мал-еньк –ий, брат-ец, петуш-ок, солн-ышк-о…Все это делает изложение плавным, напевным, эмоциональным. Этой же цели служат и различные усилительно-выделительные частицы: то, вот, что за, ка…( Вот чудо-то! Пойду-ка я направо. Что за чудо!)
Издавна сказки были близки и понятны простому народу. Фантастика переплеталась в них с реальностью. Живя в нужде, люди мечтали о коврах-самолетах, о дворцах, о скатерти-самобранке. И всегда в русских сказках торжествовала справедливость, а добро побеждало зло. Не случайно А. С. Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!
Персонажи русской народной сказки о животных представлены, как правило, образами диких и домашних животных. Образы диких животных явно преобладают над образами домашних: это лиса, волк, медведь, заяц, из птиц — журавль, цапля, дрозд, дятел, воробей, ворон и др. Домашние встречаются значительно реже, причем они появляются не как самостоятельные или ведущие персонажи, а лишь в соединении с лесными: это собака, кот, козел, баран, лошадь, свинья, бык, из домашних птиц — гусь, утка и петух. Сказок только о домашних животных в русском фольклоре нет. Каждый из персонажей — это образ вполне определенного животного или птицы, за которым стоит тот или иной человеческий характер, поэтому и характеристика действующих лиц основана на наблюдении за повадками, манерой поведения зверя, его внешним обликом. Различность характеров особенно четко и определенно выражена в образах диких животных: так, лиса рисуется прежде всего как льстивая, хитрая обманщица, обаятельная разбойница; волк — как жадный и недогадливый “серый дурак”, вечно попадающий впросак; медведь — как глупый властитель, “лесной гнет”, употребляющий свою силу не по разуму; заяц, лягушка, мышь, лесные птицы — как слабые, безобидные существа, всегда служащие на посылках. Неоднозначность оценок сохраняется и при описании домашних животных: так, собака изображается как умное животное, преданное человеку; в коте отмечено парадоксальное сочетание смелости с леностью; петух криклив, самоуверен и любопытен.
Сказка в литературе и искусстве.
Сказку, и народная, и авторская, активно используется и в других видах искусства. При этом сказка используется и как жанр, и как исходный материал (не обязательно обрабатываемый по сказочным канонам).
Вошли в сокровищницу изобразительного искусства иллюстрации к сказкам Ш.Перро французского художника Г.Дорэ. Сказочные мотивы и сюжеты использовали русские художники В. М.Васнецов, И.Я.Билибин, Г.И.Нарбут.
На сказочные сюжеты, в частности, на сюжеты сказок Ш.Перро, написаны многие музыкальные произведения: по сказке Золушка (опера Дж. Россини, балет С.Прокофьева), по сказке Синяя Борода (опера Б.Бартока Замок герцога Синей Бороды).
Всемирное признание снискали советские киносказки, снятые режиссерами А.Роу и А.Птушко. Превосходные фильмы сделаны режиссером Н.Кошеверовой (в том числеЗолушка по сказке Перро, Два друга по сценарию Е.Шварца, дописанному после его смерти драматургом Н.Эрдманом, Тень по пьесе Е.Шварца). Известны киносказки Б.Рыцарева, иронические вариации на сказочные темы кинорежиссера М.Захарова.
Собиратели сказок
Ярким собирателем был А.Н.Афанасьев. С 1857 -1862 годы им создаются уже сборники русских народных сказок. Уже в 1884 году вышел сборник собирателя Д.Н. Содовникова » Сказки и предания Самарского края». В этом сборнике были записаны 72 текста от сказочника Абрама Новопльцева — простого крестьянина из села Повиряськино Ставропольского уезда. В репертуар данного сборника вошли сказки: волшебные, бытовые, сказки о животных.
В советский период начали выходить сборники, представляя репертуар одного исполнителя. До нас дошли такие имена: А.Н. Барышниковой (Куприяниха), М.М. Коргуева ( рыбака из Астраханского края), Е.И. Сороковикова ( сибирского охотника) и др.
В словаре В.И. Даля сказка определяется как «вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание». Там же приводится несколько пословиц и поговорок, связанных с этим жанром фольклора:
Либо дело делать, либо сказки сказывать. Сказка складка, а песня быль. Сказка складом, песня ладом красна. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не дочитав сказки, не кидай указки. Сказка от начала начинается, до конца читается, а в серёдке не перебивается.
Уже из этих пословиц ясно: сказка — вымысел, произведение народной фантазии — «складное», яркое, интересное произведение, имеющее определённую целостность и особый смысл.
Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.
Методика работы со сказкой в детском саду
Сказка – это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром человека, мощный инструмент развития. Сказка окружает нас повсюду. Интерес психологов к сказке существует давно.
Конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно – образного и наглядно – действенного постижения мира человеческих отношений, что вполне адекватно психическим особенностям дошкольников.
Сказка может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить критически воспринимать окружающее.
Понимание и проживание через сказку содержания свойственного внутреннему миру любого человека, позволяют ребёнку распознать и обозначить собственные переживания и собственные психические процессы, понять их смысл и важность каждого из них.
Русские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. К.И.Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – «воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою».
В действиях и поступках сказочных героев противопоставляется трудолюбие – ленивости, добро – злу, храбрость – трусости. Симпатии детей всегда привлекают те, кому свойственны: отзывчивость, любовь к труду, смелость. Дети радуются, когда торжествует добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.
Е.А.Флерина, крупнейший педагог в области эстетического воспитания, видела преимущество рассказывания перед чтением в том, что рассказчик передает содержание так, будто бы он был очевидцем происходящих событий. Она считала, что рассказыванием достигается особая непосредственность восприятия.
Искусством рассказывания сказки должен владеть каждый воспитатель, т.к. очень важно передать своеобразие жанра сказки.
Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку.
Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако опыт опыту рознь. Можно просто рассказать историю, которая недавно произошла. А можно не просто рассказать интересный сюжет, но и сделать определенный вывод, или задать вопрос, который бы подтолкнул слушателя к размышлениям о жизни. Именно такие истории являются особенно ценными, терапевтическими. В обычаях, сказках, мифах, легендах описаны основы безопасной и созидательной жизни. Главное – заронить в душу ребенка зерно осмысления. А для этого необходимо оставить его с вопросом внутри.
Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмысливать сказки, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки никогда не уведут ребенка в реальность. Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать активным созидателем. Когда начинаешь разгадывать сказочные уроки, оказывается, что сказочные истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказке можно найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок накапливает в бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть активизирован в случае необходимости, а не будет ситуации – так и останется в пассиве. И если с ребенком размышлять над каждой прочитанной сказкой, то знания, зашифрованные в них, будут находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в сознании. Тем самым удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать важнейшие ценности.
Чтобы развить определённые качества и способности с помощью сказки, надо уметь преподать материал, чтобы принести наибольшую пользу детям. В книге Сухомлинского «Сердце отдаю детям» есть рекомендации, как следует читать детям. Сказки дети должны слушать в обстановке, которая помогает более глубокому восприятию сказочных образов, например, в тихий вечер в уютной обстановке, на природе. Рассказы должны быть яркими, образными, небольшими. Нельзя давать детям множество впечатлений, так как может притупиться чуткость к рассказанному. Не следует много говорить. Ребёнок должен уметь не только слушать слово воспитателя, но и молчать. Потому, что в эти мгновения он думает, осмысливает новое. Поэтому воспитателю надо уметь дать ребёнку подумать. По мнению Сухомлинского, это одно из самых тонких качеств педагога.
Сказки нужно использовать в воспитании детей, но возникает одна проблема: не затруднит ли сказка познания истинных закономерностей реальной жизни. Сухомлинский считает, что дети прекрасно понимают, что является волшебством, а что происходит в реальной жизни. Например, самый распространенный вид сказок, который рано становится известным ребенку,— сказки о животных. Звери, птицы в них и похожи, и не похожи на настоящих. Идет петух в сапогах, несет на плече косу и кричит во все горло о том, чтобы шла коза вон из заячьей избушки, иначе быть дерезе зарубленной («Коза-дереза»). Волк ловит рыбу — опустил хвост в прорубь и приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала и велика! («Лиса и волк»). Лиса извещает тетерева о новом «указе» — тетеревам без боязни гулять по лугам, но тетерев не верит («Лиса и тетерев»). Легко усмотреть во всех этих сказках неправдоподобие: где это видано, чтобы петух ходил с косой, волк ловил рыбу, а лиса уговаривала тетерева спуститься на землю? Ребенок принимает выдумку за выдумку, как и взрослый, но она его привлекает необычностью, непохожестью на то, что он знает о настоящих птицах и зверях. Больше всего детей занимает сама история: будет ли изгнана коза-дереза из заячьей избушки, чем кончится очевидная нелепость ловить рыбку хвостом, удастся ли хитрый умысел лисы. Самые элементарные и в то же время самые важные представления — об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности— ложатся в сознание и определяют для ребенка нормы поведения. Детям надо пережить борьбу зла и добра, понять, что в сказке отражены представления человека о правде, чести, красоте. Без сказок мир стал бы неинтересным.
В сказках много юмора. Это их чудесное свойство развивает у детей чувство реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в движение душевные силы. Однако сказки знают и печаль. Как резко контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. Ребенка легко утешить, но легко и огорчить. Плачет заяц у порога своей избушки, его выгнала коза. Ребёнку тоже грустно, ему жаль зайку. Петух прогнал козу — радости зайца нет конца. Весело и слушателю сказки. Малыш с горячим сочувствием следит за всем, о чем говорится в сказке: радуется победам Ивана-царевича, чудесам Василисы Премудрой, огорчается их невзгодам.
В особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и понятные ему обстоятельства. Действие в таких сказках часто совершается в семье. Говорили дочке отец с матерью, чтобы не ходила со двора, берегла братца, а девочка заигралась-загулялась— и братца унесли гуси-лебеди («Гуси-лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры — напился водицы из козьего копытца и стал козликом («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). Добрая сирота терпит гонения злой мачехи («Хаврошечка», «Морозко»). В развитие действия неизменно вносятся этические мотивировки: несправедливость становится источником страданий и злоключений, благополучные концовки всегда устраняют противоречия нормам справедливости. Сказка учит ребенка оценивать дела и поступки людей в свете правильных понятий о том, что хорошо и что плохо.
В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все кончается благополучно благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра над злом всегда активизирует чувства ребенка. Потребность в справедливости, стремление преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его мироощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жизненной стойкости и качеств борца за справедливость.
В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. Сказки для данной категории должны быть простыми в восприятии, с ярким динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Преимущество занимают сказки о животных. Знакомя малышей со сказкой, необходимо каждый раз напоминать о том, что это – сказка. И постепенно малыши запоминают, что «Курочка Ряба», «Теремок» — это сказки. Перед чтением сказки можно провести дидактическую игру с участием героев сказки. Во время чтения воспитатель должен следить за реакцией детей. После чтения педагог спрашивает, понравились ли детям герои сказки. Дети данного возраста легко запоминают сказки.
В средней группе каждый месяц следует знакомить дошкольников с новой сказкой. Перед чтением сказки проводится соответствующая подготовка. В начале года детей следует знакомить с новыми словами, давая им объяснения: лавочка- деревянная длинная скамейка, скалочка- деревянная каталочка, которой раскатывают тесто ( в сказке «Лисичка со скалочкой») и др. Во втором полугодии с помощью упражнений необходимо выяснить, как дети понимают те или иные обороты речи, могут ли заменить слово
синонимом. Например: сдуру- не подумав, бранится- ругается, насилу нашел – долго искал ( сказка «Лиса и козел»; кинулась туда- сюда – в разные стороны; кликала- звала ( «Гуси – лебеди»).
После предварительной словарной работы воспитатель сообщает детям, что новые слова, услышанные ими сегодня, живут в сказке, которую он сейчас расскажет. После прослушивания сказки желательно провести с детьми беседу по её содержанию. Можно задать несколько вопросов. Чтобы ещё раз подчеркнуть идею сказки, можно вторично рассказать сюжет, содержащий данную идею.
В средней группе следует учить детей правильно оценивать поступки героев, самостоятельно находить нужные слова и выражения.
В старшей группе дошкольники учатся определять и мотивировать свое отношение к героям сказок (положительное или отрицательное). Дети этого возраста самостоятельно определяют вид сказки, сравнивают их между собой, объясняют специфику.
Например, на занятии по сказке «Хаврошечка» воспитатель сначала рассказывает сказку, а затем беседует с детьми: «Почему вы думаете, что это сказка? О чем в ней говорится? Кто из героев сказки вам понравился и чем? Вспомните, как начинается сказка и как заканчивается? Кто запомнил разговор Хаврошечки с коровушкой и может повторить его?» Эти вопросы помогают дошкольникам глубже понять основное содержание сказки, определить характер героев, выявить средства художественной выразительности (зачин, повторы, концовка).
В подготовительной к школе группе особую роль играет анализ текста сказки. При первом чтении важно показать сказку как единое целое. При вторичном ознакомлении следует обращать внимание на средства художественной выразительности. Здесь особую нагрузку несут вопросы: » О чем говорится в сказке? Что вы можете рассказать о героях сказки? Как вы оцениваете поступок того или иного действующего лица? Что произошло с героями сказки?». С помощью вопросов можно выяснить какие средства выразительности используются в сказке. Необходимо давать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов. Знакомство со сказкой «Снегурочка» можно начать с беседы. «Кто из вас любит зиму? Почему?- спрашивает педагог у детей. – Что вы зимой лепили из снега? А сейчас я вам прочитаю про девочку, которую звали Снегурочка». Затем педагог задает детям следующие вопросы: » Что я прочила рассказ или стихотворение? А как вы узнали, что это сказка? Кто вам понравился в сказке? Почему? Какая была Снегурочка? Как вы думаете, почему её так назвали?».
Таким образом, значение сказок в воспитании чувств у ребёнка велико. Сказка – источник детского мышления, а мысль дошкольника неотделима от чувств и переживаний.
Заключение
Каждая эпоха создала свои сказки. В них запечатлелось все многообразие человеческих отношений. Именно в народных сказках к нам дошли смех и слезы, радость и страдание, любовь и гнев, правда и кривда, вера и безверие, трудолюбие и лень, честность и обман. Известные русские поэты и писатели восхищались народными сказками. А.С. Пушкин, говорил, что каждая из них является настоящей поэмой. В.Г. Белинский назвал их драгоценными историческими документами и подчеркивал их социальное значение. А.М. Горький писал о такой важной особенности русской сказки, как способность «заглядывать наперед».
Источники:
1.Круглов Ю. Г. Русские народные сказки: Кн. для самост. чтения. 4 — 6 кл. Сост., автор предисл., примеч., словаря Ю. Г. Круглов. — М.: Просвещение, 1983. — 320 с, ил. — (Школ. б-ка).
2.http://www.testsoch.info/istoriya-vozniknoveniya-russkix-narodnyx-skazok-xudozhestvennyj-analiz-detskie-narodnye-skazki/
3. http://community.livejournal.com/navoslavie/profile
4. http://www.bibliotekar.ru/kBilibin/index.htm
5. Русский Биографический Словарь А. А. Половцова.
6.Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. – Ростов-на-Дону, 1996.
7.Т. Аникин В. П., “Русская народная сказка”, М.:Художественная литература, 1984;
Сказка – великая
духовная культура народа,
которую
мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается
перед нами
тысячелетняя история народа.
(А.Н. Толстой)
Каждая эпоха создавала
свои сказки. Именно в народных сказках учат отличать добро от зла, радость от
печали, правду от неправды, трудолюбие от лени, честность от обмана. Слушая
сказку переживаешь и радуешься вместе с ее героями развиваешь ум и фантазию.
Сказки возбуждали
интерес в людях к дальним странам, к путешествиям, в них можно было узнать: об особенностях
каждой нации, ее взглядах на жизнь, историю, явлениях природы.Сказки воспитывали
нравственность в детях.
Сказка пришла на смену
мифу. В X—XI веках в Киевской Руси появилась
сказка для всех возрастных категорий и лишь в XX веке сказка стала принадлежностью
детской аудитории.
Сказка – древнейший
жанр устного народного творчества, который никогда не создавался специально для
детей. Корни русской сказки уходят в славянское язычество. Церковь боролась с
языческими верованиями, а заодно и с народными сказками. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал
специальную грамоту с требованием положить конец «сказыванию» и
«скоморошеству».
Однако в XIX
веке И.М. Снегирев, П.В Киреевский, В.И. Даль, А.Н. Афанасьев, И.А.
Худяков, П.А. Бессонов стали собирать и сохранять устное народное творчество. И
благодаря этим подвижникам, сегодня мы может наслаждаться самобытными и
уникальными произведениями русского народа.
Предлагаем посмотреть
вашему вниманию 17 сказок Александра Роу.
Александр Роу
(1906-1973) – советский кинорежиссер, народный артист РСФСР, автор 17
художественных фильмов. А. Роу – сын ирландца и гречанки, но впитал дух земли
русской и смог перенести его на большой экран. Киносказки Роу добрые и
поучительные, несущие миру глубинную народную мудрость.
https://pikabu.ru/story/17_skazok_aleksandra_rou_5597784
Рейтинг:
.
Оценили:
.
Сказками называются общенародные устные произведения, в которых изображаются приключения фантастических героев. В древности они назывались «баснями», «байками». Рассказчики сказок до сих пор называются в народе «баянами», «баюнами», «баутчиками» и «бахарями.»
Сказки в народном быту служат в настоящее время для забавы, времяпровождения. Народ не относится к ним с такой серьезностью, которая проявляется у него в отношениях к песне. Такое различие в отношениях к этим видам устного творчества выражено самим народом словами: «сказка — складка, песня — быль». Этими словами народ проводит резкую черту между обоими видами творчества: сказка, по его убеждению — порождение фантазии, песня — отражение былого, того, что было народом на самом деле пережито.
Сказки очень рано превратились у нас в источник забавы. В «Cлове о богаче и бедняке» (XII век) описывается, как забавляется древнерусский богач на сон грядущий: домочадцы и слуги «ноги ему гладят… инии гудуть, инии бают (подразумевается сказки) ему…». Значит, уже в глубокой древности происходило то, что нам известно из позднейшей эпохи крепостного права XVIII-XIX века.
Но сказки, вопреки народному убеждению, не составляют продукта чистой фантазии: в них отразились быт и воззрения очень древнего происхождения, но впоследствии народом забытые. Так, в сказках встречается отражение черт, характеризующих грубость древнего быта: людоедство (Баба-яга), разрубание тела на мелкие части, вынимание сердца и печени, выкалывание глаз, выбрасывание стариков, новорожденных, больных и слабых на голодную смерть, казнь осужденных при помощи привязывания их к хвостам лошадей, выпускаемых на свободу в поле, закапывание в землю живыми, надземное погребение (на высоких столбах), клятвы землей.
Именно, как продукт творчества очень древних, по преимуществу языческих, времен, сказки подвергаются так же, как и другие виды устного творчества, преследованию со стороны духовенства уже очень рано. В XI веке запрещается «баять сказки, кощюнить» (рассказывать смешное) подвергаются порицанию рассказчики сказок, «празднословци», «смехословци». Даже в XII веке запрещается басни «баять» и т.д. В XVII веке осуждаются те, которые «сказки сказывают небывалые».
Несмотря на эти запрещения, сказки в устах народа уцелели, конечно, в измененном виде, до сих пор.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ РУССКИХ СКАЗОК
Сравнение по содержанию русских сказок с сказками других народов показало чрезвычайное сходство их. Так, напр., в русской сказке об «Одноглазом великане» рассказывается почти то же самое, что известно нам из «Одиссеи» Гомера о циклопе Полифеме, Одиссее и его спутниках; таким образом, русская сказка чрезвычайно похожа по сюжету на древнегреческий миф. Замечательно, что сходны сказки не только у народов ариоевропейских: многие сказки, различаясь в подробностях, сходны между собой по существу у народов самых разнооборазных рас: ариоевропейской, монгольской, даже черной.
Сходство сказок у разнообразных народов объясняется следующиими причинами: 1) сходством условий жизни у разнообразных народов; при таком сходстве творческая мысль у народов, отделенных друг от друга пространством и временем, должна была приходить к однородным результатам независимо друг от друга; 2) сходство сказок собственно у ариоевропейских народов отчасти может быть объяснено сохранением отдельными племенами поэтических традиций, бывших некогда общим достоянием ариоевропейской расы до ее распадения на отдельные племена; 3) сходство сказок ариоевропейских народов других рас может быть объяснено также взаимными заимствованиями, совершавшимися под влиянием мирных и военных отношений различных рас.
Установлено в настоящее время несколько путей, по которым сюжеты сказок могли от одних народов попадать к другим. Два ученых, Бенфей и Либрехт, полагают, что центром, откуда сказочные сюжеты распространялись во все стороны, была Индия. Бенфей перевел на немецкий язык сборник индийских сказок «Панчатантра» («Пятикнижие»), снабдив его обширным комментарием. Распространение сказок отсюда он связывает в распространением буддизма: именно из Индии сюжеты сказок вместе с буддизмом попали в Тибет, к монголам; отсюда монголами они были занесены в Европу, восточную часть которой они завоевали в половине XIII века; они передали сказки русским, а от русских они перешли к западным европейцам. Таков один из возможных путей передачи сказок, намеченный наукой. Либрехт намечает другой путь: из Индии сказки перешли на юг к арабам; от последних в Византию, а из Византии в Европу, восточную и западную. Таков другой путь заимствований. Но если возможно было заимствование сказочных сюжетов русскими и западно-европейцами из Индии через посредство монголов и Византии, то не менее вероятным представляется и заимствование сказочных сюжетов индийцами, монголами и арабами теми же путями у европейских народов. Завоевание Малой Азии, Ирана и части Индии Александром Македонским должно было подготовить возможность заимствований у греков указанными народами.
Переходы сказочных сюжетов от одних народов к другим, конечно, сопровождались их изменением и смешиванием друг с другом. Поэтому отличить, что в сказке принадлежит местному народому и что заимствовано, трудно: сказки по своим сюжетам и обработке — международны и лишь слегка носят национальный отпечаток.
ДЕЛЕНИЕ СКАЗОК
Сказки делятся на следующие три разряда: 1) сказки о животных, 2) сказки со следами мифологии и 3) сказки бытовые.
СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ
Сказками о животных (животным эпосом) называются такие, в которых действующими лицами являются дикие звери, реже — домашние животные. Эти сказки должны были возникнуть в ту эпоху, когда основные занятия заставляли человека часто сталкиваться со зверями, т.е. в эпоху звероловства и скотоводства. В эту эпоху борьба со зверями была очень опасна, вследствии плохого вооружения человека; человек казался самому себе слабым сревнительно с целым рядом хищных зверей; наоборот, многие звери должны были представляться ему необыкновенно могучими. Под влиянием анимистического мировоззрения человек приписывал зверям человеческие свойства даже в преувеличенных размерах: крик зверя или птицы был человеку непонятен, но человеческая речь зверям и птицам понятна; зверь и птица знают больше, чем человек, и понимают стремления человека. В эту эпоху возникло убеждение в возможности превращения в зверя и обратно. Рост человеческого могущества должен был постепенно ослаблять эти взгляды и убеждения, и это должно было отразиться на содержании сказок о животных.
Главными действующими лицами русских сказок являются лиса (в индийских сказках вместо лисы — шакал), волк, медведь, заяц, коза и козел, бык, лошадь, собака, ворон, петух. Наиболее часто героями сказок о животных являются лиса и волк. Объясняется это тем, что, во-первых, с ними человеку чаще всего приходилось сталкиваться в хозяйственной деятельности; во-вторых, эти звери по величине и силе занимают в животном царстве середину; наконец, в третьих, благодаря предыдущим двум причинам, с ними человек имел возможность очень близко познакомиться.
Лиса послужила предметом обширного эпоса в Западной Европе: Во Франции этот эпос называется Roman de Renart, а в Германии — Reinhart Fuchs. И в западно-европейском животном эпосе, и в наших сказках, лиса одинаково представляется зверем пронырливым, коварным, хитрым, своей хитростью берущим перевес над другими зверями, более сильными, чем она — над волком и медведем. В наших сказках лиса носит ряд прозвищ: кума-лиса, лисичка-сестричка, лиса-Патрикеевна, Лизавета Ивановна и т.д.
Волк выступает уже с иными чертами: он зол, жаден, прожорлив, но глуп и недогадлив; лиса часто подшучивает над ним и проводит его, но волк всякий раз снова дается ей в обман.
И волк и лиса выступают в сказках с резко определенными чертами. Гораздо менее определенным образом является медведь: отличительная черта его — недогадливость.
СКАЗКИ С СЛЕДАМИ МИФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Сказки со следами мифических представлений это те, в которых изображается борьба светлого божества с темными, иначе говоря, смена времен года, дня и ночи с анимистической точки зрения.
В некоторых сказках этого разряда прямо идет речь о силах природы, так как они называются собственными именами. В сказке об Иване Белом Ветер, Дождь и Гром женятся на трех сестрах-царевнах; брата их царевича они учат разным мудростям: Гром учит его грохотать, Дождь — лить потоки и топить города и села, Ветер — дуть; в сказке о Федоре Тугарине рассказывается о том, как Ветер, Дождь и Гром сватаются за красавиц и уносят их с собой. В других сказках герои и героини изображаются с солнцем, месяцем или звездами на голове, лице и на лбу: это указывает на связь этих образов с небесными светилами.
Но обыкновенно в сказках с мифическим содержанием борьба светлого божества с темными изображается при помощи фантастических образов. Замирание природы осенью и зимой представляется в образе похищения красавицы какими-нибудь чудовищами, драконами, или в образе усыпления, окамениния, околдования красавицы. Туманы и тучи, закрывающие солнце и препятствующие его благотворному воздействию на земную красавицу-природу, олицетворяются в образе Змея; стужа и холод представлены в образах Мороза или, чаще, Кащея-бессмертного, а зима, заставляющая всю природу окостенеть, в образе Бабы-яги костяной ноги. Герои этих сказок ставят себе целью возвращение похищенных красавиц или их оживление, если они окаменели, уснули и т.д., т.е. оживление природы. Эта цель достигается при помощи особых диковинных предметов или существ: так, в сказках упоминаются такие предметы, как золотые яблоки, конь златогривый, олень-золотые рога, свинка-золотая щетинка, жар-птица, которые, по-видимому, намекают на золотые лучи солнца; другой разряд диковинок, упоминаемые в сказках, как, напр., сапоги-скороходы, ковер-самолет, вероятно, означает ветер или быстро несущиеся тучи; мертвая и живая вода, оживляющая мертвых, — это роса, весенние и летние дожди, оживляющие природу; скатерть-самобранка — это образ обилия, наступающего в природе весной и летом.
В сказках с мифическим содержанием главными представителями темных сил являются: 1) Баба-яга и 2) Кащей-бессмертный
-
БАБА-ЯГА
Баба-яга изображается в наших сказках двояко: или как злое существо, как людоедка, или, чаще, как помощница герою.
Баба-яга костяная нога живет на севере среди свирепых морозов; она смугла, глаза ее, как уголья; когда она несется, земля трясется; едет она на железной ступе, которую она погоняет железным толкачем, помелом след заметает. Охотника Баба-яга превращает в камень. Она живет в лесу или в избушке на курьей ножке, причем избушка может по слову героя поворачиваться к лесу задом, а к нему передом; или она живет в тереме, огороженном тыном, с воткнутыми на нем человеческими головами; вместо дверей у ворот — ноги человеческие, вместо запоров — руки, вместо замков — рот с острыми зубами: это — женихи, сватавшиеся за дочерей Бабы-яги и павшие жертвой ее людоедства. У себя Баба-яга или лежит или прядет шерсть; она владеет ветрами и чудными конями.
Баба-яга — вещая ведьма: она знает прошедшее и будущее, она обладает способностью производить чары. Она знает, где скрыты красавицы, которых ищут герои сказок, как достать те диковинки, которые им нужны. Во многих сказках она дает герою советы и прямо помогает ему. Баба-яга дает герою клубочек, который может докатиться, если его бросить, до того места, которое герою нужно; иногда, при помощи этого клубочка, можно спастись от преследования врага: если его бросить, он превращается в огромную гору, мешающую врагу догнать героя. Кроме клубка Баба-яга иногда снабжает героя полотенцем, гребнем и щеткой; если по дороге бросить полотенце, то образуется быстрая, глубокая река; гребень может превратиться в непроходимый дремучий лес, щетка — в огненную реку. Иногда эти предметы служат герою для защиты от самой Бабы-яги.
Образ Бабы-яги встречается и в сказках других народов: у тюрков ей соответствует Шамус-баба, у литовцев — Лаума. Шамус-баба представляется с веревкой из сухих жил, с железным молотком и железными клещами; Лаума ездит в железной тележке с проволочным кнутом. Обе эти старухи изображены людоедками: из трех героев сказки двух она съедает, причем из их спин она вырезывает себе ремни.
-
КАЩЕЙ-БЕССМЕРТНЫЙ
- Кащей-бессмертный — образ чудовища, похищающего красавицу. Герой сказки пытается освободить ее и часто гибнет. Иногда с помощью самой красавицы герою удается узнать, как можно погубить Кащея-бессмертного; оказывается, на море-океане находится осров, на острове растет дуб, под дубом зарыт сундук, в сундуке находится заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце заключается смерть Кащея. Герой добывает яйцо, приходит к Кащею, ударяет его яйцом в лоб, и Кащей умирает. Яйцо, как символ жизни, играет важную роль у тюрко-финских народов. Так, у чуваш, когда умирает человек, разбивают сырое куриное яйцо. По-видимому, образ яйца, в котором заключается душа Кащея, а затем и самое имя Кащей навеяны отношениями русских к племенам тюрко-монгольским.
Сюжет, связанный с образом Кащея-бессмертного, — один из древнейших. В египетской сказке о двух братьях, Анупу и Битью, записанной за 14 веков до Р.Х. для сына фараона Менефта, рассказывается, что сердце Битью было скрыто в цветке акации. Такой же мотив разрабатывается в сказках индийских, кавказских, немецких, норвежских, зулусских, и т.д.
Из сюжетов, разработанных сказками с мифическим содержанием, наиболее интересны следующие: 1) борьба с змеем, 2) превращение людей: царевна-Лягушка, сестра Аленушка и братец Иванушка, и т.д., 3) выполнение трудных задач: герои должны добыть красавиц, чудесные предметы, построить в одну ночь дворцы и сады и т.д. В этом им помогают жена, мать, девушка фразой «утро вечера мудрее: ложись спать, — все будет исполнено».
БЫТОВЫЕ СКАЗКИ
Бытовыми сказками называются такие, в которых отражаются черты народного быта. Они делятся на два разряда: к первому принадлежат сказки, в которых есть следы мифических или вообще древних воззрений; ко второму относятся сказки, в которых есть следы христианских воззрений и которые по своему происхождению относятся к более поздней эпохе. Бытовые сказки включают в себя следующие темы: брак близких родных, падчерица и мачеха, младший брат и старшие братья, о правде и кривде, и т.д.
ЗАГАДКИ
Загадками называются краткие произведения, в которых о каком-нибудь предмете говорится аллегорически, т.е. при посредстве образов, имеющих лишь очень отдаленное сходство с предметом. Цель загадок состоит в том, чтобы их отгадывать.
Наши сказки изложены большей частью стихотворным размером, часто с рифмами. Умение загадывать и отгадывать загадки считалось в древности признаком глубокомыслия, особой мудрости. Так, на Востоке состязались между собой в мудрости при помощи загадок Соломон и царица Савская. У древних греков загадывает загадки чудовище Сфинкс. В скандинавском эпосе «Эдде» состязаются в мудрости, при помощи загадок, боги с великанами. У нас загадки задают Баба-яга и русалки. Загадывание и отгадывания загадок встречаются в индийской и финской поэзии. Умение отгадывать загадки в древности могло сыграть в жизни отгадчика важную роль: обреченный на казнь иногда получал жизнь под условием разгадать загадку; в сказках нередко добрый молодец может жениться на царевне, если разрешит заданную царем загадку; в песнях русалка загадывает встречному загадки, и если он не угадает, она может защекотать его до смерти.
Загадки — произведения весьма древнего происхождения. Но таких до нас дошло мало. Многие из загадок обязаны своим происхождением письменности. Особенно много таких загадок у нас должно было появиться с того времени, когда в нашу литературу проникли переводные произведения, заключавшие в себе мудреные «вопросы» и «ответы» на них, т.е. с XI в.
Вероятно, к числу древних загадок надо отнести те, которые предлагаются русалками в песнях: «Да что растет без коренья (камень), да что цветет без цвета (папоротник), да что бежит без повода (вода)».
Возможно, что древними загадками являются и те, в которых речь идет о стихиях природы и которые, следовательно, были навеяны мифическими представлениями. Таковы следующие загадки: «Что без огня горит» (солнце). — «Красна девушка по небу ходит» (солнце), — «Стоит дерево середь села, а в каждой хатци по гиляци» (по ветки, — солнце), — «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе сидит птица-веретеница, никто ее не поймает — ни царь, ни царица, ни красная девица» (солнце на небе), — «Сито свито, золотом покрыто; кто ни взглянет, тот заплачет» (солнце), «Из окна в окно — золотое веретено» (солнечный луч). — «Два быка бодутся, вместе не сойдутся» (небо и земля). — «Поле полянское, стадо лебедянское, пастух вышинский» (месяц, пасущий звездное стадо). — «Шли козы мостом, увидели зарю, попадали в воды» (звезды). — «Черная корова весь мир поборола» (ночь). — «Заря-заряница, красная девица, по полю ходила, ключи обронила, месяц видел, солнце скрало»(роса). — «Конь бежит, земля дрожит» (гром). — «Тур ходит по горам, турица-то по долам, тур свистнет, турица-то мигнет» (гроза).
Некоторые загадки имеют отношение к хозяйственной деятельности древне-русских славян. «Месяц Новец днем в поле блестит, к ночи на небо слетел» (серп). — «Баба-яга вилами нога, весь мир кормит, сама голодна» (соха). — «Два корабля идут с Божьего суда, а третий на Божий суд» (снопы на телеге).
Загадки на ряду с большинством других устных произведений преследовались духовенством. По окружной грамоте Алексея Михайловича загадывающие загадки также осуждаются, как и поющие бесовские песни.
Первоначально пословицы входили в состав небольших рассказов о каких-нибудь событиях, сказок, песен и представляли метко и кратко выраженное обобщение того, о чем шла речь в рассказе или песне. Отличаясь часто мерностью склада, имея нередко созвучия в начале и в средине (аллитерацию) или в конце (рифму), эти обобщения легко запоминались, выделялись из рассказов и даже переживали в народной памяти самые рассказы. Примерами пословиц, до сих пор связанных с рассказами или песнями, могут служисть следующие: «В горе жить не кручинну быть, а нагому ходить — не соромиться» (из песни), «от радости кудри вьются, в печали секутся», «нос вытащит, хвост увязит, хвост вытащит, нос увязит» (из сказки о журавле), «и ракитовый куст за правду стоит» ( из сказки об
убитой сестре и дудке), «битый небитого везет» (из сказки), «то старина, то и деяние» (из старины).
Пословицы в народном быту играют важную роль: они служат руководящими принципами деятельности; на них ссылаются в оправдание своих поступков и действий, ими пользуются для обвинения или обличения других. Важное значение пословицы народ выразил в пословицах же: «Старинная пословица во век не сломится», «старинная пословица не мимо молвится», «добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз», «на пословице суда нет».
Пословицы касаются исторических событий, отражают древний быт, верования языческие и христианские, семейный и общественный быт, мораль, и т.д.
ПОСЛОВИЦЫ
Пословицами называются краткие изречения, в которых высказывается суждение о каком-нибудь предмете или событии. В древности пословицы назывались «притчами».
-
ПОСЛОВИЦЫ, ОТРАЗИВШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ. Этот разряд пословиц обнимает исторические события с древнейших времен и до позднейших. Примеры: «Погибоша, аки Обри (авары), их же несть ни поемени, ни наследства» (в летописи), «беда, аки в Родне» (голод в 980 г. в Родне), «Руси веселье пити, не может без того быти» (слова Владимира магометанским миссионерам под 986 г.), «Путята крести (новгородцев) мечем, а Добрыня огнем» (о крещении новгородцев, оказавших сопротивление), «не погнетши (не раздавивши) пчел, меду не едать», говорил волынско-галицкий князь Роман о своевольных боярах (под 1231 г.), «не во время гость хуже татарина», «тут словно Мамай воевал», «каков хан, такова и орда» (эти пословицы отражают татарщину), «семеро пойдут, Сибирь возьмут» (после завоевания Сибири казаками с Ермаком во главе), «вот тебе бабушка и Юрьев день» (по поводу запрещения при Борисе крестьянам перехода к другим помещикам даже в осенний Юрьев день), «пропал, как швед под Полтавой» (после поражения шведов под Полтавой, «голодный француз и вороне рад» (во время сидения французов в Москве).
Историческое содержание имеют и следующие пословицы: «На одном вече, да не одни речи» (отголоски вечевого образа правления), «Братчина судит, как судья» (судебная власть общины), «Брат брату головой в уплату» (круговая порука родных за преступления, совершенные одним из них), «На деле прав, да на дыбе виноват» (пытка), «Душа согрешила, а ноги виноваты» (пытка, правеж), «Лежачего не бьют» (во время кулачных боев), «По имени тебе место дать, по отчеству пожаловать» (местничество).
-
ПОСЛОВИЦЫ, ОТРАЗИВШИЕ ЯЗЫЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ. Примеры: «Солнце днем работает, а ночью отдых берет» (анимистичекое воззрение на солнце), «Который бог замочит, тот и высушит» (многобожие), «Моленый баран отлучился, ин гулящий прилучился» (намек на жертвоприношение), «Жил в лесе, молился пням» (почитание лешего), «Храбер, силен, а все с лешим не справишься», «Был бы бес, будет и леший», «В лесу леший, а дома мачеха», «Егорий да Влас всему хозяйству глаз» (почитание Волоса), «Что у волка в зубах, то Егорий дал», «На печи сидел, кирпичам молился» (почитание домового), «Домовой не полюбит (скотину), не что возьмешь», «Не все то русалка, что в воду ныряет», «Старый ворон мимо не каркнет», «Всякому бы ворону на свою голову каркать», «Венчали вокруг ели, а черты пели» (брак без церковного обряда), «Взял боженьку за ноженьку, да и об пол» (низвержение кумиров).
-
Под влиянием духовенства на языческих богов стали смотреть, как на нечистую силу, на бесов, дьявола, сатану. Это отразилось в следующих пословицах: «Из пуста дупла либо сыч, либо сова, либо сам сатана» (т.е. леший), «Всякому черту вольно в своем болоте бродить» (водяной), «В тихом омуте черти водятся).
Некоторые пословицы выражают веру в судьбу: «Сужена-ряжена не обойдешь и на коне не объедешь», «Бойся не бойся, а року не миновать», «Где нет доли, там и счастье не велико», «Не родись ни хорош, ни пригож, родись счастлив», «Не страшны злыдни за горами», «Деньги идут к богатому, злыдни — к убогому», «От лиха не уйдешь». -
ПОСЛОВИЦЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ. Эти пословицы выражают главным образом земледельческий труд. Примеры: «Не поле кормит, а нива», «Одним конем всего поля не изъездишь», «Рыба-вода, ягода — трава, а хлеб — всему голова», «Не беда, что в ржи лебеда, а беды, как не ржи, ни лебеды», «Мужик умирать собирайся, а земельку паши», «Дорогой товар из земли растет».
-
ПОСЛОВИЦЫ, ОТРАЗИВШИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОВАНИЯ Примеры: «Бог не в силе, а в правде», «Без Бога ни до порога, а с Богом хоть за море», «Коли Господь не сохранит града, то всуе вся стража и ограда», «Золото огнем искушается, а человек напастьми», «Притча во языцех» (из псалтири), «Смирен духом, да горд брюхом», «На небо поглядывает, а на земле пошаривает», «Густо кадишь, святых зачадишь», «Спереди — блажен муж, а сзади — вскую шаташася» ( о людях, внешним благочестием прикрывающих дурные делишки).
-
ПОСЛОВИЦЫ, ОТРАЗИВШИЕ СЕМЕЙНЫЙ БЫТ. Примеры: «Хозяин в дому, как хан в Крыму», «Как Бог до людей, так отец до детей», «В девках сижено — горе мыкано, замуж выдано — вдвое прибыло», «За чужую душу одна сваха божится», «В лесу медведь, а дома — мачеха», «Жене спускать — добра не видать», «Люби жену, как душу, тряси ее, как грушу», «Кто любит , тот и лупит » (жену), «Жену не бить — милу не быть».
-
ПОСЛОВИЦЫ, ОТРАЗИВШИЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ — МИРА. Примеры: «Что мир порядил, то Бог рассудил», «Ты за мир, и мир за тебя», «Мирская правда крепко стоит», «Мир — велик человек», «Мир за себя постоит», «На мир и суда нет», «Мир заревет, так леса стонут».
-
ПОСЛОВИЦЫ, ОТРАЗИВШИЕ СТАРИННОЕ CУДОПРОИЗВОДСТВО. Примеры: «Судья, что плотник: что захотел, то и вырубил», «Что мне законы: мне судьи знакомы», «Не бойся суда — бойся судьи», «Лошадь с волком тягалась — хвост да грива осталась», «Наказал Бог народ — послал воевод», «Конь любит овес, а воевода — принос».
-
ПОСЛОВИЦЫ О БОГАТСТВЕ И БЕДНОСТИ. Примеры: «Деньги, что каменья — тяжело на душу ложатся», «Богатый совести не купит, а свою губит: залезет в богатство, забудет и братство», «Гол да наг — перед Богом прав», «Богатый бедного не кормит, а все сыты бывают», «Ел бы богатый деньги, кабы убогий его хлебом не кормил», «Коли деньги говорят, тогда правда молчит», «Не проси у богатого, проси у тароватого», «В чужих руках ломоть велик кажется, а как нам достанется, так и мал покажется.»
-
ПОСЛОВИЦЫ. ОТРАЗИВШИЕ НРАВСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ. Примеры: «На правду, что на солнце — во все глаза не взглянешь», «Засыпь правду золотом, а она всплывет», «Правду со дня моря выносит», «Кривдой весь свет пройдешь, да назад не воротишься», «Лучше кривду терпеть, чем правдой вертеть», «Была, сказывают, и правда на свете, да по селочам в разновеску ушла», «Правда не на миру стоит, а по миру ходит», «Без правды не жить, да и о правде не жить», «Правда в дело не годится, а в кивот поставить да молиться», «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», «Ретивая лошадка долго не живет».
-
ПОСЛОВИЦЫ, РИСУЮЩИЕ ХАРАКТЕРЫ ЛЮДЕЙ. Примеры: «Шипит, как каленое железо, когда плюнешь» (о горячем, раздражительном человеке), «Его в ступе пестом не умелешь» (упрямый), «Идет в сапогах, а след босиком» (хитрый), «Где ни ступит, тут и стукнет» (увалень), «Ветрами подшит» (непостоянный), «Говорит, как клещами хомут на лошадь тащит» (мямля), «Из молодых да ранний, петухом кричит» (выскочка), «Лепечет, что сорока» (о том, кто скоро говорит), «Сказал, что отрубил» ( о говорящем кратко и решительно), «Говорит, что река льется» (плавно), «Воркует, как голубок» (нежно), «Что слово молвит, то рублем подарит» (хорошо и дельно говорящий).
-
ПОСЛОВИЦЫ НА РАЗНЫЕ ЖИТЕЙСКИЕ СЛУЧАИ. Примеры: «Не бойся той собаки, которая лает, а бойся той, которая исподтишка кусает», «На грубое слово не сердись, а на ласковое не сдавайся», «Чтобы узнать человека, надобно с ним пуд соли съесть».
ПОГОВОРКИ
Поговорками называются выражения, употребляемые в разговоре, чаще всего, в форме сравнений, для того, чтобы придать речи особую наглядность. «Поговорка, — говорит народ, — цветочек, пословица — ягодка». Поговорки называются также «присловьями» и «присказками». Примеры: «Вертится, как бес перед заутреней», «Как две капли воды», «Один, как перст», «Ни дать, ни взять», «Как снег на голову», «На помине легок», «Не по дням, а по часам растет», «Ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать», «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».
«ПЧЕЛА»
Большою популярностью у нас пользовались сборники, известные под именем «Пчел». Эти сборники состоят из кратких изречений или афоризмов, выбранных из св. Писания, сочинений отцов церкви и даже светских писателей греко-римской языческой древности и касающихся разных вопросов нравственной и обыденной жизни. Первый сборник такого рода составлен был преподобным Максимом Исповедником (ум. 662 г.) под заглавием «Главы богословские, или выбор из писателей наших (христианских) и внешних (языческих)». Св. Иоанн Дамаскин составил два таких сборника, под заглавием «Священные подобы» (т.е. сходные по содержанию места), причем материал распределен по предметам в алфавитном порядке. Монах Антоний (XI в.) составлял такого же рода сборник под именем «Пчела» (по-гречески Мелисса); название это дано было для характеристики сборника: подобно тому, как пчела собирает мед со множества разнообразных цветов, так и монах Антоний трудолюбиво собирал меткие афоризмы и изречения из сочинений разных авторов. У Антония изречений из светских писателей меньше, чем у Максима Исповедника.
Славянский сборник «Пчела» представляет соединение сборников Максима Исповедника и монаха Антония. Материал разделен на главы по предметам, напр.: о добродетели и злобе, о мудрости, о чистоте и целомудрии, о правде, о богатстве и убожестве, о благодати, о милостыне, о власти и княжении, о лжи и клевете и пр. Изречения, касающиеся одного какого-нибудь предмета, распределяются друг за другом в известном порядке: сначала помещаются цитаты из Евангелия, Апостола, Ветхого Завета, преимущественно из Притчей, Экклезиаста, Сираха, затем из отцов и учителей церкви и, наконец, из древних языческих писателей и вообще знаменитых людей, а именно изречения и афоризмы Плутарха, Демокрита, Диогена, Исократа, Менандра, Геродота, Эврипида, Пифагора, Демосфена, Сократа, Ксенофонта, Аристотеля, Катона, Эпикура и др. Примеры изречений из языческих писателей : «ни коня без узды возможно есть держати, ни богатства без ума» (Пифагор); «мудра дума паче многих рук, мудрый паче крепкого» (Диодор); «лукавии мужи, аще и благою речию совещают, нрава деля (ради) неверни суть» (Плутарх). Иногда в «Пчеле» помещаются басни и даже рассказы.
Пример басни: «Волк, видев пастуха едущи чужи овци отаи (скрытно) в куче (в хижине), и рече: о, колико бысте голкы (шуму) съставили, оже бых то я сотворил!»
«Пчела» давала древнерусским читателям и писателям возможность щеголять афоризмами и изречениями и делать ссылки на писателей, сочинений которых они и не читали.
Многие изречения, помещенные в «Пчеле», вошли в пословицы, и наоборот, в позднейшие списки «Пчелы» помещаются иногда на ряду с изречениями из упомянутых источников наши устные пословицы.
«ИЗБОРНИКИ» СВЯТОСЛАВА
С именем Святослава Ярославича, князя Черниговского, связаны два сборника: «Изборник 1073 г.» и «Изборник 1076 г.».
«Изборник» 1073 г. представляет перевод греческого сборника начала X в., сделанный для богарского царя Симеона и переписанный для Святослава. По содержанию своему он очень разнообразен. В нем помещены извлечения из сочинений отцов церкви и других писателей на богословские темы, напр., «Исповедание веры» св. Никифора, патриарха константинопольского, «Ответы» Анастасия Синаита на предложенные вопросы, поучение о злой жене — отрывок из поучений Златоуста; на исторические темы, как, напр., «Летописец вкратце» патриарха Никифора, в котором изложены исторические события от Августа до Константина; на темы философские, Максима Исповедника и Феодора пресвитера Раифского, напр., статьи о ествестве, количестве, качестве, различии; по вопросам теории словесности («реторики»), Георгия Херобоска, как, напр., статья о приемах изображения и выражения, «о образех», т.е. о тропах и фигура, из которых рассмотрены 97; вот некоторые из них: инословие (аллегория), превод (метафора), сприятие (синекдоха), изобилие (плеоназм), лицетворье (олицетвориение), отъимение (метонимия), поругание (ирония). Пример объяснения аллегории (инословия) : «Инословие убо есть ино нечто глаголющи, и ин разум указующи, яко еже речено от Бога к змию: проклят и ты от всех зверий; слово бо яки змии есть, на диавола же ино речене (сказано) змием нарицаема, разумеваем».
Рукопись «Изборника» 1073 г. представляет и замечательный памятник древней рукописной живописи: на первом месте изображен князь Святослав с семьей; на втором месте изображен Иисус Христос, держащий в левой руке евангелие, и правою — благословляющий, по обеим сторонам Христа изображены два павлина; на третьем месте изображен храм с тремя куполами, на арке — лик Спасителя, а по сторонам храма — павлины и другие птицы.
По серьезности содержания «Изборник» 1073 г. представлял большие трудности для древней читающей публики.
Легче был по содержанию «Изборник» 1076 г. В состав его вошли статьи религиозно-нравственного характера: краткие толкования св. Писания, статьи о молитве, о посте, о чтении книг, «Поучения детям» Ксенофонта и Феодоры.
Добавлено в Фестивали, ярмарки и прочее в 18.07.2015
Все мы знаем огромное количество сказок, но никогда не задумывались об их истории происхождения! Хотя эта очень интересная и познавательная информация!
Создания сказок имеет древнюю историю. Сказки появились в столь глубокой древности, что с точностью определить время их рождения очень сложно. Так же мало знаем мы и об их первых авторах. Скорее всего, сказки сочиняли те самые крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли главных героев повествования.
Они же передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к поколению, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями. Сказки рассказывали взрослые и — вопреки нашему нынешнему представлению — не только детям, но и взрослым тоже. Сказки учили выпутываться из непростых положений, с честью выходить из испытаний, побеждать страх — и любая сказка оканчивалась счастливым финалом. Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды забылись — рассказы же сохранились как кладези полезных и поучительных знаний.
Слово «сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее XVII века. От слова «каза́ть». Имело значение: перечень, список, точное описание. Современное значение приобретает с XVII—XIX века. Ранее использовалось слово «баснь». Слово «сказка» предполагает, что о нём узнают, «что это такое» и узнают, «для чего» она, сказка, нужна. Сказка целевым назначением нужна для подсознательного или сознательного обучения ребёнка в семье правилам и цели жизни, необходимости защиты своего «ареала» и достойного отношения к другим общинам. Примечательно, что и сага, и сказка несут в себе колоссальную информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение, вера в которую зиждется на уважении к своим предкам.
Фольклорные сказки происходят из тотемических мифов первобытнообщинного общества (примитивных народов Северной Азии, Америки, Африки, Австралии и Океании). Первичные, архаичные сказки называют архаическими или мифологическими. Носители архаического фольклора сами выделяют их из мифологического повествования. Обычно выделяют две формы: пыныл и лымныл — у чукчей, хвенохо и хехо — у фон (Бенин), лилиу и кукванебу — у киривна в Меланезии и т. п. Эти две главные формы приблизительно соответствуют мифу и сказке. Различие между ними выражает оппозицию сакрального и профанного, профанное является часто результатом деритуализации и потери эзотерического характера. Структурная разница не была обязательной между этими двумя формами, она могла вовсе не существовать. Очень часто один и тот же или сходный текст мог трактоваться одним племенем как настоящий миф, а другим — как сказочное повествование, исключённое из ритуально-сакральной системы. Можно определить архаические сказки как нестрогие мифы, учитывая, что они включают мифологические представления. Ф. Боас замечает, что архаическую сказку от мифа индейцев Северной Америки отличает лишь то, что культурный герой добывает блага для себя, а не для коллектива. Нестрогая достоверность архаичной сказки влечёт за собой преобладание эстетической функции над информативной (цель архаической сказки — развлечение). Так экзотерический миф, рассказанный непосвящённым в целях общего развлечения, находится на пути превращения мифа в сказку.
В Европе первым собирателем сказочного фольклора стал французский поэт и литературный критик Шарль Перро (1628—1703), в 1697 году издавший сборник «Сказки матушки Гусыни». В 1704—1717 годах в Париже вышло сокращённое издание арабских сказок «Тысячи и одной ночи», подготовленное Антуаном Галланом для короля Людовика XIV. Однако начало систематическому собиранию сказочного фольклора положили представители немецкой мифологической школы в фольклористике, прежде всего члены кружка гейдельбергских романтиков братья Гримм. Именно после того, как они издали в 1812—1814 годах сборник «Домашние и семейные немецкие сказки», разошедшийся крупным тиражом, интерес к родному фольклору проявили писатели и учёные других стран Европы. Однако у братьев Гримм были предшественники в самой Германии. Например, ещё в 1782—1786 годах немецкий писатель Иоганн Карл Август Музеус (умер в 1787 году) составил пятитомный сборник «Народные сказки немцев», но опубликован он был только в 1811 году его другом поэтом Виландом. В России начинателем собирания русских народных сказок явился русский этнограф Александр Николаевич Афанасьев. Подготовленный им сборник «Русские детские сказки» вышел в Москве в 1870 году. Большой вклад в собирание и организацию детского фольклора внесли такие личности как Авдеева, Даль. В истории собирания детского фольклора оставил заметный след и этнограф-собиратель Шейн. Он выделил детский фольклор как особую область науки. Вклад в популяризацию и коллекционирование сказок внёс также украинский поэт Малкович.
Исторические
корни народных сказок
·
Сказка позволяет приблизиться к пониманию
традиций и культуры русского народа. Являясь жанром выражения национального
духа народа, сказка связана с мировоззрением этого народа. Известно, что
русская сказка играет воспитывающую роль, но она воспитывает не только детей, а
и взрослых людей. В данном задание я буду рассматривать как предмет
исследования сказки о Лисе. Этот образ имеет много значений, потому что Лиса
может льстить, хитрить, добиваться своей цели. Я проанализировала некоторые
сказки А. Н. Афанасьева: «Колобок», «Лиса и журавль», «Лиса и козёл» «Лиса,
заяц и петух», «Кот и лиса», «Лиса и тетерев» и др. Анализ сказок о животных
убедил, что образ Лисы в русских народных сказках интереснее других животных.
Лиса всегда разная, и можно понять, что она интересует самого человека, который
наблюдает за ней. Человек видит в ней и в её поведении много интересного и
сходного с самим человеком. Поэтому характер Лисы в русских сказках о животных
имеет такие типичные черты, которые находим в их описании, как льстивость, хитрость
и склонность к воровству.
Свойство
льстивости в характере Лисы мы находим в следующих сказках: «Колобок»,
«Петушок – золотой Гребешок» и др. Мною замечено, что в сказке «Колобок» Лиса
отличается от других животных. Так, например, когда Лиса встретилась с
Колобком, она не сразу сказала Колобку: «Я тебя съем?», а сначала стала
восхищаться им: «Здравствуйте, Колобок! Какой же ты хорошенький!» Но после того
как Колобок по просьбе Лисы спел песенку, она щедро подарила ему свой
комплимент: «Какая чудная песенка! Спасибо, Колобок! Такая славная песенка, так
бы слушала и слушала». Лиса здесь много льстит, чтобы Колобок поверил ей, чтоб
посадить его на свой язычок и съесть. Льстивой Лисе удаётся осуществить свой
план. То же самое наблюдается в сказке «Петушок-золотой Гребешок». Чтобы
привлекать внимание Петушка, Лиса воспевала его: «Петушок, Петушок, золотой
гребешок, маслина головушка, шёлкова бородушка». И таким образом она достигала
своей цели. Свойство хитрости характера Лисы мы находим в следующих
сказках: «Лиса и козёл», «Лисичка-сестричка и волк». Например, в сказке «Лиса и
козёл» Лиса попала в колодец. Она стала горевать, что не сможет выбраться, что
попала в беду, но когда козёл узнал, что Лиса попала в колодец, идея выйти из
него у Лисы возникла сразу. Козёл спросил Лису, что она там делает, Лиса
маскировалась и хитро ответила козлу: «Отдыхаю, голубчик, там, наверху, жарко,
так я сюда забралась. Уже как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой –
сколько хочешь!» Таким образом, Лиса привлекла козла в колодец и спасла себя. В
сказке «Лисичка-сестричка и волк», волк был ранен из-за Лисы. Когда волк хотел
отомстить Лисе, то Лиса говорила: «У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг,
я насилу плетусь». Лиса своей хитростью избежала мести и снискала сочувствие у
волка. Свойство воровства в характере Лисы я нахожу в следующих сказках:
«Медведь и Лиса», «Лиса и Заяц» и др. В сказке «Медведь и Лиса», Лиса, зная то,
что у медведя в избе на чердаке кадушка мёда, попросилась ночевать у медведя,
обманув его в том, что в его избе углы провалились. Вечером она трижды стучала
хвостом и влезла на чердак, чтобы съесть мёд. В конце концов она даже обвинила
медведя в том, что это именно он съел мёд. В сказке «Лиса и заяц», у Лисы изба
растаяла, она попросилась у зайца переночевать, и его из избы выгнала. Когда
другие животные пришли выгнать её, она даже устрашала их: «Как выскочу, как
выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!». Лиса часто бесстыдно ворует у других нужную
ей вещь. В данных примерах видно, что Лиса всегда может спасти себя и найти
выгоду от своей хитрости. В русских сказках Лиса украшена человеческими чертами
характера, ведь именно народ является автором образа Лисы в сказках о животных.
Русский народ творит сказку с целью воспитания детей. В сказках о животных
абстрактное понятие о чертах характера народа конкретизируется через образы
животных. В сказках народ передаёт из поколения в поколение ценную для всего
общества информацию. Каждая сказка и каждый образ животного имеют воспитывающее
значение. Таким и является образ Лисы. И хотя Лиса часто добивается своей цели
хитростью, но она иногда тоже бывает наказана из-за хитрости. Например, сказка
«Лиса и дрозд». В русских сказках образ Лисы даёт детям уроки: с одной стороны,
что в жизни иногда нужна хитрость, а с другой стороны, что хитрых надо
опасаться. Лиса в русских сказках, которые я проанализировала, принадлежит к
положительному образу, её часто украшают ловким, хитрым поведением и
остроумием. Русский народ ценит типичный характер Лисы-хитрость, об этом и
говорится в русских пословицах: Хитрость – второй ум, Простота хуже воровства и
т. д. Кроме того, в русских пословицах и говорится о том, что надо опасаться
лести: На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся; Льстец под словами
– змей под цветами и т. д. Народные сказки до сих пор вызывают интерес и у
взрослых людей и детей. Через сказки еще передаются народное мировоззрение,
народная традиция, ум и характер народа.
·
Сказки о животных, очевидно, очень
древние. В них, например, чаще действуют дикие звери, нежели домашние.
Возможно, что это отражение того времени, когда животные ещё мало были
приручены человеком. Кроме того, в них можно найти мифологические мотивы и образы.
Так, в некоторых сказках, как, например, в русской «Медведь — липовая
нога», медведь считается предком человека, а в сербских сказках — волк.
Недаром у сербов так распространено имя Вук. Это отражение так называемого
тотемизма. Сказки о животных отличаются тем, что в них звери и птицы говорят и
действуют, как люди. Более того, часто под образами животных подразумеваются
люди, тогда сказки приобретают иносказательный характер. Образ животного
строится обычно так, что в нём совмещаются черты животного и человека, что и
даёт основание понимать его переносное значение. Польский учёный Юлиан
Кшижановский делит сказки о животных на пять групп: сказки о диких зверях; о
диких зверях и домашних животных; о домашних животных; о человеке и животных; о
птицах или рыбах. Примеры первой группы «Лиса и волк», второй —
«Волк и козлята», третьей — «Собака и кот», четвёртой —
«Мужик и медведь», пятой — «Журавль и цапля».
Наиболее
популярные персонажи сказок о животных: лиса, волк, медведь, коза, петух.
Образы животных наделены довольно меткой характеристикой, которая является
результатом жизненного опыта охотников, скотоводов и земледельцев, результатом
длительных наблюдений над повадками и характером животных. Животные имеют
обычно определённые характеристики: медведь — добродушный, неповоротливый; волк
— глупый и жадный; лиса — хитрая, льстивая. Характерно, что сказкам о животных
свойственны определённые конфликты: борьба слабых против сильных, угнетаемых
против угнетателей. Показательно, что бесправные и слабые объединяются против
сильных.
·
С самого рождения мы слушаем народные
сказки. Сказки поражают, удивляют, радуют. Звери в сказках говорят, рассуждают,
хитрят, обманывают, враждуют, дружат.
Образ медведя в русской
культуре далеко не однозначный. С древних времен люди слагали про медведя
разные сказки. Каждое животное вызывало у них свой ряд впечатлений, от которых
рождались разные прозвища. Например, прозвищ у медведя предостаточно: «при
берлоге валень», «лесной гнёт», «всех давишь», «медведь-медовуха» и величают
его по-разному: то « Топтыгиным », то « Медведюшкой », то «Михал Михалычем »,
то « Михал Потапычем », то просто
« Мишей ». Вспомнив разные
сказки, можно сказать, что в одних медведь добрый, сильный, способен защищать слабых,
найти справедливость, в других — он показывает своё легкомыслие, наивность,
простодушие, ограниченность кругозора и даже злобу.
Давайте вспомним русские
сказки, где медведь играет

роль:
«Маша и медведь»
. Русская народная сказка. Все мы знаем эту сказку
знаменитую фразу медведя, которую он говорит Маше: “А если уйдёшь от меня, —
говорит, — всё равно поймаю и тогда уже съем!” В этой сказке медведь показывает
не только свою силу и мощь, но и ещё заставляет маленькую девочку работать на
себя, насильно удерживая её в неволе. Хотя он и рад, что теперь не один, а с
помощницей.
«Медведь и лиса».
Русская народная сказка. В сказке «Медведь и лиса» показана глупость и
доверчивость медведя. Мало того, что лиса съела весь мёд, обманула медведя, так
он ещё и сам повинился в том, чего не совершал.

и медведь» ( Вершки и корешки). Русская
народная сказка. В этой сказке медведь хочет получить весь урожай мужика, не
приложив к этому никаких усилий. В этой сказке медведь возможно и не поддался
бы обману, если бы знал, как надо использовать такие простые вещи, как репа. В
этом- то и видна его ограниченность кругозора и лень.

и собака» Русская народная сказка. Конечно, есть
сказки, в которых медведь проявляет положительные качества, например, в сказке
«Медведь и собака» медведь пожалел собаку, накормил её и помог выжить в лесу и
вернуться домой.
«Три медведя»
В это сказке мы видим семью медведей, где показан устойчивый уклад семьи,
которая живет в доме, где все вещи на своих местах, где существует строгий
порядок. Когда Маша случайно попала в их дом, то нарушила порядок, что очень не
понравилось медведям. Здесь медведь-хозяин, глава семьи, которого все почитают.

же мы знаем много других сказок, где медведь – неотъемлемый член лесного
сообщества. В сказке “Колобок”медведь угрожает съесть колобка, но
не решается, а в “Теремке” он и хочет вместе жить со всеми зверьми в одном
домике, но своей неуклюжестью и нерасторопностью только все портит и ломает теремок.
В сказке “Кот и лиса” медведь показан глуповатым и неуклюжим, поскольку его ,
как и волка, лиса обводит вокруг пальца.
Так же мы знаем много других сказок, где
медведь – неотъемлемый член лесного сообщества. В сказке”Зимовье зверей”
домашние животные вообще изгоняют его и прочь за то, что он вместе с лисой и
волком хотел убить домашних животных и съесть. Здесь медведь – злой хищник. В
сказке “Пряничный домик” медведь показан жадным, который не хочет привечать в
своем вкусном доме детишек и их угощать, за что и был наказан в конце сказки. А
вот в “Заюшкиной избушке” медведь наоборот, пытается помочь зайцу, показывает
свое участие и желание помочь. Здесь медведь добрый . Ограниченность кругозора
можно увидеть в сказке «Звери в яме», медведь поверил лисе, что она потихоньку
ест свои кишки, распарывая себе живот. Медведь распорол свой живот и умер. Но
этого могло бы не случиться, если бы он знал, что нельзя есть самого себя.
Или
в сказке «Мужик и медведь», где медведь хочет получить весь урожай мужика, не
приложив к этому никаких усилий. Медведь не знает, что такое репа и как её
использовать и не считает нужным уточнить это у мужика. В этом и видна его
ограниченность кругозора и лень.
В
сказке «Медведь и лиса» показана глупость и доверчивость медведя. Мало того,
что лиса съела весь мёд, обманула медведя, так он ещё и сам повинился в том,
чего не совершал.
Конечно,
есть сказки, в которых медведь проявляет положительные качества, например, в
сказке «Медведь и собака» медведь пожалел собаку, накормил её и помог выжить в
лесу и вернуться домой. Но таких сказок мало.
Образ
медведя — один из ярких образов в русском искусстве и российской символике.
Жители России воспринимают этого зверя как воплощение силы, мощи, величия и
русского духа.
Таким
образом, видино, что медведь и в фольклорных произведениях, и в русской сказке
— это образ, в котором больше негативного, чем хорошего.
Медведь может выступать как божество (в частности,
умирающее и возрождающееся), культурный герой, основатель традиции, предок,
родоначальник, тотем, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин нижнего мира,
священное и (или) жертвенное животное. Медведь — один из главных героев сказки.
Значение Медведя определяется прежде всего его подобием человеку, толкуемым
мифопоэтическим сознанием как указание на общее их происхождение или
происхождение друг от друга.
·
Особенности построения кумулятивных
сказок.
Кумулятивные сказки строятся на
многократном повторении какого-то звена, вследствие чего возникает либо
«нагромождение» («Терем мухи»), либо «цепь» («Репка»), либо «последовательный
ряд встреч» («Колобок») или же «отсылок» («Петушок подавился»). Композиция
кумулятивных сказок независимо от форм исполнения чрезвычайно проста. Она
слагается из трех частей: из экспозиции, из кумуляции и из финала. Экспозиция
чаще всего состоит из какого-нибудь незначительного события или очень обычной в
жизни ситуации: дед сажает репку, баба печет колобок, разбивается яичко, мужик
нацеливается в зайца и т. д. Такое начало не может быть названо завязкой, так
как действие развивается не изнутри, а извне, большей частью совершенно
случайно и неожиданно. В этой неожиданности — один из главных художественных
эффектов таких сказок. За экспозицией следует цепь (кумуляция). Способов
соединения экспозиции с цепью чрезвычайно много. Приведем несколько примеров,
не стремясь пока ни к какой систематизации. В упомянутой сказке о репке создание
цепи вызвано тем, что репка сидит в земле очень крепко, ее невозможно вытащить,
и зовут все новых и новых помощников. В сказке «Терем мухи» муха строит терем
или поселяется в какой-нибудь брошенной рукавице или в мертвой голове и т. д.
Но вот один за другим в нарастающем порядке величины являются звери и
напрашиваются в избушку; сперва вошка, блошка, комар, затем лягушка, мышка,
ящерица, далее — заяц, лисица и другие звери. Последним является медведь,
который кончает дело тем, что садится на этот терем и всех раздавливает.
В русском фольклоре кумулятивных сказок
мало. Кроме того, они еще отличаются стилем, богатством языка, зачастую
тяготея к рифме и ритму. Целый ряд кумулятивных сказок построен на
последовательном появлении каких-нибудь непрошеных гостей или компаньонов. Обладая
совершенно четкой композиционной системой, кумулятивные сказки отличаются от
других и своим стилем, своим словесным нарядом, формой своего исполнения. Надо,
однако, иметь в виду, что по форме исполнения имеются, как указывалось, два
вида этих сказок. Одни рассказываются эпически спокойно и медленно, как и
всякие другие сказки. Они могут быть названы кумулятивными только по лежащей в
их основе композиции.
Мифология сказки.
«Колобок»
Колобок может рассматриваться как
символ сотворенного мира, где баба и дед – боги Созидатели. Он уходит от зайца
– символа быстроты, волка символа смелости и напора, медведя – символа силы, но
его обманывает и уничтожает лиса – символ хитрости, обмана и коварства. Речь
идет о том, что качества лиса самые опасные и могут погубить не только
человека, но и целый мир.
Дед – Древняя Мудрость;
Бабка – традиции дома, хозяйственность.
«Курочка Ряба»
Сюжет сказки содержит мотив, который
восходит к мифологическим представлениям многих народов, в том числе и славян.
Этот мотив Топоров В. Н. реконструирует по текстам сказочного типа и близким к
нему. Речь идёт о мотиве Мирового Яйца, которое раскалывает мифологический
герой. В сказке Дед и Баба не могут разбить золотое яичко, когда его разбивает
мышь – начинают плакать. Яйцо в мировой символике означает мир, а золотое яйцо
– золотой век человечества или Рай. Дедом и Бабой в народе нередко называли
предков, в частности Адама и Еву. Адам и Ева, находясь в Раю, не могли
использовать главный дар Бога – свободу воли, непосредственно связанную с
душой. Известно, что для того, что бы пошел процесс, нужна разность
потенциалов, наклон на плоскости, анод и катод для электротока, кислота и
щелочь в химии и т.д. В данном случае в библейской легенде такую разность
потенциалов создает змей, связанный с нижним миром, а в сказке мышка, в
некоторых случаях ведьма. Исход из Рая связан с плачем Адама и Евы, плачут и
Дед с Бабой. Чем же их утешает Курочка Ряба? Она предлагает снести простое
яичко, но человек подобен миру, он микрокосм по древним и средневековым
представлениям. Иными словами для создания «личного рая» предлагается
соответствующее поведение необходимое для спасения души, которая попадет в Рай.
Имеется в виду основная идея христианства и практически всех религий. Сама
курочка определена как «ряба», т.е. содержащая белые и черные перья, иными
словами она вместилище добра и зла одновременно, о «первичности курицы или
яйца» под курицей понимался Бог, а под яйцом мир. Можно сказать, что эта
русская сказка за двадцать секунд передает основные базовые истины Нового и
Ветхого Завета.
«Теремок»
В сказке совершенно разные звери
просятся жить в теремке. По народной сказке теремок – это лошадиная голова.
Звери: мышка Норышка – подземная жительница; лягушка Квакушка – жительница
подводного мира; заяц – «на горе увертыш», связанный с норой, нижним миром, но
и с горами; лиса – «везде поскокиш» – символ хитрости; волк – «из-за кустов
хватыш». Однако медведь – «я всех давишь!» культовый первопредок славян и сама
сказка указывает на то, что не всё совместимо в одном доме. Важно, что лошадь и
её голова связана с солнечной символикой, а иногда с символикой счастливого,
«солнечного» мира. Занимают голову представители нижнего подземного и подводного
мира – лягушка и мышь. Кроме них три звериных персонажа по своим самоназваниям
напоминают представителей враждебных народов. В этом случае понятно, почему
медведь – символ первопредка их давит. Это указывает на то, что излишняя
толерантность и терпимость ко всему чужеродному может погубить наш дом – Терем
– Теремок.
·
Маленьких
детей, как правило, привлекает мир животных, поэтому им очень нравятся сказки,
в которых действуют звери и птицы. В сказке животные приобретают человеческие
черты — думают, говорят, совершают поступки. По существу, такие образы несут
ребенку знания о мире людей, а не животных. В этом виде сказок обычно нет
отчетливого разделения персонажей на положительных и отрицательных. Каждый из
них наделен какой-либо одной чертой, присущей ему особенностью характера,
которая и обыгрывается в сюжете. Так, традиционно главная черта лисицы —
хитрость, поэтому речь идет обычно о том, как она дурачит других зверей. Волк
жаден и глуп; во взаимоотношениях с лисицей он непременно попадает впросак. У
медведи не столь однозначный образ, медведь бывает злым, а бывает и добрым, но
при этом всегда
остается недотепой. Животные в сказке соблюдают принцип
иерархии: наиболее сильного все признают и главным. Это лев или медведь. Они
всегда оказываются на верху социальной лестницы.
В волшебных сказках домашние и дикие
животные всегда стоят на стороне героя: конь помогает победить змея, корова
Буренушка выполняет за падчерицу трудную работу, кошка и. собака возвращают
похищенное царевной кольцо, медведь, волк, заяц помогают царевичу достать
смерть Кощея или разделаться с колдуном — любовником сестры. Число персонажей в
сказке не соответствует числу действующих лиц, поскольку одной функцией
наделяются различные персонажи. Следует отметить, что любое качество героя
сказка дает не как щадит животных; Иван-дурак на последние деньги выкупает
собаку и кошку, освобождает журавля, попавшего в силки; охотник, терпя нужду,
три года кормит орла. Эти персонажи часто выступают в функции чудесных
помощников. Волшебные сказки по сравнению со сказками о животных
открывают перед нами мир иных чудес.
А в сказках о животных, образы животных
стали средством морального поучения, а затем и социальной сатиры, ведь в
сказках о животных высмеиваются не только отрицательные качества (глупость,
лень, болтливость), но и осуждаются угнетение слабых, жадность, обман в целях
наживы.
·
Сказка «Каша из топора»
Сказка относится к жанру социально-бытовых сказок. Главный герой
сказки – солдат. Отрицательный герой – жадная женщина. В сказке высмеивается
скупость и глупость хозяйки дома. Попросив ужин и получив отказ, солдат решил
проучить жадную бабу. Он принимается варить кашу из топора. У хозяйки много еды, но она скупа
и решила обмануть солдата. Но солдат оказывается хитрее. Здесь нарочито ярко
показывается глупость хозяйки дома. Солдат хитростью вынуждает бабу принести
ему и крупу, и соль, и масло. А та, пав жертвой собственной недогадливости, и
не понимает, что ее обманули. Сказка наказывает и высмеивает скупость и
глупость. А солдат за смекалку награжден: и каши поел и топор унес.
Используются устаревшие слова: побывка, изба, варево, чулан, сдобрит и др. Слова
в тексте, с помощью которых можно определить чувства, состояние, скрытые мысли
героев: притомился, прикинулась ,оторваться не может, да посмеивается.
В
представлении народа в богаче сосредоточено все плохое — скупость, глупость,
жестокость. Бедняк же всегда честен, трудолюбив, добр. В сказке «Два брата»
противопоставлены друг другу богатый и бедный братья, оба мельники. С самого
начала сказки подчеркнуто, что богатый брат „мелет муку — дорого берет», а
бедный за ту же работу берет дешевле. Поэтому у бедного брата на мельнице много
народу, а у богатого — мало. Завидно стало богачу, позвал он брата в лес и
выколол ему глаза…
Позавидовал барин кузнецу, решил
завести сам кузницу, чтобы быстро разбогатеть, и стал кузнечить. Но ничего не
вышло из этого: не умел барин трудиться! И избил его мужик, заказавший шины для
телеги („Барин-кузнец»). В другой сказке плотник мстит барину за то, что
тот побил его ни за что ни про что („Барин и плотник»).
В
сказках высмеивается не только барин, но и его близкие, чаще всего барыня.
Сколько издевки над барами звучит, например, в сказке „Свинья-сестра»!
Барыня решила посмеяться над мужиком и по его просьбе отправила на свадьбу
свинью, которая, по словам хитрого мужика, была сестрой его жены. Она нарядила
ее в дорогую шубу, посадила в повозку да в придачу отдала мужику еще и поросят.
Но даже не это самое удивительное в сказке! Барин, узнав об обмане, бросается
на коне в погоню за мужиком и, тоже одураченный, пешком возвращается домой.
Сказка заканчивается так: „А мужичок приехал домой на трех лошадях, и сто
рублей у него в кармане! Стал он помаленьку жить да поживать, землю
обрабатывать, поле засевать да обильный урожай получать. Нужды с тех пор больше
и не видывал».
Так
же, как и помещиков, сказки высмеивают попов. В них сатирически изображены все
служители церкви, начиная с пономаря и кончая архиепископом. Смех обрушивается
на глупых, жадных, продажных, грубых, необразованных попов. Именно об этом
сказки „Церковная служба», „Безграмотная деревня», „Поп и
дьякон», „Отец Пахом», „Похороны козла» и др. Нередко сказки
заканчиваются изображением гибели попа от рук работника, мужика или
Ивана-дурака.
Довольно
долго связывал народ утверждение на земле справедливости с именем царя.
Считалось, что царя окружают нечестные, тщеславные, глупые бояре и
приближенные. В сказках они высмеиваются, высмеиваются зло и остро (например, в
сказках „Горшеня», „Елевы шишки»), царь же изображается мудрым
человеком, наказывающим глупцов и награждающим умного мужика. Но в сказке „Царь
и портной» царь показан уже таким же, как и его приближенные: презирающим
простого человека, глуповатым и смешным.
·
Сказки о
животных — своеобразная разновидность сказочного жанра. Возникнув в глубокой
древности, они отразили наблюдения над животными человека первобытного общества
— охотника и зверолова, а затем и скотовода. Смысл этих сказок в те времена
состоял прежде всего в передаче молодым людям жизненного опыта и знаний о
животном мире. В начале складывались простые рассказы о животных, птицах и
рыбах. Позже, с развитием художественного мышления, рассказы превратились в
сказки. Жанр формировался длительное время, обогащался сюжетами, типами
персонажей, вырабатывая определенные структурные особенности. В сказках о
животных действуют и животные, и птицы, и рыбы, а в некоторых и растения. В. Я.
Пропп в указателе, приложенном к третьему тому народных русских сказок А. Н.
Афанасьева (1957), выделяет шесть групп сказок этого вида: 1) сказки о диких
животных, 2) сказки о диких и домашних животных; 3) сказки о человеке и диких
животных; 4) сказки о домашних животных; 5) сказки о птицах, рыбах и др.; 6)
сказки о прочих животных, растениях и др. Каждая группа сказок имеет свои характерные
сюжеты.
Сделаем
некоторые выводы. Появлению собственно сказок о животных предшествовали
рассказы, непосредственно связанные с поверьями о животных. В этих рассказах
действовали будущие главные герои сказок о животных. Эти рассказы еще не имели
иносказательного смысла. В образах животных разумелись животные и никто иной.
Существовавшие тотемные понятия и представления обязывали наделять животных
чертами мифических существ, звери были окружены почитанием. Такие рассказы
непосредственно отражали обрядово-магические и мифические понятия и
представления. Это еще не было искусством в прямом и точном смысле слова.
Рассказы мифического характера отличались узкопрактическим, жизненным
назначением. Можно предполагать, что они рассказывались с наставительными
целями и учили, как относиться к зверям. С помощью соблюдения известных правил
люди стремились подчинить животный мир своему влиянию. Такова была начальная
стадия зарождения фантастического вымысла. Позднее на нем основывались сказки
о животных
·
Сказка сохранила следы очень многих
обрядов и обычаев: многие мотивы только через сопоставление с обрядами получают
свое генетическое объяснение. Так, например, в сказке рассказывается, что
девушка закапывает кости коровы в саду и поливает их водой. Такой обычай или
обряд действительно имелся. Кости животных почему-то не съедались и не
уничтожались, а закапывались.
Прямое соответствие между
сказкой и обрядом встречается не так часто. Чаще встречается другое
соотношение, другое явление, явление, которое можно назвать переосмыслением
обряда. Так, например, в сказке рассказывается, что герой зашивает себя в шкуру
коровы или лошади, чтобы выбраться из ямы или попасть в тридесятое царство. Его
затем подхватывает птица и переносит шкуру вместе с героем на ту гору или за то
море, куда герой иначе не может попасть. Известен обычай зашивать в шкуру
покойников.
В обычае зашивание в
шкуру обеспечивало умершему попадание в царство мертвых, а в сказке оно
обеспечивает ему попадание в тридесятое царство.
Существовал обычай
убивать стариков. Но в сказке рассказывается, как должен был быть убит старик,
но он не убивается. Тот, кто пощадил старика, при существовании этого обычая
был бы осмеян, а может быть поруган или даже наказан. В сказке пощадивший старика
— герой, поступивший мудро. Был обычай приносить девушку в жертву реке, от
которой зависело плодородие. Это делалось при начале посева и должно было
способствовать произрастанию растений. Но в сказке является герой и освобождает
девушку от чудовища, которому она выведена на съедение. В действительности в
эпоху существования обряда такой «освободитель» был бы растерзан как
величайший нечестивец, ставящий под угрозу благополучие народа, ставящий под
угрозу урожай.
·
Под мифом здесь будет пониматься рассказ о
божествах или божественных существах, в действительность которых народ верит.
Дело здесь в вере не как в психологическом факторе, а историческом. Рассказы о
Геракле очень близки к нашей сказке. Но Геракл был божеством, которому
воздавался культ. Наш же герой, отправляющийся, подобно Гераклу, за золотыми
яблоками, есть герой художественного произведения. Миф и сказка отличаются не
по своей форме, а по своей социальной функции.
Характерно для
сатирической сказки то, что в ней развиваются две сюжетные линии: линия героя —
представителя социальных низов и линия его классового противника, посрамленного
и наказанного. Первоначально герой предстает с крайне невыгодной стороны: он
наивен, подчас просто кажется глупым, действия его малопонятны. Но впоследствии
оказывается, что эти черты носят чисто внешний характер и он несравненно умнее
своего врага, действия же его, как правило, — хитроумная ловушка.
Сатирическая сказка, как
и всякая другая, характеризуется совершенно определенными чертами действующих
лиц. Ее герой имеет имя и даже указание на место жительства. То его зовут
«Тихон — с того света спихан» (вариант: «Тихонец — с того света выходец» или
«Никонец — с того света выходец»), то — Наум (в таком случае имя рифмуется со
словами «взбрело на ум»), Антон («думаю о том») и т. д. Несомненно подобные
имена подобраны специально для рифмовки. Уже в именах — стремление добиться
определенного комического эффекта, помочь понять суть того или иного героя.
В отличие от
фантастической сказки, где действие протекает в «тридевятом царстве», персонажи
сатирической сказки действуют в реальной, обыденной обстановке. За внешним
неправдоподобием, вымышленными «чудесами»-волшебством фантастическая сказка
скрывает свой взгляд на социальные явления и отношения. В сатирической сказке
вымысел типа «чудес» обычно отсутствует; если даже героями ее оказываются звери
(волк, лиса, медведь и пр.) или «потусторонние» существа (черт, святой), то
черты реальных людей и у них преобладают, а образы «нечистой силы» всегда
подаются в сатирическом или юмористическом плане. Обычно сказочник представляет
крестьянина, работника или солдата в хорошо известной ему обстановке. Для
русского сказочного репертуара самыми характерными являются сатирические
сказки, высмеивающие бытовое поведение барина или попа. Герой бытовой сказки
всегда выходит победителем в непримиримой борьбе со своими врагами.
Социальная острота
сатирической сказки достигает иногда высокой степени. Так, в одном из вариантов
специфически русской сказки «Горшеня», действие которой приурочивается ко
времени Ивана Грозного, герой отвечает царю на вопрос: «Кто на свете лютей и
злоедливей всех?». — «Ваше царское величество! Лютей, — говорит, — и злоедливей
всего на свете казна. Она очень всем завидлива; из-за нее пуще всего все,
слышь, бранятся, дерутся, убивают до смерти друг дружку; в иную пору режут
ножами, а не то так иным делом. Хоть, — говорит, — с голоду околевай, ступай по
миру — проси милостыню, ты того гляди: у нищего-то суму отымут, как
мало-мальски-то побольше кусочков наберешь, коим грехом еще сдобненьких».
· Начальные
формулы присказки («В некотором царстве» и т. д.) аналогичны формам зачина
(фиксация времени — пространства, факта существования героя, развитый элемент
недостоверности). «В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том,
где и мы живем, жил царь на царстве, король на королевстве, да на ровном месте,
как соха на бороне. Это не сказка, а присказка, а сказка будет после обеда,
поевши мягкого хлеба, еще поедим пирога, да потянем быка за рога. Далеко
отсюда, не в нашем царстве, в неведомом государстве, жил-был царь Ермолай…».
Самый распространенный тип инициальной формулы для всех жанров сказочной прозы
— ф о р м у л а существования героев . Как все другие пограничные формулы, она
не связана непосредственно с развитием сказочного действия. Принцип ее состоит
в сочетании опорных глаголов «жил», «был» или их соединения б разных вариациях
с указанием на социальный статус персонажей (царь — царица, старик — старуха,
вдова, бедняк). Сказка редко «представляет» в начале главного героя, чаще
«жили-были» от- носится к его родителям.
К
формулам существования героев примыкают формул ы наличия или отсутствия (детей,
средств к существованию, здоровья и т. д.). Они активно варьируются: у (царя,
купца, него, нее, старика, старухи и т. д.) было (а) (трое детей, три сына,
дочь, стрелец, жена и т. д.), было у царя (…) два сына (…); у царя (…) не
было детей (…) (ничего); был (он, она и т. д.)… (слепой, бедный и т. д.).
Топографические
формулы , вариант «Не в каком царстве», «Не в каком государстве» или «Не в
котором царстве-государстве».
Финальные
формул ы существования героев, являются варианты: «Стали жить-поживать» или
«Стали жить да быть», краткой формой которых служит вариант «Стали жить» или
«Стали поживать». Ко второму типу финальных формул относятся формулы ,
акцентирующие момент окончания рассказывания сказки : «Тут и сказке конец» или
самый популярный вариант: «И сказка вся».
В детстве всем приходилось слушать сказки. От старших, по телевизору, по радио, а научившись читать,
Литературные сказки, однако, имеют ценность для исторической науки только как отражающее мировоззрение людей и, может быть, какие-то еще мелкие детали тех эпох, в которых жили их авторы. Это касается, в сущности, любого литературного произведения. Гораздо более разносторонний интерес представляют народные сказки в своем чистом виде, не искаженные субъективным взглядом обработчика. Корни народных сказок уходят в глубину эпох. Очень похожие по сюжету сказки встречаются у народов совершенно разных языков и культур, населяющих разные регионы планеты, хотя каждый народ, конечно, повествует о по сути одних и тех же событиях через призму своей культуры (например, опознанные по потерянной обуви знатным возлюбленным древнегреческая Родопис, западноевропейская Золушка, адыгская Фаруза). В сюжете некоторых народных сказок можно даже проследить отголоски реалий первобытных времен, например, в фольклоре кавказских народов упоминается геронтицид – убийство престарелых членов общины как неспособных трудиться и приносить пользу соплеменникам, хотя в письменную эпоху этого явления на Кавказе уже не существовало.
Во многих народных сказках в большом количестве присутствуют элементы мифологии. Не каждая 

Сказки о животных, в которых животные выступают как разумные и сознательные существа, 

Каждый вид животных отличается характерными, свойственными только ему повадками, образом жизни. 

Тем не менее, часто в сказках дух природного либо рукотворного объекта или стихии фактически отделяется от них самих, приобретая выраженные антропоморфные черты. Большинство сказочных существ происходят также из древнего анимистического пантеона, изначально являясь неотделимыми душами лесов, гор, рек, полей, различных явлений бытия. Но впоследствии (возможно, еще в границах первобытной эпохи) в людских рассказах они начали представать как более автономные субстанции, 

Б. Забирохин «Полевой»
С течением времени сказки, сказания, прочие повествования, в которых фигурировали разные мифические существа, передавались из уст в уста, из одной человеческой общины в другую. Слушающий часто недостаточно правильно понимал смысл повествования рассказчика и передавал рассказ другому человеку уже по-своему. Так некоторые изначально разные мифологические образы сливались в один, и 
Сказав о леших и водяных, нельзя обойти стороной домовых. Однако в основе образа домового лежит 



С распространением на Руси христианства культ предков в своем полном виде был разрушен. Однако его пережиток в форме веры в домовых – охраняющих дом духов, которые незримо поддерживают в семье и жилище порядок, хозяйственными успехами и семейным благополучием поощряют добрых и старательных хозяев, неудачами и семейным разладом наказывают злых и нерадивых, существовал, особенно в селах, вплоть до всеобщего просвещения советского времени. И в двадцатом веке некоторые крестьяне продолжали ежедневно класть пищу возле печи (обыкновенно у очага в древние времена и находилось постоянное место, занимаемое в доме главой семейства), а переселяясь в новый дом, «уносили» с собой домового вместе с печной золой, корзиной с продуктами и другими способами. На изначальное представление о домовом как об основателе семейства – патриархальном главе, указывают сохранившиеся его народные названия в ряде областей: «хозяин», «большак», «дедушка», «кормилец». В эпоху Средневековья и Нового Времени образ домового, лишившись изначальных сакральных истоков, постепенно сливался в народных представлениях с образом кикиморы – не имеющего определенного 
Кикиморам в некоторых местностях приписывалось и свойство похищать маленьких детей. Однако судя по 
Как бы ни назывались охотящиеся за детьми духи у славян изначально, в мифологических представлениях 

Еще больше, чем духов, древние славяне почитали богов – сверхъестественных существ высшего ранга, 
Тем не менее, они тоже присутствуют. Можно обратить внимание, с какой почтительностью в некоторых русских сказках герои обращаются к Солнцу и Месяцу, смиренно прося у них помощи. Нет ни одной русской сказки, где солнце или луна выступали бы отрицательными персонажами или высмеивались бы. Тогда как лешие и водяные могут изображаться враждебными существами, а также быть обманутыми героем. Хотя лес, откуда славяне получали материал для строительства жилищ, и вода были для древних не менее важны, чем свет солнца и уж тем более луны. Это не случайно: бог солнца Яр (Ярило), как свидетельствуют древнерусские летописи, почитался славянами как верховное божество, а Месяц считался его братом. Культ Яра и Месяца с распространением христианства прекратился, однако привычное народное почитание самых ярких небесных светил осталось.
В образе известного героя русских сказок Мороза (Морозко) тоже присутствуют явные пережитки древнего обожествления. Хотя летописных данных о наличии у славян такого божества нет, фольклорные сведения, а также некоторые дошедшие до наших дней обряды (в основном в новогодней традиции) явственно указывают на то, что изначально Мороз почитался славянами как повелитель стихии зимнего холода. Популярная и поныне русская сказка «Морозко» указывает на его характерные божественные черты: с ним бесполезно бороться, и первая девушка спасается, только произведя на него хорошее впечатление своей смиренностью; он способен одаривать людей материальным богатством, непосредственно не связанным с его стихией; он может влиять на сидящую в теплой избе собаку, которая человеческими словами оповещает хозяев о судьбе повстречавшихся с ним девушек; он находится выше человеческих морали и эмоций, наградив одну девушку и убив другую только по причине их отношения к нему, но при этом обеих сначала подвергнув испытанию холодом. Помимо фольклора, на сакральные истоки образа Мороза указывает явно основанная на народном творчестве песня М. Уваровой «Ой, мороз, мороз», выполненная в форме заклинания (языческой молитвы).
В настоящее время Мороз (Дед Мороз) больше известен в России как ключевой персонаж празднования 
Современный Дед Мороз, уподобившись Санта-Клаусу, тем не менее, сохранил очень много сакральных черт, пришедших из древнеславянского язычества. На былое обожествление его фигуры указывают, прежде всего, наличие у него сверхъестественных способностей (в современных новогодних сказках он по-прежнему управляет зимней стихией, может насылать холода и метели, а также совершать другие чудеса, например, по мановению его посоха из ниоткуда появляются подарки для детей) и культивируемое среди детей явственно трепетное почитание его персоны: если Санта-Клаус – в заметной степени комичный персонаж, то Дед Мороз в самом деле предстает как некий «детский бог», олицетворение в глазах детей высшей добродетели. И современный российский Дед Мороз, и европейский Санта-Клаус, одаривая детей подарками, отмечают их хорошее поведение в течение года, но делают это несколько по-разному. У Санта-Клауса вознаградить послушных детей – конкретная цель, а в некоторых представлениях он же (или – в Альпийском регионе, его антагонист демон Крампус) наказывает непослушных. Дед Мороз, хотя послушных вознаграждает в первую очередь, обыкновенно затем «милостиво» одаривает и озорных, что восходит к древним представлениям о божественном абсолютизме, свободной воле божества одаривать кого угодно из смертных и кого угодно карать. Ныне практикующаяся новогодняя традиция, согласно которой дети, прежде чем получить от Деда Мороза подарок, должны рассказать перед ним стихотворение, исполнить песню или танец, тоже восходит к древней языческой обрядовости, к ритуалам, посредством которых люди обращались к своему божеству.
Весьма интересным и в значительной степени таинственным, но очень распространенным персонажем
Деревянное захоронение на опорных столбах, построенное в лесу коренным народом Сибири
Некоторые фольклористы видят в Бабе-Яге древнее божество, ведавшее лесной стихией (тогда как каждый леший одухотворял конкретный лесной массив, а не все леса в целом). Известный советский исследователь фольклора В. Пропп полагал также, что Баба-Яга в древнеславянских представлениях являлась проводницей человеческих душ из мира живых в мир мертвых. На это указывает, в частности, такой упоминающийся во многих сказках атрибут, как одна костяная нога, в то время как другая нога у нее обычная. Часто в сказках герой с помощью Бабы-Яги, которую обнаруживает в избушке на курьих ножках, после предварительно сказанных ей похожих на заклинание слов и некоторых напоминающих ритуал действий (например, мытье в бане), попадает в некое Тридевятое царство. По мнению В. Проппа, Тридевятое царство – это и есть потусторонний мир, где обитают души умерших, а избушка на курьих ножках – вход в него. Сам образ избушки на курьих ножках, несомненно, является отсылкой к существовавшему на Руси и в России архитектурному облику некоторых строений, возводимых не на фундаменте, не на земле, а на прочных опорных столбах. Некоторые славянские племена на возведенных на врытых в землю столбах помостах хоронили покойников, и в некоторых сказках указывается, что избушка на курьих ножках не имеет ни окон, ни дверей (это зафиксировано и во вступлении к поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила»). Вплоть до начала XX в. в таких висячих гробницах, кстати, среди леса, хоронили своих покойных и некоторые народы Сибири. Также сказочные представления об избушке на курьих ножках могут восходить к описанию какого-то древнего языческого капища, на котором жрицы совершали обряды, подобные описываемому в сказках приему героя Бабой-Ягой. Исходя из фольклорных описаний, Баба-Яга в представлении древних славян могла быть и божеством смерти вообще или же повелительницей вредоносных, причиняющих гибель и разруху природных стихий. В сказках Баба-Яга часто стремится зажарить в печи и съесть либо главного героя, либо детей, обычно предварительно искупав и накормив. В этом тоже отчетливо прослеживается какой-то древний ритуал: возможно, человеческое жертвоприношение, возможно, обряд инициации, то есть, физических испытаний, которым древние племена подвергали достигших определенного возраста детей в знак приобщения их к жизни общества. Не исключено, что нарочито демонический образ Бабы—Яги является собирательным, показывающим ненависть к язычеству в христианской Руси. Тогда сказочная Баба-Яга, возможно, «собранная» в одном лице из нескольких наиболее мрачных древних божеств, является олицетворением языческих, противных христианскому учению верований и обрядовых пережитков. А образ Бабы-Яги как безобразной старухи, скрывающейся в глубине леса, возможно, имеет более реальный прототип: в период распространения на Руси христанства старые служители языческих культов, не желая принимать новую религию, уходили из общин в лесную глушь, где продолжали заниматься своими прежними обрядами, недоброжелательно встречая приходивших к ним чужаков.
На территории современной России древняя славянская мифология стала разрушаться с конца X в., когда

9 629
Сказка – один из основных жанров устного народного творчества. Это произведение, написанное в прозе (реже – в стихотворной форме), фантастического, приключенческого или бытового характера. Сказка может быть фольклорной и литературной.
Фольклорная сказка представляет собой жанр письменного или устного творчества народа. В основе лежит рассказ о вымышленных событиях.
Литературная сказка может сочетать в себе как выдуманное, так и реальное. Её сюжет тесно связан с фольклорной сказкой. Этот эпический жанр имеет конкретного автора.
История возникновения и зарождения сказки
Фольклорная сказка исторически предшествует литературной и происходит из тотемических мифов первобытнообщинного общества. Такая сказка передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Она постоянно изменялась и впитывала в себя черты новой реальности.
Когда первобытнообщинный строй распался, мифологическое мышление утратило свою силу. Постепенно сказки потеряли свою магическую природу и начали восприниматься как художественные произведения, которые предназначались для поучения и назидания не только детей, но и взрослых.
В Древней Руси сказка уже выделилась как жанр из устной прозы, размежевалась с преданием, легендой и мифом. На протяжении XII-XVII вв. активно откликалась на события современной жизни.
Слово «сказка» встречается в письменных источниках не ранее XVII века. До этого времени в народе использовали слово «басня», «сказание». Современное значение термин приобретает с XVII- XIX вв.
История закономерно трансформирует сказку, и самая резкая трансформация связана с возникновением литературной сказки, основой которой выступала сказка фольклорная.
Промежуточная стадия между фольклорной и литературной сказкой наблюдается в эпоху романтизма. В этот же период возникает «фольклористическая» сказка – литературная запись фольклорной сказки, которую фиксировали и по-своему трансформировали учёные-фольклористы.
В конце XVII в. французский писатель Ш. Перро активно работает над созданием литературных сказок («Сказки моей матушки Гусыни»). Однако в это время сказку причисляли к «низким жанрам».
Литературная сказка XVII-XVIII вв. является в большей степени фольклорным, чем индивидуально-авторским произведением. Она ещё не отделилась от повести, басни, анекдота и т.д.
Постепенно литературная сказка завоевывает особую популярность у людей разных возрастов и сословий, и, следовательно, претендует на жанровую самостоятельность.
Братья Гримм, фото
Литературная сказка становится самостоятельным литературным жанром в конце XVIII – начале XIX вв. Советский литературовед В. Ю. Троицкий говорит, что «с лёгкой руки романтиков в литературе на равных правах с другими утвердились и получили права гражданства такие жанры, как сказка, легенда, предание, быль и т.п.».
Большую роль в становлении литературной сказки сыграли братья Гримм, которые нашли свой живой, простодушный и степенный стиль («Детские и семейные сказки»).
В России литературная сказка появляется благодаря А. С. Пушкину, который ввёл её в литературу на правах полноправной хозяйки.
В XIX в. многие русские и зарубежные писатели обращаются к этому жанру и разрабатывают собственные сюжеты (О. М. Сомов, В. И. Даль, А. Погорельский, Гёте, Э. Т. А. Гофман, В. Гауф, Г. Х. Андерсен и др.).
В конце XX – начале XXI вв. в сказках отражается детская психология. Героем произведений этого жанра становится современный ребенок, который пытается адаптироваться в окружающем его мире. Повествование остаётся таким же невероятным и сказочным, но читатель в героях сказки узнаёт себя и свои поступки. Например, повести-сказки «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, «Глупая принцесса» Л. С. Петрушевской и т.д.
Основоположники сказки
«Кот в сапогах» Ш. Перро, иллюстрация
Основоположником жанра сказки в Европе считают французского писателя Ш. Перро, который в 1697 г. издал сборник «Сказки матушки Гусыни». Он написал большое количество чудесных сказок: «Ослиная шкура», «Кот в сапогах», «Мальчика-с-пальчик», «Спящая красавица» и др.
Также важную роль сыграл сборник «Детских и семейных сказок» (1812–1814 гг.), изданный немецкими исследователями народной культуры Вильгельмом и Якобом Гримм. После выхода сборника писатели и учёные других стран стали проявлять интерес к сказке.
В России основоположником сказки считают А. С. Пушкина.
Характерные особенности сказки
Большинство литературоведов выделяют следующие характерные особенности фольклорной сказки:
- Коллективность.
- Анонимность.
- Устная форма.
- Поучительный характер.
- Сюжет ограничен определёнными мотивами.
- Конфликт добра и зла.
- Повторяющиеся из сказки в сказку герои (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Леший и др.).
- Сказочные формулы («Жили-были…», «Давным-давно…» и др.).
- Наличие фантастических образов (ковёр-самолёт, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы и т.д.).
- Волшебные события.
- Волшебное пространство.
- Типизированный образ героя (глупый, мудрый, лентяй и т.д.).
- Особый язык, интонация.
- Деление персонажей на положительных и отрицательных.
- Многократное повторение действия (обычно три раза).
- Хороший конец.
Литературная сказка имеет свои особенности:
- Наличие автора.
- Письменная форма.
- Индивидуализированный образ героя.
- Связь сюжета с реальной действительностью.
- Вариативный, свободный сюжет, который подчиняется авторской воле и фантазии.
- Сложный синтаксис.
- Богатая лексика.
- Психологизм.
- Наличие ярко выраженной авторской позиции.
- Детальное описание.
Особенности построения сюжета и композиции в сказке
Фольклорная сказка отличается ритмом, напевностью, неторопливым повествованием. Традиционно в сказке выделяют присказку, зачин и концовку.
- Присказка – короткий рассказ, прибаутка перед началом сказки. Это своеобразное вступление, не связанное с содержанием произведения. Например: «Начинает сказка сказываться», «Это присказка, а вот сказка чередом пойдет» и др. Может находиться в середине и в конце сказки.
- Зачин – традиционное начало сказки («За горами, за лесами, За широкими морями…», «Жили-были …» и др.).
- Концовка – заключительная часть сказки («И я там был, мед-пиво пил», «Вот и сказки конец, а кто слушал – молодец» и т.д.).
Важный признак этого жанра – троистость. Обычно в сказках три брата, три испытания, три девицы, три поездки, три желания и т.д.
«Три брата» В. и Я. Гримм, иллюстрация
События в сказке имеют точную положительную или отрицательную оценку. Сказочный мир яркий и разнообразный.
Художественные приемы в сказке
В сказке часто используются:
- Народнопоэтические эпитеты («красна девица», «добрый молодец», «чистое поле» и т.д.).
- Клишированные портретные описания и формульные вопросы-ответы («Баба-Яга, костяная нога», «куда путь-дорогу держишь», «встань ко мне лицом, к лесу задом» и т. д).
- Метафоры («кисельные берега», «молочные реки»).
- Фразеологизмы («прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы», «ни жив, ни мертв», «как в воду канул», «несолоно хлебавши» и др.).
- Пословицы и поговорки («как аукнулось, так и откликнулось», «утро вечера мудренее» и др.).
- Литота (Мальчик-с-пальчик, Дюймовочка и др.).
- Гипербола:
«Махнула левым рукавом, сделалось озеро, махнула правым рукавом, и поплыли по воде белые лебеди»
«Царевна-лягушка».
«Ест за четверых, работает за семерых»
«Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкин.
- Аллегория (лиса – хитрость, заяц – трусость и т.д.)
- Просторечия («черт ли сладит с бабой гневной»).
- Олицетворение.
- Сравнения.
Также выразительность речи в сказках создаётся с помощью повторов, параллелизма, бессоюзия, риторических вопросов, эллипсиса и антитезы.
Деление внутри жанра: виды сказок
Сказки делятся на несколько видов:
«Царевна-лягушка», иллюстрация
Сказки о животных имеют простой сюжет, обычно состоят из одного эпизода. Главные герои – дикие или домашние животные, которые наделены человеческими качествами (хитростью, ловкостью, жадностью и проч.). Примеры: «Лиса и Тетерев», «Кот, Петух и Лиса», «Лиса и волк», «Лиса и Журавль». Большинство сказок имеют нравоучительный, а не комический характер.
Бытовые сказки описывают необычные происшествия или явления, которые происходят с простыми обывателями. В этой сказке нет волшебства и чудес. В них часто отражаются отношения между богатыми и бедными, осуждаются жадность, завистливость, невежество. Главными героями могут быть купцы, цари, бояре, попы. В основе сюжета лежит столкновение героя со сложными житейскими обстоятельствами. Например: «Добрый поп», «Барин-кузнец», «Каша из топора», «Про нужду» и т.д.
Волшебные сказки имеют невероятный и занимательный сюжет, в них действуют необычные герои и чудесные существа. Часто герою помогают волшебные предметы (шапка-невидимка, огниво, золотое колечко, зеркальце и др.). Случаются чудесные превращения, главный конфликт – противостояние добра и зла. Примеры: «Морозко», «Марья Моревна», «Сивка-Бурка», и др.
Аудитория жанра
Основная аудитория жанра – дети. В первую очередь это дошкольники, которым читают сказки родители. В начальной школе малыши уже сами знакомятся со сказочными произведениями и их смысловым содержанием. Ребята постарше и подростки тоже любят этот жанр.
Немалая часть сказок рассчитана на взрослую аудиторию. В данных текстах по-новому осмысливается современная жизнь, затрагиваются философские вопросы. Например: «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. А. Филатова, «Рыбак и его душа» О. Уайльда.
Кадр из м/ф по мотивам сказки Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца»
Взрослые любят сказки за то, что они способны вернуть детскую непосредственность ощущений и восприятия действительности.
Схожесть с другими жанрами
Нередко литературная сказка заимствует опыт других жанров – басни, притчи, романа, детективной и приключенческой повести, новеллы, поэзии, драмы, утопии и научной фантастики.
Народная сказка близка к мифу своим сюжетом. К примеру, эта связь прослеживается в мифе о Геракле «Золотые яблоки Гесперид» и русской народной сказке о молодильных яблочках.
Также у сказки много общего с балладой. Например, в сказке «Чудесная дудочка» развивается сюжет баллады.
С былиной народную сказку роднит только то, что эти жанры фольклора отображают битву между добром и злом, великодушие героев и их нравственные ценности.
Яркие представители
В русской литературе сказки создавали такие известные писатели: С. Т. Аксаков, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, К. Д. Ушинский, П. П. Бажов, В. В. Бианки, В. М. Гаршин, В. Ю. Драгунский, Б. Заходер, Н. Н. Носов, С. Я. Маршак, В. Ф. Одоевский, В. Г. Сутеев, Г. М. Цыферов, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц, С. В Михалков.
В европейской литературе к жанру сказки обращались Ш. Перро, Г. Х. Андерсен, братья Гримм, А. А. Милн, Дж. Родари, А. Линдгрен, Р. Киплинг, Т. Янссон, О. Уайльд, Л. Кэрролл, А. Гофман, В. Гауф, Дж. Р. Р. Толкин.
Востребованность сказки в разные периоды
Наибольшего расцвета литературная сказка достигает в XIX в. (В. А. Жуковский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Гауф и др.).
Литературная сказка становится любимым жанром для писателей Серебряного века.
О популярности сказки в России рубежа веков свидетельствуют их публикации в периодических изданиях для детей, в журналах «Тропинка», «Задушевное слово», «Галчонок» и др.
В последнего десятилетия XX в. к этому жанру обращаются К. Булычев, В. П. Крапивин, С. Л. Прокофьева, Э. Н. Успенский.
Советская литературная сказка знала взлеты и периоды «спокойного» существования, запреты и разрешения.
В XXI веке сказки пишут Б. Акунин, Л. Е. Улицкая, Д. Л. Быков, Л. С. Петрушевская и др.
Представители жанра в школьной программе
В школьную программу по литературе входят следующие русские народные и литературные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». «Морозко», «Снегурочка», «Иван-царевич и серый волк», «Мальчик с пальчик», «Финист – Ясный сокол», «Каша из топора», «По щучьему веленью», «Волк и семеро козлят», «Петух и лиса»; «Девочка Снегурочка» В. И. Даля, «Мороз Иванович», «Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского, «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, «Ашик-Кериб» М. Ю. Лермонтова, «Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешественница» В. М. Гаршина, «Тайное становится явным» В. Ю. Драгунского, «Каменный цветок» П. П. Бажова, «Тёплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Цветик-семицветик» В. П. Катаева, «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, «Живая вода», «Бременские музыканты», «Горшок каши» братьев Гримм, «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка» Ш. Перро, «Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок» Г. Х. Андерсена.
Список литературы
- Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: Художественная литература, 1984 – 176 с.
- Бахтина В.А. Литературная сказка в научном осмыслении последнего двадцатилетия // Фольклор народов РСФСР. Уфа: Искусство, 1979 – 256 с.
- Брауде Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. № 3. С. 226-234.
- Лупанова И.П. Современная литературная сказка и ее критики (заметки фольклориста) // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1981. С. 76-90.
- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – М.-СПб.: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. – 240 с.
- Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка ХХ века: история, классификация, поэтика. М.: Флинта: Наука, 2003. 311 с.
- Пропп В.Я. Русская сказка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 336 с.
- Учебник-хрестоматия для 5 класса под редакцией Коровина В.Я. М. «Просвещение», 2013.
- Цикушева И.В. Жанровые особенности литературной сказки (на материале русской и английской литературы) // Вестник Адыгейского государственного университета. 2008. № 2. С. 21–24.
Ирина Мещерякова | Просмотров: 2.7k