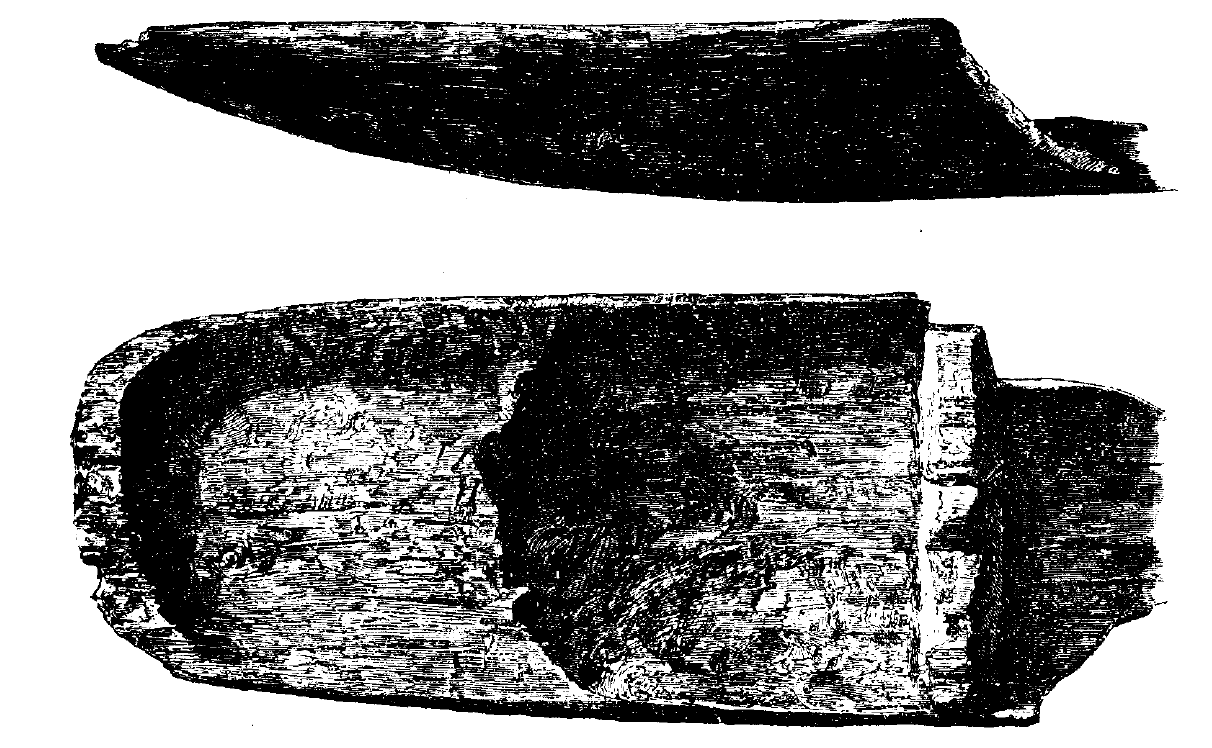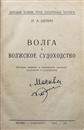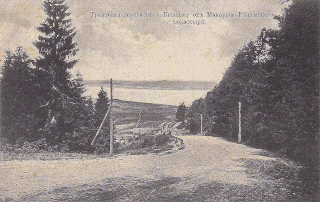Обновлено: 09.01.2023
Преимущество водных путей состоит в том, что они созданы природой. Еще с библейских времен , человек стремился соорудить плавучее средство, с помощью которого он смог бы совершать близкие и дальние путешествия. Следует отметить, что среди современных видов транспорта, водный, является одним из самых древних. До появления железных дорог, именно ему принадлежала решающая роль в обеспечении транспортных потребностей страны. Современному туристу, любующемуся красотой природы Поволжья с палубы комфортабельного лайнера трудно представить те тяжелые условия, в которых был вынужден находиться путешественник не столь отдаленного прошлого.
Развитие речных круизов в первой половине XX века. В результате быстрых темпов развития судовой отрасли, к 1907 г. Россия имела самый большой речной флот в мире, большая часть которого, находилась в бассейне Волги. К 1913 г. было построено 11 теплоходов, что позволило открыть пассажирскую линию Нижний Новгород – Астрахань. Благополучно пережив революцию, весь флот был национализирован. Во второй половине 30-х гг. прошлого столетия речные путешествия стали одной из форм поощрения и отдыха передовиков производства и представителей политической и культурной элиты. Война помешала превращению речных круизов в массовый вид отдыха и только со второй половины 50-х гг. XX столетия, они стали доступны широким кругам населения. В 1959 г. Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС организовал первый речной маршрут. За ту навигацию 10 судов перевезли 12 тыс. путешественников. В советское время по мощности судов и масштабу речных перевозок Волжское судоходство занимало второе место в мире, уступая только глубоководному водному пути по реке Святого Лаврентия в Северной Америке, а по числу судов с механическими двигателями – первое место в мире. Так же в то время, реки и водоемы активно использовались для организации теплоходных экскурсий.
Развитие речных круизов во второй половине XX века. В России речные круизы были чрезвычайно модны в 60-80-е гг. XX в., и если человек из интеллигентных или аппаратных кругов не совершил путешествия по Волге в летний период, то он чувствовал себя в обществе ущербным. В начале 70-х теплоходы ходили на Ростов, Москву, Пермь, Нижний Новгород, Санкт- Петербург. Наибольшей популярностью в СССР пользовался круиз по Волге: Москва – Астрахань – Москва или Ленинград – Астрахань – Ленинград, длительностью от 20 до 24 дней. Несмотря на большое количество судов, задействованных на этих маршрутах, спрос на такие туры превышал предложение во много раз и путевки на туры по Волге в 1960-80 гг. можно было получить только элитной части общества, а бронирование осуществлялось практически за год. Вплоть до конца 80-х гг. прошлого столетия речные круизы были самым качественным видом отдыха в России, даже с учетом всех сервисных проблем того времени. Всего к 1988 г. в СССР было организовано 8,3 тыс. рейсов на теплоходах для туристов. Около 40 местных советов по туризму и экскурсиям арендовали суда и организовывали путешествия для граждан в своих регионах по главному водному пути в России. Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Москва являлись основными экскурсионными центрами для путешествующих туристов по Волге. Что касается Саратовской губернии, то в Саратове в 1985 г. на теплоходных маршрутах побывало 24,6 тысяч туристов, а в 1986 г. – 28,6 тысяч. Самый длительный по протяженности маршрут речного путешествия — Саратов–Санкт-Петербург–Саратов продолжался 21 день.
Перспективы развития речных круизов в России. Так называемый дефолт 1998 г. стал катализатором возрождения интереса к внутреннему российскому туризму и к круизам в частности. На настоящий момент, почти 150 тыс. км голубых дорог страны освоено ныне туристами, количество которых составляет более 1 млн. человек. Сравнивая вышеизложенное с тем, что мы имеем теперь, можно увидеть, какие огромные изменения претерпели как организация, так и техническое оснащение водного перевозочного процесса от его зарождения до наших дней. Можно сделать вывод, что в последнее время, круиз, интенсивно развивающийся вид туризма. Количество пассажиров, путешествующих на круизных судах, ежегодно увеличивается, соответственно растут и доходы от этого вида бизнеса. Водный потенциал России, создает богатые возможности для развития речного круизного туризма, но, к сожалению, использовать его в полной мере пока не удается. Отсутствие государственной поддержки и финансирования, слабость и ветхость материальной базы российского круизного флота, неразвитость береговой инфраструктуры, отсутствие сложившегося спроса на круизы тормозят развитие в России круизного бизнеса. Для развития речного судоходства на Волге, необходимо внедрение новых технологий в судостроении, ведь за волжским флотом, большее будущее.
[1]-сайт российского речного флота
[2]- сайт истории речного флота. Здесь рассматриваются суда, пароходства, общества
ВЕСЬ XVIII в. и первую половину XIX в. мимо Решмы артели бурлаков тянули суда вверх – до Рыбинска.
Часть жителей Решмы и Решемской округи занимались бурлачеством.
Волга под Юрьевцем. Художник А.К. Саврасов. 1871 г.
Среди решемских бурлаков преобладали представители первого разряда, то есть бурлаки-профессионалы.
* Шишка – бурлак, идущий в лямке первым. Косные – два бурлака, которые идут последними 43.
Обычно, считается, что бурлаки тянули судно от начала до конца путины.
Это не совсем так. В большинстве случаев бурлаков тянули парусные суда, которые при наличии попутного ветра шли под парусами. В истории бурлаки остались неотделимыми от образов судов, которые они тянули. В первую очередь, речь идет о расшивах – наиболее массовом типе волжского парусного судна XVIII – первой половины XIX в.
Художники Г.Н. и Н.Н. Чернецовы оставили в своем путевом дневнике яркое описание каравана из расшив, который они увидели в Рыбинске утром 8 июня 1838 г. (несколькими днями раньше этот караван прошел мимо Решмы):
* Томойки – общее название костромских бурлаков 50.
*** Коровашик – коровай хлебный, весом от 10 до 15 фунтов (Прим. И.П. Корнилова).
**** Махлята, ячменцы и заборцы – названия жителей разных мест Юрьевецкого уезда.
Решма попала в бурлацкий фольклор. В конце XIX в. было записано несколько вариантов длинной путевой песни, в которой бурлаки упоминали все наиболее крупные селения, встречаемые ими на пути от Астрахани до Рыбинска. В песне упоминалась и Решма.
* Соминские лодки изготовлялись в с. Сомине Устюженского уезда Новгородской губ., стоящем на р. Сомине 57.
В одном варианте говорилось:
Город Юрьевец поволжский
Постройкою взял.
Ах, ну, ох ты мне,
Постройкою взял.
Решма да Кинешма –
Пить да кутить.
Солдога горюха –
Убытки платить.
Ах, ну, ох ты мне,
Убытки платить.
А вот город Кострома –
Гульливая сторона.
Ах, ну, ох ты мне,
Гульливая сторона 59.
В другом варианте пелось:
А вот город Кострома – гульливая сторона,
А пониже её Плёс, чтоб шайтан его пронес,
Ах ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.
За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,
А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень то подлец 60.
В 20-30 годы XIX в. на Волге появились первые пароходы, своим появлением производившие поначалу сильное впечатление на прибрежных жителей.
С середины XIX в. пароходы стали вытеснять бурлаков. Постепенно волжское бурлачество уходило в прошлое.
Кинешемский тракт. Спуск с Решемской горы к устью речки Решемки. Фото начала XX в.
К.Д. Ушинский, проезжавший по Волге в Костромской губернии в 1860 г., писал: «Бурлаки, надев на себя лямку, привязанную к канату, тянут судно за мачту и тихо, тяжело, утешая себя грустными песнями, идут по берегу. (. ) К счастью, впрочем, пароходы подрывают теперь сильно бурлацкий промысел и скоро заставят, может быть, бурлаков сидеть дома и пахать землю. Грустно смотреть, как эти люди, оборванные, обожженные солнцем и ветром, грудью напирают на лямку, пробираясь по берегу, то песчаному, то каменистому, то обрывистому, то заросшему кустами. Одна партия сменяет другую, которая идет отдыхать на барку, и судно беспрестанно подвигается медленно, чуть заметно. Неужели эти люди, эти заросшие головы, эти черные груди, в которых бьётся человеческое сердце, неспособны ни к чему лучшему, кроме этой лошадиной работы, от которых в других странах даже и лошадей освободил теперь благодетельный пар? Понятно, как радуются бурлаки, когда сильный попутный ветер надувает громадные паруса судна, белые полотняные, иногда рогожные, и сам потащит судно вверх, освобождая бурлаков от труда.
На Нижегородском тракте
С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен через Решму и Нагорное проходила большая сухопутная дорога, связывающая Кинешму и Нижний Новгород. В первой половине XIX в. этот тракт официально именовался Нижегородским.
Однако жители Решмы и Нагорного в просторечии называли ту часть тракта, которая шла на Кинешму, – Кинешемским трактом, а которая шла на Юрьевец – Юрьевецким.
Как писалось выше, по этому тракту в октябре 1834 г. проехал император Николай I.
Кинешемский тракт. Мост через речку Решемку. Фото начала XX в.
1861 год: отмена крепостного права
Вслед за отменой крепостного права в том же 1861 г. была проведена административная реформа, вводившая в сельской местности частичное самоуправление. С этого времени каждый уезд стал делиться на волости, во главе которых стояли выборные волостные старшины. Примечательно, что в 1861 г.
Решма и Нагорное и вошли в состав разных волостей. Решма вошла в Зименковскую волость, которая узкой полосой вдоль Волги тянулась от Решмы на запад. Центром её стала д. Зименки (более старое название – Лабутин Починок), где и разместилось волостное правление. Нагорное вошло в Шевалдовскую волость, территория которой от Нагорного простиралась на восток (до р. Ёлнати) и на юг. Центром волости стала д. Шевалдово на р. Юхме.
В составе Зименковской и Шевалдовской волостей Решма и Нагорное оставались вплоть до 1924 г.
Об авторе: Виктор Михайлович Грибков-Майский – член Союза журналистов России.
Речной вокзал в Калинине. Почтовая открытка, 1961 г.
Не так часто можно найти город в Центральной России, который мог бы похвастаться таким водным богатством, как Тверь. Здесь сливаются воедино сразу три реки – Волга, Тьмака и Тверца. Такое исключительно выгодное положение не могли не оценить наши предки, которые много веков назад основали здесь свое поселение. Кто-то из исследователей называет колыбелью Твери стрелку рек Волги и Тьмаки, а кто-то – Волги и Тверцы, где находился древний Отроч монастырь, от которого сегодня остался лишь Успенский собор (1722 год). Долгое время реки служили основными транспортными артериями и соответственно вели в Тверь.
Галера императрицы
 |
| Волга в районе современного Рыбинска. Фото Владимира Захарина |
Вышневолоцкая система
А в начале XVIII века была создана первая в России искусственная водная система – Вышневолоцкая, которая соединила Тверь через Тверцу, Цну, Мсту, Волхов и Неву с новой столицей Российской империи – Санкт-Петербургом. Более полутора веков Тверь была крупным перевалочным пунктом по перевозке самых различных грузов по воде. Специально для этого было сконструировано судно-барка, которую можно сегодня видеть на городском гербе Вышнего Волочка, пожалованного городу в 1772 году Екатериной II.
Последнее судно в Санкт-Петербург по Вышневолоцкой системе прошло в 1889 году.
 |
| Городецкий шлюз в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина |
Старый бейшлот – земляная плотина на каменном фундаменте с деревянным водосбросом – был разрушен во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Но уже в 1943-м отстроен заново в бетоне.
Повсеместно по Волге, в том числе и в Твери, были построены пристани, а вот свой речной вокзал появился в Твери только в 1938 году (архитекторы Е.И. Гаврилова и П.П. Райский, конструктор И.М. Петраков, инженер И.М. Тигранов). Здание вокзала – одно из наиболее выразительных сооружений советского конструктивизма.
Но история речного вокзала в Твери началась значительно раньше, в 1932 году, и связана она со строительством канала Москва–Волга (Канал им. Москвы) и с созданием Иваньковского водохранилища. Тогда стало ясно, что после того, как водохранилище наполнится, уровень воды в Волге поднимется намного выше, что сделает Тверь полноценным портом. Именно в это время, осенью 1932 года, было начато строительство канала Москва–Волга, а в январе 1934 года – водохранилища.
Одновременно у села Иваньково сооружался мощный гидроузел. Железобетонная и земляная плотина, перегородившая Волгу, была построена в 1936 году. А 23 марта 1937 года в первый раз опускаются щиты Иваньковской плотины; 27 марта волжская вода пошла по каналу. 17 апреля 1937 года все русло канала длиною в 128 км уже заполнено водой. Именно с этого времени уровень воды в Волге поднялся, и в Калинин (так с 1931 года стала называться Тверь) смогли приходить многопалубные пароходы и теплоходы.
Иногда можно прочитать, что речной вокзал в Калинине стал первым на Волге, построенным в советское время, но это не совсем так. Практически одновременно, весной 1933 года, в Москве началось строительство Северного речного вокзала. Оно также было связано со строительством канала имени Москвы, соединившего Волгу и Москву-реку.
Все работы были завершены менее чем за пять лет – в 1937 году. Проект разработали архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. В оформлении здания, построенного в стиле советского конструктивизма, принимали участие скульптор Иван Ефимов, художница Наталья Данько и другие мастера живописи и скульптуры. На верхней галерее располагался ресторан, а внутри здания продавались билеты на прогулочные катера и дальние пассажирские и круизные маршруты.
И внешне, и конструктивно оба речных вокзала имеют много схожего. Как и для Москвы, для Твери здание Речного вокзала было одним из наиболее выразительных сооружений, которое появилось в городе до начала войны.
Тверской вокзал рассчитан на одновременное обслуживание 550 пассажиров. И много лет он жил своей полноценной жизнью, а теплоходы от его причалов отправлялись вниз и вверх по Волге. Объяснялось это и тем, что в то время только по воде можно было добраться до многих населенных пунктов.
В советское время пассажирское судоходство вниз по Волге осуществлялось от Твери до Углича (Ярославская область). Уже давно пассажирское судоходство прекращено. Основная причина – отмена дотирования проезда, без чего речное пассажирское судоходство оказалось убыточным. В настоящее время в Тверь заходят круизные теплоходы, а по Волге в черте города курсируют прогулочные кораблики.
Первые суда.
С древних времен люди стремились расположить свои жилища ближе к реке или другому водоему, что облегчало их снабжение водой и пищей. Позднее они научились использовать реку в транспортных целях, и это значительно расширило связи одних поселений с другими.
(фото древнего челна, обнаруженного на дне Ладожского озера. Этому челну определен возраст около 5 тысяч лет)
В местах раскопок одновременно с челнами найдены изготовленные из камня орудия труда, а также сделанные из дерева весла. Этот период сопровождался созданием и усовершенствованием движителя-шеста, куста, а затем и паруса.
Раскопки говорят прежде всего о том, что судоходство и судостроение на Руси зародились в древнейшие времена, а искусство вождения челнов передавалось из поколения в поколение.
Конструкция челна все время совершенствовалась. Для увеличения грузоподъемности стали набивать на челны сверху доски. Эти суда назывались набойными.
Условия жизни требовали легких и прочных судов, приспособленных к сложным условиям плавания и перетаскивания волоком из одной реки в другую.
Одним из таких судов был легкий плоскодонный шитик. У него обшивочные доски между собой прошивались распаренной вицей или жгутами, сделанными из мочала.
Шитики делали длиной до 15 м и грузоподъемностью до 30 тыс. пудов. Над средней частью судна устанавливали крышу для защиты груза от непогоды. Был на судне и кубрик для команды. Шитики приводились в движение веслами и ветром.
Затем большое распространение получили плоскодонные ладьи-ушкуи, прообразы пассажирских судов. Людей, ходивших на таких судах, называли ушкуйниками.
Новгородский Ушкуй — суда этого типа известны только по упоминаниям в русских летописях. Причем все записи связаны с использованием ушкуев в военных походах новгородцев и псковичей. По летописям количество Ушкуев в одном таком походе колеблется от 70 до 250 штук. Никаких данных, указывающих на конструкцию ушкуя или его размеры в летописях нет, что затрудняет его идентификацию в случае обнаружения останков. Неоднократно Российскими историками предпринимались попытки представить, как мог выглядеть ушкуй, но все они носили умозрительный характер и чрезвычайно рознились друг с другом. Странно, что ни один из вариантов реконструкции не учитывал возможность генезиса новгородских ушкуев из входивших в состав новгородских земель карельских погостов. А ведь опираясь на образец карельского ушкуя можно предположить, что ушкуи новгородские были большими шитыми лодками с острыми носовой и кормовой оконечностями. Возможно даже, что они были только гребными судами без парусного вооружения. В литературе принято считать, что экипаж одного ушкуя составлял от 30 до 50 человек, но эти цифры не опираются на документальные свидетельства.
Находки останков новгородских ушкуев или правильнее судов, которые могли бы быть интерпретированы как ушкуи, в России неизвестны.
В связи с развитием торговых взаимоотношений потребность в грузовых перевозках с каждым годом росла. Поэтому надо было думать о новом типе судна, более емком для увеличения грузоподъемности и плоскодонном для уменьшения осадки. Необходимо было, чтобы судно было легким на ходу при полной нагрузке и имело хотя бы кое-какие удобства для людей.
Так появились суда под названием струги, которые имели следующие основные характеристики:
длина — 21,5 м,
грузоподъемность — 50 т.
Пассажирские струги вмещали до 50 пассажиров. Они существовали долго. В борьбе с народным движением, возглавляемым Степаном Разиным, струги применялись для перевозки солдат.
Шитики, ладьи, струги были судами IX-XIV веков.
В период раннего капитализма суда ладейного типа заменяются судами барочной конструкции.
Эти суда получили различные названия, в основном по месту их постройки, а именно:
гусяны (р. Гусь, приток Оки),
Гусяна — это плоскодонное, мелкосидящее, открытое судно, грузоподьемностью до 40-50 тысю пудов. Основной груз для гусян — дрова, камень. Длина гусяны была до 50 саженей. На Волге гусяны можно было увидеть до 30-х годов нашего века.
мокшаны (р. Мокша),
унжаки (р. Унжа),
суряги (р. Сура),
коломенки,
расшивы (фото будет ниже) и другие.
Каждый тип судна имел свою, отличную от другого судна архитектуру. Они предназначались для перевозок тяжелых грузов, главным образом железа с уральских заводов на Макарьевскую, а позднее — на Нижегородскую ярмарки. Суда барочного типа, систематически совершенствуясь, использовались в судоходстве продолжительный период времени. Грузоподъемность коломенок достигала 25-28 тыс. пудов. Передвигались они вниз по течению самосплавом, вверх — веслами, шестами и бечевой со скоростью 7-14 верст в сутки.
Злые вы! Уйду я от вас. в монастырь. мужской.
———————————
Всё гребу и гребу куда-то
Читайте также:
- Сочинение о русской культуре на аварском языке
- Я хочу стать музыкантом сочинение
- Сочинение человек и история в фольклоре древнерусской литературе и литературе 18 века недоросль
- Сочинение на тему чудесная пора
- Сочинение почему я люблю францию
Судоходство на Волге
Человек плавает по Волге с того самого момента, как впервые поселился на берегах великой русской реки. Сначала люди ходили по ней на плотах, после стали строить лодки и судёнышки покрупнее. А потом человек сделал великое географическое открытие: оказалось, что по Волге можно плыть тысячи вёрст без остановки, при этом попасть в совершенно неведомые восточные земли! Так тысячи лет назад родилось волжское судоходство.
На вёслах и под парусом
Лодку для плавания по рекам, озёрам и морям люди использовали ещё в каменном веке, так что это транспортное средство существует на нашей планете столько же, сколько и само человечество. Скорее всего, на лодке, выдолбленной из дерева, особенно в обильных водой местностях, люди начали передвигаться даже раньше, чем ездить по суше верхом на лошадях, верблюдах, ослах и других животных.
Изобретение паруса значительно увеличило возможности судоходства. Теперь путешественники при движении могли надеяться не только на течение реки, не только на мускульную силу человека, сидящего на вёслах, но также использовать даровую энергию попутного ветра. Историки считают, что ещё в IX-X веках древние русичи на своих вёртких ладьях под парусом ходили вниз по Волге на сотни и даже тысячи километров. Из-под Пскова, Новгорода и Твери по системе волоков и малых речушек они попадали на Валдайские озера. Оттуда вниз по реке шли в Хазарскую, а затем и в Булгарскую земли и далее добирались до Ногайской орды и Гирканского (Каспийского) моря.
Конец бурлацкого промысла
Вплоть до середины XIX века суда ходили по Волге исключительно под парусом или с помощью тягловой силы животных и людей, то есть бурлаков. Эта страница русской истории увековечена и в художественной литературе, и в народных песнях, и в живописных произведениях. Достаточно вспомнить неподражаемую «Дубинушку» и знаменитое полотно Ильи Репина «Бурлаки на Волге».
Но в те времена, когда Репин создавал этюды для своей картины, по Волге суда ходили уже не только на бурлацких лямках, но и на паровой тяге. Первый буксирный пароход под простым названием «Волга» взял груз в Самаре в 1843 году, о чём тогда же сообщили газеты. Именно с того года в России вступил в силу закон, разрешающий частным лицам иметь пароходы в собственности, и это дало мощный толчок развитию парового судостроения и судоходства. Через три года на Волге насчитывалось уже двенадцать пароходов, а к началу 60-х годов XIX века — более двадцати. Но и тогда суда с трубой и чёрным дымом оставались для волжан в значительной степени диковиной.
Упомянутый выше пароход «Волга» с мая 1846 года стал совершать уже не эпизодические, а регулярные рейсы по речным просторам с грузом пшеницы. В свой первый рейс он взял на борт 150 тысяч пудов зерна и за три недели в условиях затяжного паводка успешно доставил товар из Самары в Рыбинск. Между прочим, почти на всём протяжении своего пути пароход противостоял сильнейшему шторму, который тогда же погубил много парусных судов. Именно этот рейс показал купцам волжских городов всю выгоду нового вида транспорта, и с того момента пароходное сообщение на Волге стало бурно развиваться.
Только в навигацию 1847 года пароход «Волга» перевёз в общей сложности 493 тысячи пудов груза и заработал для своих владельцев около 80 тысяч рублей — огромные по тем временам деньги. Такая прибыль позволила хозяевам тут же заложить на верфях два новых парохода — «Геркулес» и «Самсон». Впоследствии они работали на грузовых линиях Балаково — Рыбинск и Астрахань — Нижний Новгород.
Пароходные общества
Примерно в то же время в волжских городах стали возникать и пароходные общества, занимавшиеся перевозкой уже не грузов, а пассажиров. Название самого первого из них оригинальностью не отличалось — владельцы дали ему имя «По Волге». Чуть позже к нему присоединились пароходные общества «Самолёт», «Кавказ и Меркурий», «Русь», «Дружина», «Надежда» и некоторые другие.
При этом судовладельцы договорились между собой, чтобы каждая компания имела свою, обособленную группу названий пароходов. Сделано это было для того, чтобы по имени судна легко можно было узнать, какому обществу они принадлежат. Например, пароходная компания «По Волге» имела суда, названные «Царь», «Царица», «Царевич», «Царевна», «Государь» и «Государыня», а также «Император». Потом у него появились «Князь» и «Княгиня», «Боярин» и «Боярыня». А когда пришли времена революционных потрясений 1905 года, пароходное общество вполне в ногу со временем назвало два судна «Гражданин» и «Гражданка».
Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» также имело в составе своего флота несколько судов, названных в честь монарших особ. Однако другие их пароходы носили имена выдающихся русских полководцев — например, «Пётр Багратион», «Фельдмаршал Суворов», «Михаил Скобелев», «Иван Зарубин» и «Константин Кауфман». Пароход «Николай Новосельский» был назван по имени и фамилии создателя и первого владельца компании «Кавказ и Меркурий». Другие же свои суда фирма поименовала в честь исторических личностей и православных святых.
Имена русских писателей и поэтов придумали давать своим судам в пароходной компании «Самолёт» — «Александр Пушкин», «Василий Жуковский», «Иван Тургенев», «Александр Грибоедов» «Николай Некрасов», «Михаил Салтыков-Щедрин». В какой-то степени по их пути пошло и пароходное общество «Русь». Но, без сомнения, меньше всех размышляли владельцы пароходного общества «Братья Каменские»: они попросту присвоили каждому судну либо собственные имена, либо имена своих жён, сыновей, дочерей. С того времени по Волге ходили пароходы этого общества «Александр», «Алексей», «Марианна», «Григорий» и тому подобные.
Годы советские
После октябрьских событий 1917 года суда всех частных компаний в Советской России оказались национализированы. В годы Гражданской войны стране было не до развития своего речного флота, и потому крупные государственные пароходства на Волге и в Волжско-Камском бассейне стали создавать лишь с 1923 года, после образования СССР. А дальнейшее расширение грузовых и пассажирских перевозок стало возможным только в 1930-х годах, с началом создания единой глубоководной транспортной системы Европейской части страны.
В январе 1923 года было образовано Волжское государственное речное пароходство (оно же — Волжское госпароходство, или ВГРП, а затем Волжское управление речного транспорта — ВУРТ). Район его деятельности охватывал всю Волгу и её притоки. Пароходство состояло из трёх управлений флотами (пассажирский, буксиро-сухогрузный и нефтеналивной) и пяти речных: Камского, Вельского, Вятского, Окского и Астраханского.
В апреле 1948 года прежняя структура была преобразована в Волжское грузопассажирское пароходство (ВГ-ПРП). Его флот пополнился как вновь построенными судами, так и пароходами, перешедшими в его собственность из дореволюционных национализированных компаний. А в декабре 1954 года на Волге было создано крупнейшее речное транспортное предприятие СССР — Волжское объединённое речное пароходство (ВОРП) с центром управления в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород).
Водные лестницы
В 1950-е годы совершенно новым технологическим процессом в волжском судоходстве стало шлюзование судов, то есть преодоление ими «водных лестниц». Так, после открытия в 1952 году трассы Волго-Донского канала для полного пути из Волги в Дон суда стали проходить систему из 13 шлюзов, поднимаясь при этом по водным «ступенькам» на высоту 44 метра. Такова разница между уровнями вод Волги и Дона. До этого речники были знакомы только с системой шлюзов на канале «Москва-Волга», по которому из волжан, правда, ходили немногие. А после завершения строительства в 1958 году Куйбышевской ГЭС для преодоления её плотины «водная лестница» стала поднимать суда уже на высоту 58 метров. В последующие годы на Волге был построен целый каскад ГЭС, на каждой из которых действует система шлюзов для преодоления разницы в уровнях водохранилищ.
В конце 80-х годов XX века пассажирские перевозки ВОРП достигли 50 млн. Пассажиров в год. В начале 1990-х флот этого пароходства насчитывал около 80 одних только пассажирских судов, в том числе 24 четырехпалубных лайнера повышенной комфортабельности, и ещё более 150 судов на подводных крыльях.
В настоящее время вверх по Волге в основном доставляют нефть, нефтепродукты, соль, гравий, уголь, хлеб, цемент, металл, овощи, рыбу и другие товары. Вниз — лес, пиломатериалы, минерально-строительные, промышленные грузы. Вниз по Каме идут уголь, лес, пиломатериалы, серный колчедан, металлы, химические грузы, минерально-строительные материалы, нефть и нефтепродукты. Вверх — соль, овощи, промышленные и продовольственные товары.
Журнал: Тайны 20-го века №39, сентябрь 2019 года
Рубрика: Тени прошлого
Автор: Валерий Ерофеев
Метки: Тайны 20 века, река, корабль, плаванье, вода, пароход, Волга, судоходство
Волга и волжское судоходство
И. А. Шубин
оглавление
- I. Первобытное судоходство на Волге 3
- II. Волжское судоходство в первый исторический период — до завоевания Русью Казани и Астрахани (IX в. — средина XVI в.) 7
- III. Период со времени покорения Казани и Астрахани до Петра Великого (Средина XVI в. — XVII в.) 62
- IV. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (конец XVII в. — начало XIX в.)
- V. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (Продолжение). Волжское Судостроение в Петровский период. 181
- VI. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (Продолжение). Судовой промысел и формы судоходства на Волге в Петровский период. 257
- VII. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (Продолжение). Опыты по изысканию более совершенных судовых двигателей. 364
- VIII. Период парового флота и железного судостроения (XIX в.). 387
- IX. Период парового флота (Продолжение) Волжское судоходство в 60-е и 70-е годы. 461
- X. Период парового флота (Продолжение) Волжское судоходство в 80-е годы. 516
- XI. Период парового флота (Продолжение) Волжское судоходство в 900-е годы. 641
- XII. Период парового флота и железного судостроения (Продолжение) Общие итоги периода. 740
- XIII. Период парового флота и железного судостроения (Продолжение) Судоходные служащие и рабочие в период парового флота. 754
- XIV. Период парового флота и железного судостроения (Продолжение) Важнейшие судостроительные и судоремонтные пункты парового периода. 804
- XV. Волжское судоходство после национализации флота (1918-1925 г.г.). 846
Первобытное судоходство на Волге
Начало судоходного плавания по Волге и, вообще, пользования ею, как путем сообщения, теряется в незапямятной дали веков.
Когда и кто спустил первое судно на нашу великую реку; где это произошло на ее протяжении; наконец, каково было первое судно на Волге,—для решения этих вопросов у нас не имеется никаких данных.
Может быть, первобытный человек, по образовании Волги в конце ледникового периода, принес уже сюда известные знания и уменья судоходства; может быть, научился судоходству здесь.
В первом томе своей работы мы отмечали, что, принимая во внимание данные о питании первых насельников нашей страны,—наиболее интересные останки которых были найдены у Ладожского, озера,—преимущественно рыбой во время метания ею икры, когда рыба подходила близко к берегу, можно полагать, что умений судоходства у них было еще немного. С другой стороны, однако, при тех же раскопках у Ладожского озера был найден архаический деревянный челнок, свидетельствующий о том, что с течением времени люди уже овладели искусством плавания.
Этот челнок, чрезвычайно интересный по своей конструкции, является древнейшим судном страны, сохранившимся до нашего времени, и, принимая во внимание свидетельство антропологии, что „длинноголовое» племя Ладожского озера обитало, между прочим, и в Поволжья, можно с уверенностью полагать, что подобные суда плавали в свое время и по Волге.
К сожалению, первобытный челнок не сохранился во всей своей целости,—значительная часть его была уничтожена вследствие невежественности рабочих при раскопках, и в большей или меньшей сохранности осталась только одна кормовая его половина
(см. рис. 20).
Судно сделано из огромного,—по опредеяению ученых, 200-х летнего в момент выделки,—дуба, который с течением времени принял от разложения почти черный цвет. Форма сохранившейся части ложкообразная, обработанная снаружи весьма правильно и ровно (в особенности там, где пришлось снимать дерево по волокну), с тупым, не сидьно округленным обводом. Перпендикулярное измерение судна, от кромок бортов по наружной стороне днища,—63 см в конечности и 86 см в средине (миделе), к которой идет также правильное и ровное расширение. Кромка обвода в 8 см толщины; от нее начинается постепенное углубление внутрь судна, идущее двумя уступами на протяжении 53 см и опускающееся в конце до 101/2 см. В этом месте—полукруглое, утолщающееся книзу ребро, в виде поперечной перегородки, оставленной при самой выделке челнока,—деталь, совершенно оригинальная по сравнению с архаическими судами других стран, где такие поперечные крепления были обычно вставными, изготовляемыми (в виде „кокор “ или „опруг“—шпангоутов) отдельно от самого судна. Ширина перегородки по верхней ее кромке 9 см, внизу же, в постепенно утолщающемся основании,—до 14 см.
За перегородкой начинается наиболее глубокая часть судна (от которой сохранился лишь небольшой кусок), опущенная до 231/2 см и служившая, очевидно, для помещения пловца. Надо полагать, что это среднее отделение было всего на одного, maximum — на, двух человек и, несомненно, отделялось такой же, как в корме, перегородкой от носовой части судна. Проф. Иностранцев, давший первое описание „доисторического человека каменного века побережья Ладожского озера“, говорит, что вся длина челнока „должна быть измерена, по крайней мере, величиною в 350 см“—при таком условии, если допустить, что размер носовой части был одинаков с кормовой (8 см кромка обвода +53 см полость кормовой части +14 см переборка, а всего 75 см), получим, что длина среднего отделения могла быть не более 200 см.
Толщина бортов и днища судна, в зависимости от неодинаковой глубины его полости, различна: в среднем отделении повсюду до 3 см, на корме—от 2 см по краям бортов до 12 см в днище. Последнее утолщение сделано, может быть, в целях получить кормовую часть более тяжелой, для придания остойчивости судну.
Каким способом изготовлено судно—выдалбливанием или выжиганием, с полной определенностью сказать затруднительно, так как оно все сильно обуглено от естественного процесса разложения при малом доступе воздуха. Кроме того, поверхность судна довольно сильно испорчена и водой, по которой судно некогда плавало, и разными осадками после того, как было кинуто человеком, и гниением во время пребывания в земле. „Подобная позднейшая обработка,—говорит проф. Иностранцев,— в высшей степени маскирует первоначальную поверхность челнока, и в особенности сильно во внутренней его части“. Во всяком случае, по мнению профессора, в обработке челнока, особенно наружной поверхности кормы, „необходимо допустить и участие огня. Такое заключение надо сделать, руководствуясь тем, что в корме дерево более сильно обуглено, в особенности в правой ее части. Здесь местами даже есть части пепла, набившиеся в клетки дуба и между волокнами, а равно и самое вещество дуба много рыхлее, чем в остальных местах».
С другой стороны, если можно допустить при изготовлении челнока действие огня, то нельзя отрицать и употребления при этом некоторых режущих инструментов, очень примитивных по своему устройству, следы действия которых очевидны по многим признакам и, главным образом, по неровной обработке дерева под углом к расположению волокон. В этом отношении особенно интересна перегородка, обработка которой должна была вестись как раз перпендикулярно расположению волокон. „Здесь вся поверхность неровная,
бугристая, — говорит проф. Иностранцев,— местами еще сохранились следы от острого края инструмента, которым производилась обработка» 1).
1) А. А. Иностранцев: „Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера». Сиб., 1882 г. Стр. 171—174.
Таково первобытное судно нашей страны в северной ее половине.
На юге, ближе к греческим черноморским колониям, архаические типы судов были, повидимому, более совершенными.
При раскопках так называемой Кирилловской стоянки в Киеве,—относимой исследователями к древнейшим временам палеолитической эпохи,—найден мамонтовый бивень с вычерченными на нем разными фигурами, в том числе и изображением первобытного судна. Изображение представляет довольно красивую и глубокую беспалубную лодку, короткую и широкую, с тупым образованием носа и усеченной, немного подобранной кормой. По внешним очертаниям лодки можно предполагать, что она была уже не простой долбушкой-однодеревкой, а представляла более легкий тип водоходного сооружения, с основной рамой из дерева или обтянутой чем-то, или забранной тонкими поперечными досками (см. рис. 21).
Где именно и как широко был распространен этот последний тип судов,—надо думать, однако, относящийся ко второй стадии начального периода судоходства,—неизвестно.
Позднее первые насельники Поволжья, несомненно, хорошо усвоили исскуство судового плавания, о чем можно судить по одному расселению их преимущественно вдоль рек. Прямых сведений о формах судоходства и о судах, употреблявшихся ими, до нас не дошло,
но, имея в виду, что, согласно данных археологии и языка первобытных арийцев, из коих европейские обитали в северной Европе, а азиатские на Яксарте (Сыр-Дарье), ни та, ни другая ветвь не знала никаких орудий для плавания, кроме дуплистых дерев и выдолбленных или выжженных челноков-однодеревок, надо полагать, что и различные племена, жившие между названными арийскими ветвями -в Поволжья, не ушли от них далеко вперед в деле судоходства и совершали его на самых примитивных плотах и лодках 1).
1) Schrader: „Schprachvergl-ichung und Urgescluchte” (lena, 18831, в русск. перев.: „Сравнительное языковедение и первобытная история” (Спб., 1886); Penka: „Origines Ariacae“ (Wien, 1883) и .Die Herkunst der Arier“ (Wien, 1886); И. Тейлор (в русск. перев.;. „Происхождение арийцев и доисторический человек» (М., 1897) и др.
Волжское судоходство в первый исторический период — до завоевания Русью Казани и Астрахани
(IX в. — средина XVI в.)
В дальнейшем, на протяжении нескольких столетий, в связи с историей колонизации Волги, на ней необходимо различать по крайней мере, три главные группы населения, в которых развивалось судоходство: славянскую в верховьях Волги, финскую на среднем, верней—на переломе .среднего течения с верхним, и смешанную—различных азиатских племен и народов, выходцев с востока, преимущественно тюркского происхождения, в низовом и, частью, в среднем течении Волги.
Все эти три группы находились в известном, более или менее постоянном, общении друг с другом, сначала торговом, а потом, с продвижением славян на восток, и политическом,—несомненно, обмениваясь при этом взаимно опытом во многих отношениях, в том числе и в судоходном- С течением времени славянская группа все более и более брала перевес над своими соседями, пока не овладела всей Волгой, в искусстве же судоходства, повидимому. опередила их еще раньше.
Однако, в начале рассматриваемого периода преимущество было еще на стороне тюркской группы, занимавшей большую и важнейшую часть Поволжья, в виду чего мы с нее и начнем свой обзор судоходного дела на древней Волге.
Судоходная практика скифских и сарматских племен.
О судоходной практике первых исторически известных азиатских выходцев на Волгу—скифских и сарматских племен—до нас не дошло полных и достоверных свидетельств. Надо полагать, что известные знания судоходства у них были,—иначе при движении в Европу они не смогли бы своими огромными полчищами, со всеми семьями, стадами и имуществом, переходить такие крупные реки, как Волга, Урал, Аму-Дарья и др. Но, с другой стороны, принимая во внимание, что они имели дело с реками лишь случайно, не живя оседло на их берегах, уменья судоходства у них не могли быть высокими. По всей вероятности, сами они переплывали реки просто на конях или за конями на бурдюках подобно древним вавилонянам или позднейшим татарам, семьи же и имущество перевозили на плотах,—может быть, также устанавливаемых, по древневосточному обычаю, на бурдюках; может быть, устраиваемых из одного дерева.
Перейдя в южно-русские степи, в непосредственную близость к греческим колониям, скифы и сарматы со временем, несомненно, усвоили их судоходную практику и заимствовали от них как самые способы судоходства, так и употреблявшиеся в то время греками речные суда.
Однако, на Волгу, по крайней мере коренную, низовую и в значительной степени среднюю, эти заимствования, надо полагать, проникали слабо и медленно, так как, при широком и почти не прекращавшемся движении азиатских кочевников с востока, Волга всегда была отрезана вновь надвигавшимися из Азии массами от непосредственных сношений с передовыми ордами, приходившими в соприкосновение с греками и постепенно культивировавшимися от них.
В другом положении было верхнее и, частью, среднее Поволжье, с тогдашними насельниками которых — финскими, тюркскими и, может быть, некоторыми славянскими племенами—Греция завела обширные торговые сношения чрез свои черноморские колонии, при посредстве ближайших соседей—скифов, а в некоторых случаях и непосредственно, открывая свои фактории и агентства в самой среде этих племен. Так, из приведенного нами в I томе свидетельства Геродота можно видеть, что такая фактория, носившая название Гелона, существовала в земле будинов.
Следом за Грецией широкую торговлю с Поволжьем организовала Персия, особенно в период Сассанйдов (с средины 20 гг. III 6. по P. X.). Есть некоторые основания полагать, что в это время Персией был открыт целый ряд торговых контор в районе верхней Камы, и этим обстоятельством объясняют, между прочим, многочисленные находки персидских монет эпохи Сассанйдов при производимых в Покамье археологических раскопках.
Несомненно, что как греки, так и персы приносили с собой в Поволжье знания судоходства и судостроения, значительно более высшие, чем они были у диких, первобытных финнов и тюркских племен, и последние в известной степени перенимали и усваивали эти знания. Однако, точных данных о степени и формах этого влияния мы не имеем.
Судоходство кочевников последующего времени.
Несколько больше сведений, чем о скифах и сарматах сохранилось о судоходстве кочевников последующего за скифо-сарматским периода, но и эти известия крайне отрывочны и случайны.
Так, о гуннах имеется сообщение Приска Панийского, бывшего в составе византийского посольства к Аттиле, что гунны в Пан-нонии, где их видел Приск, употребляли для переправы через реки плоты и лодки-однодеревки. Можно думать, что ими же они пользовались и во время своего пребывания на Волге.
Волжские болгары и хозары, как мы уже отмечали в первом нашем томе, имели большой флот, на котором плавали по всему волжскому бассейну, начиная от Итиля (около нынешней Астрахани) до Белоозера, служившего крайним передаточным пунктом товаров с Волги- на новгородские водные пути, и до далеких верховьев Камы— по пути в Югру, Самоядь и Биармию. С другой стороны, по системе реки Оки, через мордовскую землю, они перебирались волоками в днепровскую систему и доходили водой до Киева. Древне-арабские писатели говорят, что на плавание от Булгара до Белоозера (1.165 верст вверх по реке) восточные купцы употребляли обыкновенно до 3-х месяцев, от Булгара до Итиля (около 1.700 верст вниз по течению)— 20 дней, а на обратный, взводный путь до Булгара также приблизительно 3 месяца. Таким образом, вся путина от устьев Волги до Белоозера требовала до 6 месяцев времени и обратное плавание— до 4 месяцев- Отсюда можно заключать, что хозарские купцы едва ли поднимались выше Булгара, болгарские же, несомненно, плавали по всей Волге,—подтверждение этому можно видеть и в самых сообщениях арабов, говорящих о плавании по верхней Волге только от Булгара.
Древне-болгарские и хозарские суда и влияние востока на судоходство Волги.
О типах древне-болгарских и хозарских судов определенных сведений не сохранилось. Арабские писатели называют грузовые суда болгар и хозар, плававшие по Волге, просто „большими». Наши летописи упоминают о болгарских и, вообще, восточных судах на Волге только однажды—под 1366 г., описывая набег на Волгу новгородских ушкуйников: по словам Новгородской летописи, ушкуйники избили под Нижним — Новгородом множество татар, бесермен и ормен и уничтожили их суда—кербати, мишаны, бавьты и пабусы.
Между прочим, исследователь вопроса о русских водных путях и судовом деле в до-Петровской России, проф. Н. П. Загоскин, приведя этот летописный рассказ, делает на основании его вывод о „весьма видной роли“, которая „выпала в судьбах русского водоходного дела на долю элемента булгарского и, вообще, восточномусульманского»: „Восточная торговля,—говорит он,—оставила по себе в истории волжского судоходства следы и в некоторых названиях судов, из которых некоторые исчезли вслед за падением мусульманского господства на Волге, другие же пережили это падение, не только сохранившись на Волге но сделавшись достоянием и других речных бассейнов… К первым принадлежат судовые названия: «пабусы», «кербати» 1), «мишаны» и «баθьты», ко вторым—«каюки» и «кербати» (очевидно—карбасы) “ 2).
1) Повидимому, поставлены автором в этой группе ошибочно, так как упоминаются ниже, во второй группе.
2) Н. П. Загоскин: .Русские водвые пути и судовое дело в до-Петровской России». Казань, 1909 г., стр. 410—411.
Мы не можем согласиться с таким мнением относительно роли позднейшего востока в русском судоходстве: как увидим ниже, вообще славянам и, в частности, русским не приходилось учиться „водоходному делу“ у своих восточных соседей; скорее можно думать, что было наоборот—славяне несли с собой более совершенные знания судоходства, чем, по крайней мере, ближайшие к ним народы востока. Но относительно приведенных названий судов, повидимому, действительно нельзя сомневаться, что они восточного происхождения, кроме разве одного имени—пабусы, которое, можно полагать, однородно с более поздним судовым названием бусси или бусы—большие крутобокие суда с округленным дном, по мнению исследователей получившие свое название от греч. βοΰζ—бык или от итальянского butzo—брюхо, вернее же всего от новогреческого buscha—кадь.
Наименование кербати (кстати сказать, едва ли идентичное с названием карбасы, производимым лингвистами от греч. χἁραβος) стоит в несомненной связи с корнем кер или кар (в значении бежать), очень часто фигурирующем на востоке в судовых названиях, фонетически чрезвычайно близких к рассматриваемому нами термину. Так, вогулы верхотурского округа называют свои суда керепь (и каш),
березовские остяки—кареб (и хапь), лумпокольские—киреб, татары в тобольском округе—кирепь и карапь, татары Чацкие—кирекь и кирепь, чюлимские и кузнецкие—кереб (и кебе), енисейские—керепь (и кемя), телеуты—кереб (и кеме), калмыки— керемь и т. д.
Слово мишаны, производимое Н. Я- Аристовым от слова миса, издавна употреблявшегося в русском, польском и чешском языках в значении посудины (однор. со словом судно), чашки и заимствованного, надо полагать, от латинск. mensa—стол 1), нам кажется более вероятным сопоставлять с бухарским миша (персидское мигия, турецкое и ногае-татарское меше)—дуб, т. е. обычным на нашем юге обозначением большой лодки-однодеревки.
1) Аристов: „Промышленность в древней Руси*, стр. 97.
Названия бавьты и каюки звучат определенно не по-русски, но установить их точное происхождение довольно трудно.
Баеьт, может быть, бухарское же (а равно персидское и арабское) слово бать—гусь, и тогда в приложении к судам может означать довольно большое и широкое судно вроде древне-русских стругов (кстати сказать, в других летописных списках, как увидим ниже, и стоящих вместо бавып), но вернее—это испорченное татарское бат—лодка, .дубокоднодеревка.
Наконец, каюк,—широко распространенное название легких на-бойных судов по рекам как Европейской России, Так и Сибири,— определенно восточного, в частности монгольского, происхождения, но, где и от кого непосредственно заимствовала его древняя Русь, неизвестно: с одной стороны, кат—обычное название легких перевозных судов на турецком Босфоре (откуда их переняли позднее вместе с самым названием черноморские и азовские казаки); с другой стороны, каяк—гренландская лодка эскимосов (по типу близких к монголам) и, наконец, каюк—общее название судна у сибирских монголов—тунгузов. Таким образом, Русь могла получить это название и с юга, и с севера, а может быть, и прямо с востока через татар или древних болгар. Последнее предположение имеет за собой тот лишний мотив, что слово каик до сих пор сохранилось у чувашей, черемисов и в форме каи у пермяков, т. е. у ближайших соседей, а может быть и потомков бывших волжских болгар, в первоначальном своем значении птица (ср. более позднее запорожское название судов—„чайка»).
Из приведенного краткого анализа названий судов на старомусульманской Волге можно видеть, во-первых, то, что эти суда не представляли из себя каких-либо оригинальных типов, а во-вторых, что. в связи с этим, и приведенные выше восточные названия их (кроме разве одного—каюк, сохранившегося даже до настоящего времени) совсем не имели особенно широкого распространения в древней Руси, как, повидимому, думал проф. Загоскин.
Подтверждением такого вывода может служить и то обстоятельство, что приведенные названия судов, как уже сказано, упоминаются в наших летописях всего один раз, в сравнительно поздний период XIV* века и только в одной летописи—Новгородской. Тот же рассказ о походе новгородских ушкуйников на Волгу в Троицкой летописи не содержит в себе почти ни одного из этих названий. Троицкий летописец под 1366 г. говорит: „Пройдоша Волгой из Новагорода из Великаго 150 ушкуевъ Ноугородци разбойници ушкуй-ници, избиша Татаръ множество, Бесерменъ и Орменъ в Новѣ-городѣ въ Нижнемъ, жен и детей, товар их пограбиша, а съсуды их, кербати и лодьи и учаны и пабусы и струги, то все посѣкоша, а сами отъидоша в Каму“.
Однако мы не можем вполне согласиться по данному вопросу и с другим мнением, высказанным впервые С А. Гедеоновым в его известном труде. Варяги и Русь». Являясь убежденным сторонником так называемой славянской школы происхождения и названия Руси, Гедеонов и в вопросе о русском судоходстве остается на той же ультра славянской точке зрения, отрицая какие бы то ни было заимствования в этой области славяно-руссами у других народов. „Славяне охотно плавали по морям и по рекам,—говорит он,—в особенности Венды и Русь (черноморская Русь по преимуществу) отличались наклонностью к мореходству. Они находили в своем языке все нужные слова для обозначения морских и речных судов, снастей и т. д. Но, сохраняя туземные названия для своих туземных кораблей, они (по крайней мере Русь) обыкновенно прилагали к кораблям иноземных народов названия, взятые из языков этих народов». Таким образом, на Руси появились судовые названия: финские лойва, laiwa; германо-норманские шпека (скандии. snaeka, англосакс. snacca, средневеков. лат. isnecia или ilnechia герм- Snack и Sneck) и буса, busse; греческие дроманы, кувари или кубари, оляди и скедии или скеди 1).
1) С. Гедеонов: „Варяги и Русь», ч. I, стр. 374.
Вполне присоединяясь к сделанной названным автором общей характеристике славян в судоходном отношении, мы полагаем, что он все же слишком категоричен в утверждении, что Русь, вообще, не делала заимствований для обозначения своих судов и их принадлежностей. На основании многих данных, наоборот, можно думать, что Русь охотно пользовалась в деле судоходства чужим опытом, заимствуя, хотя бы на время или по отдельным районам, и иноземные названия судов, и их конструкцию. С течением времени конструктивные заимствования ассимилировались с собственным судостроительным опытом руссов, улучшались и совершенствовались русскими мастерами применительно к местным условиям плавания, а иноземные названия в большинстве случаев исчезали, заменяясь своими национальными. Для примера можно указать на приводимые самим Гедеоновым, как заведомо иноземные названия: а) буса, широко употреблявшееся у славяно-руссов в течение очень долгого времени (на Днепре вплоть до конца XIX века) и проникшее позднее даже на Волгу (вернее—на Каспий), и б) шнека, доселе живущее на нашем севере, в Беломорском бассейне; на также сильно распространенное в древней Руси название учан, которое Гедеонов, дабы остаться верным себе, вынужден был признать чисто русским, несмотря на несомненно восточное происхождение этого слова, на чем мы особо остановимся в своем месте ниже; наконец, на отмеченное уже выше судовое название каюк, сохраняющееся у нас до настоящего времени.
Судоходство печенегов, половцев и татар.
Чтобы покончить с вопросом о судоходстве восточных народов на Волге, упомянем кратко о позднейших азиатских кочевниках в наших степях — печенегах, половцах и татарах.
Все они стояли, повидимому, на самых низких ступенях судоходного развития, практикуя первобытные восточные способы переправ через реки—на бурдюках или даже на мешках с сеном за лошадьми и на примитивных плотах.
О печенегах сохранились известия, что они даже плоты свои устраивали из еоловьих и лошадиных кож, сшивая последние штук по Ю вместе и переплавляя на таких сооружениях свои семьи и имущество. Если это сообщение не имеет в виду те же бурдю-ковые плоты или плетеные суда, обтягиваемые шкурами, подобно употреблявшимся вавилонянами, то надо полагать, что удивительные плоты из шкур видела на своих волнах и Волга.
О половцах уже определенно известно, что они употребляли суда двоякого рода: „большие дерева», длинные и широкие, и „легкие сула, сделанные из древесных корней (или прутьев) и шкур».
Об этом говорит византийский правовед XI века Михаил Атталиат в составленной им летописи исторических событий с 1034 по 1079 г. по P. X., упоминая о половецких „ζόλοις μακροΐς καί λέμβοις αοτοπρβμνοις καί βύρ3αις“, или, по латинскому переводу, „lignis longis et lembis radicibus factis et pellibus“ 1). Как мы увидим дальше, эти два типа судов были основными первобытными типами славян, и можно безошибочно утверждать, что половцы именно от них и заимствовали свои суда по переселении в каспийско-черноморские степи.
Наконец, татары учились судоходству также у наших предков, принеся с собой в Европу лишь самые элементарные уменья в этом деле. Во всяком случае Русь и, в частности, русская Волга едва ли могла заимствовать от них что-либо в судоходном отношении, кроме разве немногих восточных названий тех же судов,, на которых плавала сама.
1) Ed. Beccer, Воппа, 1853.
Сходство финских племен.
То же нужно сказать и о финских племенах, из котоРых только мордва имела в свое время значительный флот и при помощи его вела торговлю с болгарами и хозарами. Мы уже отмечали в первом
томе сообщения арабских писателей, что на судах „из земли Бертас» (как называли арабы финнов и, в частности, мордву) привозились в столицу хозарскую шкуры черных лисиц, „самые славные и дорогие»; отмечали также то, что означенные суда были, повидимому, меньше плававших по Волге, так как они различались арабами от последних, называемых „большими». Подтверждением этому может служить и то обстоятельство, что наиболее крупное мордовское племя Мокша, называвшая свои, сравнительно небольшие, ладьи венчъ, позднее,—очевидно, переняв от славяно-руссов более крупные суда струги,—усвоила их название струкь в смысле общего названия судна. Надо думать, что собственно мордовские суда были простые однодеревки, широко распространенные в свое время на всех реках волжского бассейна, в лучшем случае—набойные лодки, о которых мы более подробно скажем ниже, при обзоре русского судоходства.
Едва ли не единственным воспоминанием о некоторой связи древне-русского судоходства с финским осталось в названиях: а) лайбы или лойвы—большой парусной лодки и б) соймы—килевого палубного (озерного) судна с круглым дном; но первое из этих названий, употреблявшееся на северо-западных наших реках, в непосредственной близости к Финляндии, совершенно не проникало на Волгу, второе же сохранилось здесь в применении к крупным (многорядным) грузовым плотам.
Книга в формате PDF
Иван Александрович Шубин с 1907 г. служил коллежским секретарем, служащим земской управы. Был знаком с А.И.Пискуновым (соратником Ленина), с которым вместе арестовывался за просветительскую агитацию. В 1911 г. поступил на работу в Совет съездов судовладельцев Волжского бассейна на должность управляющего делами, и вместе с этим служил личным секретарем Д.В.Сироткина — известного пароходчика, Нижегородского городского головы. В 1918 г. И.А.Шубин, вынужденный оставить службу из-за болезни, получил в помощь от Сироткина несколько тысяч рублей. В 1919 г. он снова стал работать, трудился в службе Управления водного транспорта Центрсоюза, а с 1928 г. — инструктором Центрального правления речных пароходств, а затем в Управлении водопутей Волжского бассейна в должности старшего экономиста. Являлся членом Городского совета Нижнего Новгорода. В 1929 г. был впервые арестован по подозрению в антиправительственной деятельности из-за дореволюционных связей (в том числе в связи с помощью Д.В.Сироткина).
Судоходство: от бурлаков к пароходам
ВЕСЬ XVIII в. и первую половину XIX в. мимо Решмы артели бурлаков тянули
суда вверх – до Рыбинска.
В 1807 г. в «Словаре географическом российского государства» Афанасий Щекатов писал о Решме: «Мимо оной слободы по реке Волге весною
и в межень (когда засухи не бывает) ходят струга с хлебом, солью и железом
до Рыбной, до Твери и Санкт-Петербурга из Нижнего Новгорода, Камы, Чебоксар, села Козловки и прочих низовых мест» 42.
Часть жителей Решмы и Решемской округи занимались бурлачеством.
«…вся бурлацкая масса, – писал историк волжского судоходства И.А. Шубин, – довольно резко делилась на два разряда. Первый составляли бурлаки-профессионалы, почти все с коренной Волги (…) и жители (…) верхнего
Поволжья, бурлачившие из года в год всю жизнь, знавшие Волгу, как пять
своих пальцев, сметливые и ловкие в привычной судоходной работе, которую
считали своим природным занятием. Они всегда нанимались в «коренные» –
на всю путину, были наиболее надежным элементом среди остальных бурлаков и чаще других выбивались в «шишки»*, «косные», «подручные» и пр. (…)
Второй разряд составляли случайные бурлаки (…) – из крестьянской бедноты
и городской голытьбы, шедшие на реку из крайней нужды…» 44.
Среди решемских бурлаков преобладали представители первого разряда, то есть бурлаки-профессионалы.
В 1862 г. костромской краевед И.П. Корнилов опубликовал очерк «Волжские бурлаки», в котором немало говорилось о бурлаках из Решмы.
«Наём бурлаков, – писал он, – бывает в великом посту. На первой неделе
поста идут ряды бурлаков в Городце, Балахне, Юрьевце, Пучеже, Кинешме,
Костроме. Ряды кончаются, по большей части, в один базар» 45.
«Проходя мимо той пристани, где бурлаки нанимались, например, мимо
Решмы (…), – судно бросает якорь, а бурлаки, которым хозяин при этом случае дает по чарке вина, уходят в «заходку», то есть в свои жила (дома – Н.З.),
дня на два или три не более, отдохнуть, выпариться в бане и снести домой
купленное ими на низу пшено. Каждый бурлак, при ряде, уговаривается,
чтобы хозяин уступил ему без барыша, своей ценой и без платы за провоз,
пуд или два пшена» 46.
На участке Волги от Кинешмы до Юрьевца Решма играла для бурлаков
особую роль: здесь находилась одна из бурлацких «перемен». И.П. Корнилов
поясняет: «Переменами называются постоянные бурлацкие станции, которые
не всегда бывают в жилых местах, но иногда возле какого-нибудь урочища.
* Шишка – бурлак, идущий в лямке первым. Косные – два бурлака, которые идут последними 43.
Когда судно следует по течению, на гребках (веслах – Н.З.), то гребцы, соблюдая между собою очередь, сменяются на переменах; но когда судно идет на бичеве или подаче против воды, то смены работников бывают не по переменам,
а «по десятинно», то есть чрез каждые десять верст» 47. На плёсе от Рыбинска
до Нижнего «перемены» находились друг от друга на расстоянии от 18 до 25
верст 48. На участке от Василёвой слободы (совр. г. Чкаловск) до Кинешмы
в первой половине XIX в. было семь «перемен»: 1) Василёва слобода, 2) Пучеж,
3) Сокольское, 4) Юрьевец, 5) Никола-Ёлнать, 6) Решма, 7) Кинешма 49.
Известна поговорка: «Кинешма да Решма кутить да мутить, а Солдога
горюха – убытки платить». И.П. Корнилов объясняет её происхождение
из бурлацкого быта: «Эта поговорка ведется от того, что в Кинешме и Решме,
томойки* сходятся обыкновенно на берег в заходку, и при этом случае пьянствуют, а в Солдоге, по мелководью, судохозяева покупают или нанимают
паузки**, что убыточно хозяевам и накладно бурлакам» 52.
Со слов волжских бурлаков, И.П. Корнилов писал о решемских бурлаках
не слишком уважительно: «Решмаки, – зовутся они «мочальными гашниками», – хоть и костромичи, а последнего сорта бурлаки, и плата им последняя.
Их прозывают промеж бурлаков: «четверо – коровашик*** съели», зовут
их еще «осиновыми пестами», потому что их промысел – топтать ногами
в ступах решемские сукна. Махлята, да ячменцы с заборцами**** – вот настоящие томойки, а решмаки с нами и не мешаются. Решмаки – народ хоть рослый, да жидкий, слаботельный, для волжного хода неловок, дела не знает» 53.
Обычно, считается, что бурлаки тянули судно от начала до конца путины.
Это не совсем так. В большинстве случаев бурлаков тянули парусные суда,
которые при наличии попутного ветра шли под парусами. В истории бурлаки
остались неотделимыми от образов судов, которые они тянули. В первую очередь, речь идет о расшивах – наиболее массовом типе волжского парусного
судна XVIII – первой половины XIX в.
Выше мы цитировали «Описание Костромского наместничества 1792 г.»
И.К. Васькова, который писал, что «для перевозки коего (хлеба – Н.З.) некоторые из них (жителей Решмы – Н.З.) имеют свои собственные суда, называемые разшивы, в которые вмещают груз от 18 до 27 тысяч пуд» 54. Вероятно,
решемские купцы владели расшивами и в первой половине XIX в.
Художники Г.Н. и Н.Н. Чернецовы оставили в своем путевом дневнике
яркое описание каравана из расшив, который они увидели в Рыбинске утром
8 июня 1838 г. (несколькими днями раньше этот караван прошел мимо Решмы):
«Из-за крыш домов мы увидели вьющиеся змейками по воздуху вымпелы на мачтах передовых судов приближающегося первого каравана. Народ
на улицах засуетился, послышался говор: «Караван, караван идёт!» Жители
спешили на берег Волги любоваться на величественное вступление мирного
флота-кормильца в Рыбинскую пристань. Но как изобразить пером картину,
которую в первый раз в жизни удалось нам увидеть!
* Томойки – общее название костромских бурлаков 50.
** Паузок – «речное мелководное судно, для перегрузки клади с больших судов на мелководье» 51.
*** Коровашик – коровай хлебный, весом от 10 до 15 фунтов (Прим. И.П. Корнилова).
**** Махлята, ячменцы и заборцы – названия жителей разных мест Юрьевецкого уезда.
Несколько верст ниже города, из-за поворота Волги (…), показались
суда, выплывающие на белых парусах и, как лебеди, горделиво выставляя
полные, питательные груди свои, надуваемые ветром, стаей приближались
к городу, на рубеже его поднимали разноцветные свои флаги при пушечных
выстрелах и, опережая друг друга, то рядом, то группами неслись на своих
огромных парусах. Проходя мимо собора, рабочие снимали шляпы и усердно
молились о благополучном свершении пути, радостно смотря на Рыбинск,
которым оканчиваются путина их и тяжкие труды. Солнце живописно освещало стройно идущие суда и, бросая тени от их исполинских парусов, разыгрывало и целое, и части; разноцветные флаги украшали пестротою своею
всю эту флотилию…» 55.
Расшивы, как правило, были очень богато украшены. И.А. Шубин описывает расшивы 30-40 годов XIX в.: «В целях украшения, на плечах судна или
на переднем огниве (носу судна – Н.З.) рисовались разные изображения:
солнце, глаза, сирены с загнутыми рыбьими хвостами и проч.; борта по верху
и корма также расписывались различными узорами или украшались резьбой,
окрашиваемой зеленой и красной красками, а иногда и покрываемой позолотой; на наружной стороне носового огнива, кроме живописных изображений
или вместо них, вырезалась надпись: «Бог – моя надежда» и название судна
или имя и фамилия его владельца и год постройки; иногда на огниве ставилась только первая надпись (или даже просто узоры), название же судна
и имя владельца помещались на кормовом транце. На вершине мачтовой
стеньги, заканчивавшейся обыкновенно флюгером и сверху его вырезным
из железа изображением Михаила-архангела с трубой или Георгия Победоносца на коне, прикреплялась, вместо флага, длинная (до 5-6 сажен) и узкая
шерстяная лента красного или белого цвета. (…) Наконец, в праздничные
дни и при подходе к большим городам расшивы украшались разноцветными
флагами (…). Всё это вместе взятое, при соразмерности и оригинальности
форм расшив, делало их очень красивыми, особенно, когда они распускали
свои огромные белые крылья-паруса, горделиво скользя по величавой шири
реки подобно гигантским птицам» 56.
Доставив груз на место, бурлаки возвращались обратно по домам: «Снаряжаясь домой, например, из Рыбинска в Кострому, артель покупает целковых за четыре дощаник или соминскую лодку*. Лодка покупается иногда
не артелью, а сложатся два, три бурлака, купят лодку и пускают на нее
желающих, с которых берут, смотря по расстоянию, от 10 до 30 копеек серебром. (…) Гребут бурлаки на своем дощанике или соминской лодке посменно,
от перемены до следующей перемены» 58.
Решма попала в бурлацкий фольклор. В конце XIX в. было записано
несколько вариантов длинной путевой песни, в которой бурлаки упоминали все наиболее крупные селения, встречаемые ими на пути от Астрахани
до Рыбинска. В песне упоминалась и Решма.
* Соминские лодки изготовлялись в с. Сомине Устюженского уезда Новгородской губ., стоящем
на р. Сомине 57.
В одном варианте говорилось:
Город Юрьевец поволжский
Постройкою взял.
Ах, ну, ох ты мне,
Постройкою взял.
Решма да Кинешма –
Пить да кутить.
Солдога горюха –
Убытки платить.
Ах, ну, ох ты мне,
Убытки платить.
А вот город Кострома –
Гульливая сторона.
Ах, ну, ох ты мне,
Гульливая сторона 59.
В другом варианте пелось:
А вот город Кострома – гульливая сторона,
А пониже её Плёс, чтоб шайтан его пронес,
Ах ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.
За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,
А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.
Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень то подлец 60.
В 20-30 годы XIX в. на Волге появились первые пароходы, своим появлением производившие поначалу сильное впечатление на прибрежных
жителей.
«Первым впечатлением в широких народных массах, – писал И.А. Шубин, – был темный и жуткий страх пред непонятным явлением и необъяснимой силой, двигавшей судами, которую невежественные люди считали «нечистой», приписывая ее дьяволу. Завидев «чертову расшиву», – как окрестил
народ первые пароходы, – население разбегалось с улиц и пряталось во дворах и на гумнах, выглядывая оттуда украдкой в щели стен и заборов и читая
молитвы и отплевываясь троекратно от «нечистой силы» при приближении
парохода. Были даже случаи (…), когда не только в глухих деревнях, но даже
и в крупных селах, как например, в с. Исадах, Нижегородской губернии,
служили молебны о том, чтобы бог погубил «большого черта», плавающего
по Волге и очистил бы оскверняемую им воду реки, с каковою целью даже
выходили с образами на берег Волги и «святили» речную воду» 61.
В 1851 г. молодой писатель А.А. Потехин, совершавший на лодке путешествие по Волге из Костромы до Кинешмы, увидел один из первых пароходов. Он пишет: «Но откуда вдруг поднимается какой-то смутный глухой
шум, который всё приближается и всё больше растёт. Вдали вы замечаете
на воде огненный сноп, движущийся вместе с темною огромною массой;
эта масса ближе к вам, и вы уже различаете какое-то чудовище, у которого,
как рассказывает русская сказка, из ушей дым столбом, из ноздрей пламя
пышет и которое с неимоверною силою бьёт по волнам своими мощными
лапами и несётся прямо на вас. Это гений Волги, это пароход – будущая сила
и могущество нашей огромной реки; но посторонись перед ним наша утлая
ладья… С громом и треском, взметая волны, мгновенно пролетело мимо вас
чудовище, извергая тучи дыма и тучи искр» 62.
С середины XIX в. пароходы стали вытеснять бурлаков. Постепенно волжское бурлачество уходило в прошлое.
тракт. Спуск
с Решемской горы
к устью речки
Решемки.
Фото начала XX в.
К.Д. Ушинский, проезжавший по Волге в Костромской губернии в 1860 г.,
писал: «Бурлаки, надев на себя лямку, привязанную к канату, тянут судно
за мачту и тихо, тяжело, утешая себя грустными песнями, идут по берегу.
(…) К счастью, впрочем, пароходы подрывают теперь сильно бурлацкий
промысел и скоро заставят, может быть, бурлаков сидеть дома и пахать
землю. Грустно смотреть, как эти люди, оборванные, обожженные солнцем
и ветром, грудью напирают на лямку, пробираясь по берегу, то песчаному,
то каменистому, то обрывистому, то заросшему кустами. Одна партия сменяет
другую, которая идет отдыхать на барку, и судно беспрестанно подвигается
медленно, чуть заметно. Неужели эти люди, эти заросшие головы, эти черные
груди, в которых бьётся человеческое сердце, неспособны ни к чему лучшему,
кроме этой лошадиной работы, от которых в других странах даже и лошадей
освободил теперь благодетельный пар?
Понятно, как радуются бурлаки, когда сильный попутный ветер надувает
громадные паруса судна, белые полотняные, иногда рогожные, и сам потащит
судно вверх, освобождая бурлаков от труда.
Подъезжая к Костроме, я видел прекрасную картину: десятки громадных
судов, окрыленных белыми парусами, поднимались вверх по реке и казались
издали какими-то чудовищными птицами; бурлаки спали на палубах, раскинувшись в живописных позах, другие горланили какую-то песню, до меня
долетело несколько слов (…)» 63.
На Нижегородском тракте
С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен через Решму и Нагорное проходила большая
сухопутная дорога, связывающая Кинешму и Нижний Новгород. В первой половине XIX в. этот тракт официально именовался Нижегородским.
Однако жители Решмы и Нагорного в просторечии называли ту часть
тракта, которая шла на Кинешму, – Кинешемским трактом, а которая шла
на Юрьевец – Юрьевецким.
Как писалось выше, по этому тракту в октябре 1834 г. проехал император
Николай I.
Кинешемский
тракт. Мост через
речку Решемку.
Фото начала XX в.
Сохранилась описание тракта в 1848 г.: «От Кинешмы до Юрьевца дорога идет по нагорному берегу р. Волги, пересекается многими оврагами
и речками, и от того довольно гористая; самая большая гора находится при
с. Нагорном при подъёме от р. Решемки, но она хорошо обработана и вымощена камнем; прилежащая же к реке гать при большой воде затопляется
из р. Волги, чрез что происходят повреждения, могущие делать остановки
в следовании, особенно тяжестей» 64.
1861 год: отмена крепостного права
19 ФЕВРАЛЯ 1861 г. император Александр II подписал главный документ
своего царствования – Манифест об отмене крепостного права. 10 марта
1861 г. в Смоленской церкви, до отказа заполненной решемскими крестьянами, еще вчера крепостными господина генерал-майора Л.Н. Горского,
после Божественной литургии о. Феодор Богословский зачитал его с амвона. Под сводами храма прозвучали заключительные слова Манифеста:
«Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами
Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего
благополучия и блага общественного» 65.
Вслед за отменой крепостного права в том же 1861 г. была проведена административная реформа, вводившая в сельской местности частичное самоуправление. С этого времени каждый уезд стал делиться на волости, во главе
которых стояли выборные волостные старшины. Примечательно, что в 1861 г.
Решма и Нагорное и вошли в состав разных волостей. Решма вошла в Зименковскую волость, которая узкой полосой вдоль Волги тянулась от Решмы
на запад. Центром её стала д. Зименки (более старое название – Лабутин
Починок), где и разместилось волостное правление. Нагорное вошло в Шевалдовскую волость, территория которой от Нагорного простиралась на восток (до р. Ёлнати) и на юг. Центром волости стала д. Шевалдово на р. Юхме.
В составе Зименковской и Шевалдовской волостей Решма и Нагорное
оставались вплоть до 1924 г.
Кириленко Н. Н.
Волжское судоходство 1-й половины XIX века
Краеведческое исследование
2015 г.

От автора
Начало судоходного плавания по Волге и пользование ею, как путем сообщения, теряется в незапамятной дали веков. Издавна великая русская река служила для развития и поддержания культурных и экономических связей поволжских земель; экономика и развитие нижегородчины теснейшим образом связана с Волгой и волжским судоходством.
Наши предки, по стечению исторических обстоятельств долгое время оттесненные соседними народами почти ото всех морей, невольно вынуждены были развивать речное судоходство. И Нижний Новгород, расположенный в самом центре «главной улицы России», во все времена играл в этом если не ведущую, то далеко не последнюю роль.
Волжское судоходство XIX века — тема весьма интересная и актуальная. Обоснуем актуальность выбранной темы исследования. Экономическое развитие неразрывно связано с модернизацией транспортных коммуникаций, а зачастую эти два явления взаимозависимы. Рост экономики России в первой половине ХIХ в., сопровождавшийся начавшимся в 1830-е гг. промышленным переворотом, стал порождать спрос на качественно иную транспортную инфраструктуру. В Российской империи водный транспорт вплоть до середины XIX в. являлся фактически безальтернативным средством транспортировки людей и грузов на большие расстояния. Впрочем, и к концу исследуемого периода его значение оставалось достаточно велико. К 1913 г. удельный вес водного транспорта в общем грузообороте страны составлял 22,9%, а удельный вес в пассажирообороте 4,3%. На речных судах к этому времени перевозилось 32% всей транспортируемой нефти, 25,8% леса и 17,2% зерна. То есть если в перевозке людей водный транспорт не играл значительной роли, то в то же время на нём перевозилось более 1/5 части всех грузов в стране.
Тем не менее, проблема его развития в отечественной исторической науке долгое время оставалась малоизученной. Исследователи обращали внимание на речное судоходство лишь в контексте анализа экономических отношений в стране. Круг же работ, посвящённых непосредственно развитию российского речного судоходства, до сегодняшнего дня ограничен. Прежде всего, исследования проводились в отношении камского, амурского и вятского судоходства. Волжское судоходство хоть и представлено в ряде библиографических редкостей, все же требует глубокого анализа и изучения.
Объект данного исследования — транспортная система бассейна реки Волги, под которой подразумеваются все речные суда, осуществлявшие навигацию по данной водной артерии, а также вся прибрежная транспортная инфраструктура: судоремонтные мастерские, пристани, затоны, паромные переправы, знаки обстановки.
Предмет исследования — развитие транспортной системы бассейна реки Волги в первой и второй половине XIX века.
Цель краеведческого исследования – опираясь на источники, показать развитие судоходства на Волге и выявить особенности волжского судоходства XIX века.
1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЛЖСКОГО СУДОХОДСТВА XIX ВЕКА
Источники и историография волжского судоходства
Интереснейшая, нередко сложная и даже трагическая история волжского судоходства неоднократно по частям описывалась разными авторами, в основном в пароходских газетах – «Большая Волга», «Советский танкер», «Большая Кама» и других.
В 1998 году Г. П. Демьянов издал Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г. (от Твери до Астрахани). Путеводитель отпечатала Типография Губернского правления в Нижнем Новгороде.
В год 150-летия Волжское объединенное речное пароходство переиздало выпущенную в 1927 году книгу И.А. Шубина «Волга и волжское судоходство», охватывающую историю судоходства по 1925 год.
И при этом не было замечено, что к юбилею пароходства (по договору ГИИВТа с ВОРПом) завершил свою рукопись в 60 печатных листов под таким же названием известный нижегородский историк речного транспорта Борис Владимирович Богданов (почетный член Академии транспорта РФ, заслуженный изобретатель РСФСР). Он опубликовал 15 книг и массу статей по истории речного транспорта и проектированию судов [19, с. 3].
Эта рукопись книги «Волга и волжское судоходство» создавалась много лет, даже десятилетия, и содержит основные сведения из существующей малой литературы, журналов, газет, а главное, многочисленных архивных и проектных документов – настоящих первоисточников, надежного фундамента полноценной, объективно написанной книги. Эта важная по тематике и широкая по степени охвата вопросов рукопись осталась на столе. Где и лежит по сей день (причина – нет финансирования издания книги).
Автор книги, известный историк волжского судоходства, уделил большое внимание теме, создав общедоступный труд, в котором уже много лет нуждаются широкие круги читателей – речная и береговая общественность, высшие и средние учебные заведения и центры подготовки специалистов для флота.
Не менее интересна монография А. Штылько Волжско-каспийское судоходство в старину, изданная в Санкт-Петербурге в типо-литографии Р.Голике в 1896 году. В одном из разделов книги А. Штылько представлена информация о развитии речного дела от Екатерины II до начала пароходства.
О пароходных компаниях, судах, капитанах, затонах, путеводителях, яхт-клубах, даже о пароходе-церкви узнает читатель из книги историка волжского судоходства Владимира Михайловича Цыбина. Книга вышла в издательстве Саратова в 1996 г. Интерес к пароходам Волги, реки, на берегах которой он вырос, пробудился, когда началось массовое списывание старых судов в 1960-1970 годах и дальнейшее их уничтожение в 1980-х годах. Со слов Владимира Михайловича «обожгла мысль: ведь мы теряем безвозвратно не только сами суда, но и историю волжского судоходства, когда-то гремевшего на всю Россию. И чем меньше старых пароходов становилось на Волге, тем больше росло желание попытаться сохранить в памяти народной биографии и облик пароходов, прославивших наш речной флот».
В советский период активное исследование волжского судоходства проводил М. Трифонов. Его публикации в различных периодических изданиях существенно расширили знания читателей об истории пароходных обществ и истории судостроения. Его статьи «Эй, дубинушка, ухнем!» (Курск. – 1997. — №42), «Посудина с печкой» (Нижегородский рабочий. – 1992. – 29 октября), «У истоков пароходства» (Нижегородский рабочий. – 1992. — 16 сентября), «От расшив до метеоров» (Горьковский рабочий. – 1978. – 10 ноября) восполняют пробелы в истории волжского судоходства.
Укажем еще несколько авторов, чьими публикациями можно воспользоваться, чтобы детально изучить суть рассматриваемого в курсовой работе вопроса: Берельховский И. «От ладьи до теплохода», Галочкин Н. «От расшив до современных судов и истории судостроения в городе Горьком – Нижнем Новгороде», Гуревич В. «Волга: бурлаки и пароходы», Колябин В. «У истоков пароходного предпринимательства на Волге», Поздмин Б. «Волжские долгожители», Пряников В. «Началось с «Волги»», Савельев В. ««Самсон», «Геркулес» и др.», Тарасов Л.К. «Историю флота и Волги надо беречь и помнить».
Путеводители по Волге как источник волжского судоходства
Первый печатный общедоступный путеводитель по Волге составлен братьями Боголюбовыми Николаем и Алексеем Петровичем.
Вот что сообщает об их путешествии краевед Г. А. Мишин в своей книге «Волшебной кисти мастера», изданной Приволжским книжным издательством в 1987 году: «О готовящемся путешествии Боголюбовых прослышал их давнишний флотский приятель капитан первого ранга в отставке фон Глазенап, служивший директором волжского пароходного общества «Самолёт». Он обратился к братьям с предложением: «Ваше плавание по Волге будет дорогим и потребует немалых затрат. Правление общества «Самолёт» готово выделить вам нужную сумму на эту поездку. А что взамен? Вы должны будете описывать все города и деревни, которые встретятся вам на волжских берегах, а также собирать материал о быте и труде населения Поволжья». Общество «Самолет» хотело бы выпустить первый в России путеводитель по Волге для многочисленных туристов, ежегодно путешествующих по реке. Боголюбовы приняли предложение Глазенапа. Николай Петрович взял на себя описание поволжских местностей, Алексею Петровичу предстояло зарисовать увиденное в плавании и проиллюстрировать будущий путеводитель. Общество «Самолет» предоставило в полное распоряжение Боголюбовых пароход «Фортуна».
В 1862 году совместный труд Боголюбовых «Волга от Твери до Астрахани» появился на прилавках книжных магазинов. К тексту были приложены карта Волги и около 40 литографированных иллюстраций и политипажей. Издание имело большой успех, весь его тираж за несколько недель распродан и вскоре, путеводитель стал библиографической редкостью.
Но все же пальму первенства можно отдать двум другим братьям – Григорию и Никанору Чернецовым, которые в 1838 году совершили первое в России «художественное» путешествие по Волге. Братья Чернецовы начали свое путешествие по Волге с верховьев ранней весной и закончили его поздней осенью в Астрахани. Они делали многочисленные остановки и выполняли зарисовки.
Как отмечает в своей книге «О, Волга», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в 1985 году, саратовский писатель Н.Е. Палькин: «…Путевые записки братьев Чернецовых написаны достаточно живо, отличаются непосредственностью чувства, полны интересных наблюдений. Чернецовские записки и зарисовки дают возможность увидеть Волгу такой, какой она была полтораста лет назад, и сравнить ее с той, которую мы знаем теперь» [25, c. 335].
Впоследствии путеводители иллюстрировали не только рисунки художников, но и фотографии, в-первую очередь фотографии А. О. Карелина и М. П. Дмитриева.
Путеводитель «Волга, очерки и картины» был выпущен в 1889 году Н. Лендером. Там очень большое внимание уделялось художественному описанию сел, городов и интересных мест на берегах Волги.
Будущий автор знаменитой книги «Москва и москвичи» В. А. Гиляровский в самом начале ХХ века прошел с артелью бурлаков вдоль всей Волги пешком, познавая на практике быт и нравы простого люда. В пути он делал записи. По своим впечатлениям он составил и издал в Казани новый путеводитель – «Волга», где красочно, с присущим ему умением, описал увиденное.
Итак, историографический обзор истории волжского судоходства, XIX века позволяет, с одной стороны, отметить безусловный и непреходящий интерес к теме, а с другой — выявить целый ряд пробелов в историографии, возможность и необходимость дальнейшего исторического исследования. Один из таких пробелов – съезды судовладельцев, которые были одной из форм проявления предпринимательской активности, являлись общественной структурой, которая претендовала на отражение чаяний судоходных компаний крупнейшего региона. Данная тема затронута только в монографиях Шубина И. А. «Волга и волжское судоходство: история, развитие и современное состояние» (М., 1927. С. 638-639.) и Бессолицы А. А. «Становление предпринимательских организаций в Поволжье (конец XIX – начало XX в.)» (Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. ун-та,2004. — С. 9), а также и статье Корниенко Е.Г. «Роль съездов судовладельцев волжского бассейна в развитии судостроения в конце XIX – начале XX века», опубликованной в журнале «Научные проблемы гуманитарных исследований» в 2011 г. в № 10, С. 68.
2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЛЖСКОГО СУДОХОДСТВА XIX ВЕКА
Общая характеристика Волжского судоходства в XIX веке
К началу XIX в. – судоходство становится промыслом, охватившим значительные слои населения – людей самых разных сословий. Если на 1820-25 гг. объемы товарооборота на судах у Нижнего составляют от 80 до 94 тыс. рублей (на 80 судов), то к 1850-55 гг. эти цифры достигают 181 тыс. рублей (на 70 судов).
Основной перевозимый груз: ржаная мука, пшеница, пшено, греча, соль, мыло, поташ, овес, сталь, медь, железо, чугун, хрусталь. Особым «грузом» в XIX в. становятся арестанты.
С появлением пароходов число их на Волге непрерывно и быстро возрастало. В Астраханском архиве хранятся красноречивые данные за десятилетие. Если в 1852 году по Волге в Астрахань 11 пароходов привезли 1400 тысяч пудов грузов, а в 1858-м уже 32 парохода доставили 3900 тысяч пудов, то в 1861-м в Астрахань пришло 58 пароходов с 6749 тысячами пудов груза.
За навигацию 1856 г. по Волге прошло 577 судов, число рабочих на них составило 18 250 человек, общая ценность груза превысила 6 млн. рублей. К 1917 г. объемы судоходства и товарооборота только по одной Васильсурской судоходной дистанции следующие: — 6 490 судов за навигацию, 9 664 023 пуда клади на сумму 1 498 112 руб. 43 коп. [14].
Судовое хозяйство не могло существовать без береговых сооружений пристаней, затонов. Крупнейшим сооружением подобного рода на территории Н. Новгорода были Сибирские пристани, принимавшие суда с грузом для Нижегородской ярмарки и требовавшие большого внимания властей. С наступлением морозов суда устанавливались на зимовку в пристанях и затонах. Бурные весенние ледоходы приносили немалые разрушения и даже гибель судам и для борьбы с ними строились ледорезы, расширялись затоны.
Еще одним видом промысла, издревле кормившем приволжских жителей, было устройство частных перевозов и переправ через Волгу у различных населенных пунктов.
Говоря о волжском судоходстве нельзя обойти вниманием фигуру бурлака. Этим промыслом на Волге занимались сотни тысяч людей. Только во второй половине XIX века этот промысел стал исчезать с появлением пароходов. Средняя зарплата бурлака за навигацию составляла 150-200 рублей. К середине XIX в. в Нижнем было 33 790 бурлаков, что составляло 40% от всех бурлаков Волги.
Расцвет бурлацкого труда приходился на 30–40-е годы прошлого столетия — на Волге и Оке насчитывалось тогда до 600 тысяч бурлаков. В ту пору основные центры их найма находились на волжских («бурлацких» базарах — в Костроме, Кинешме, Юрьевце, Городце, Балахне, Нижнем Новгороде, Лыскове, Самаре, Саратове. Для тяжелой речной работы нанимались малоземельные крестьяне и городская голытьба Повол¬жья, Рязанской, Пензенской, Тамбов¬ской и Вятской губерний. При этом нижегородцы славились бурлаками — профессионалами, которые станови-лись вожаками бурлацких ватаг.
Артели бурлаков вместе с лоцманами и водоливами нанимались через подрядчика на всю навигацию (большую путину) или короткие местные рейсы. Как правило, сделка заканчивалась сдачей паспортов, получением -денежного задатка и основательной выпивкой за счет судохозяев.
На каждую тысячу пудов груза нанимались от 5 до 10 «ног». Для буксировки больших судов собирали до 300 человек… [24, c. 23]
В зависимости от судоходной обстановки, погоды, ходкости расшивы и других причин буксировали суда разными способами. Так, при плавании вниз по Волге они шли самосплавом с использованием весел и парусов. При движении из Астрахани — против течения — применялись «подачи» и бечева, которой тянули судно бурлаки по «сакме» — прибрежной тропе. При следовании под парусами лоцман привлекал судорабочих к работе на большом руле расшивы и для управления в шторм тяжелыми намокшими парусами. Нередко из-за нарушения судовых мер предосторожности рабочие получали травмы и становились калеками…
Суда, загрузившиеся на низовых пристанях, следовали на верхнюю Волгу, когда река имела еще полные воды, которые затопляли береговую тропу для бурлаков. Поэтому расшива двигалась завозной тягой — «подача¬ми». Завозня-лодка заводила вперед по курсу судна якоря, пеньковые или мочальные канаты («подачи») которые подавались на буксируемую расшиву. Здесь бурлаки впрягались в широкие кожаные лямки и, упираясь ногами в палубу, вытягивали «подачу» на борт, чем медленно продвигали судно против течения к заведенному якорю. Эта непростая работа была все-таки легче, чем буксировка бечевой.
Далее бурлаки шли по сухой береговой тропе и тянули расшиву бечевой, т. е. толстым канатом, закрепленным за ее мачту.
Впереди артели идет «шишка», наиболее опытный и еще крепкий бурлак, который выбирает путь по берегу и задает необходимый ритм в работе.
За спиной вожака в полсилы тянут лямки, вплетенные в бечеву, наиболее ленивые и «кабальные» бурлаки (они пропили в пути заработок и работают за одни харчи). За ними с большим напрягом шагают самые добросовестные члены артели. В случае необходимости они погоняют ленивых и «кабальных» грозным окриком и затрещинами. Живописную рабочую группу замыкает «косной», который отвечал за правильный ход бечевы. При надобности он снимал ее с препятствий на берегу и воде. Такая расстановка сил в артели обеспечивала медленное, но надежное движение по заданному маршруту. В лучшем случае скорость достигала не более 10 верст в день.
Бурлаки шли по берегу ровно и обязательно в ногу. Плавное покачивание бечевы то влево, то вправо говорило о правильности хода. Они ступали вперед только правой ногой, а затем передвигали к ней левую, делая лишь маленький шаг. Тяжесть лямки не позволяла ступать одинаково обеими ногами. Путь рабочих пролегал по песчаным и каменистым тропам: они двигались по колено в песке и острыми камнями ранили ноги. Поэтому артели работали посменно, чередуясь через каждые 10-15 верст. Весь бурлацкий ход на Волге разбивался на 62 «перемены», по которым и велся учет работы.
При невозможности буксировки становились на якорь до улучшения погодных условий.
С появлением пароходов и барж многотысячная армия бурлаков исчезла с речных плесов. С окончанием бурлачества, по самой крупной водной артерии России чередой пошли пароходы.
Первоначально все они отапливались дровами, для этого нужны были не малые кубометры дров. Чтобы упростить задачу, стали вырубать леса вдоль реки, так как их было близко тащить, затем связывали в плоты и сплавляли по реке. Такой способ доставки леса для дров обходился весьма дешево.
Очень много лесов вырубили и вывезли из города Балахны, им нужны были дрова в огромных количествах, т.к. в Балахне добывали соль. Иной год существовало до 86 варниц соли, а как же выпаришь соль без дров. Помог и царь реформатор Петр I, еще в первый свой приезд учредил в Балахне верфи для постройки судов. Лучший лес шел на постройку судов, еще в начале XVIII века, верфи спускали на воду ежегодно до ста барж. С исчезновением лесов стали закрываться промыслы, зависящие от наличия дров, климат и экология Волги стали меняться. Фарватеры быстро заиливались, Волга резко мелела, появилось множество перекатов. Встал вопрос о постоянной работе по углублению дна, чтобы не прерывать навигацию.
Обмеление Волги несло большие убытки и неприятности судовладельцам и нижегородским властям, т.к. препятствовало развитию Нижегородской ярмарки. В 1847 г. главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями граф П.А. Клейнмихель проехал по Волге от Рыбинска до Н. Новгорода и убедился в большом вреде, приносимом судоходству обмелением. Были приняты меры по улучшению волжских судоходных путей, в том числе и по установке на опасных участках Волги знаков, указывающих на мели и перекаты, и бакенов, указывающих фарватер, возобновляемых в каждую навигацию. Углубление мелей, исправление фарватера проводились властями постоянно. Вот тогда и были закуплены в Голландии первые землесосы, землечерпалки и суда, их сопровождающие, баржи и шаланды.
В 1871 году на Волге плавало 411 пароходов. Среди них — 318 буксирных, 60 пассажирских, 3 товаро-пассажирских, 10 перевозных, 20 забежек при кабестанах. Эти 318 буксирных пароходов могли перевезти против течения 30 миллионов пудов груза со скоростью 70 вёрст в сутки.
Первая волжская перепись судов 1884 года дала такой результат: 665 пароходов различных компаний. По второй судовой переписи 1890 года, на Волге было 1015 пароходов они могли перевезти 207 258 тысяч пудов груза.
В. М. Цыбин в монографии «Пароход на Волге» пишет: «…если случалось сесть на мель, то сняться с неё и идти дальше не являлось проблемой. А вот когда появились пароходы с осадкой, значительно большей, чем у плоскодонных судов, то дело стало посложнее. Особенно летом: Волга мелела, и не все пароходы могли пройти некоторые мели и перекаты. Приходилось разгружать суда для их облегчения и потом снова нагружать, а это — потеря времени и де¬нег. Государство было вынуждено в интересах судоходства, чтобы обеспечить плавание без помех, делать различные гидротехнические сооружения — дамбы, плотины, углублять дно, уничтожать подводные камни на фарватере. Применялись и технические «хитрости». Так, для плавания в верхних плёсах от Нижнего Новгорода до Рыбинска и от Рыбинска до Твери строили небольшие мелкосидящие пароходы. На плёсе от Нижнего до Астрахани, где было глубже, использовались пароходы покрупнее с большей осадкой» [25, с. 29]
Любопытно, что пароходное движение привело к пре¬кращению в 1840-х годах грабежей судов на Волге. Последний крупный грабёж был отмечен в 1847 году в Жигулёвских горах: подверглось ограблению 9 судов. А в 1848 году по распоряжению Министерства внутренних дел в Саратов был командирован надворный советник Астафьев — проверить, как пресекаются грабежи на Волге в пределах Саратовской губернии.
Наступила эра парового флота — и на Волге, и на других реках России.
Государственное регулирование судоходства, управление грузовыми и пассажирскими перевозками
Государство было заинтересовано в развитии всей системы судоходства в Нижнем Поволжье, действовала разветвленная система государственного регулирования и управления судоходством, охватывавшая все аспекты его работы.
Частные предприятия, занимавшиеся непосредственной перевозкой грузов и пассажиров на своих судах, составляли нижний, базовый уровень системы. Они возникали по частной инициативе и боролись за прибыль, конкурируя друг с другом. Степень их самостоятельности ограничивалась равновесием сил, которое устанавливалось в этой отрасли рынка организациями судовладельцев и решениями правительственных структур.
Следующим уровнем являлись организации судовладельцев, рыбопромышленников, местные биржевые комитеты нижневолжских крупных городов. Они пытались влиять на работу судоходства ради увеличения его экономической эффективности в своих интересах. Решения их, однако, могли быть реализованы только с согласия органов государственного управления. К этому же уровню следует отнести возникшие по инициативе «снизу» общества подания помощи при кораблекрушениях, спасательные, добровольные фонды и т.п.
На третьем уровне проходила деятельность местных подразделений ведомства путей сообщения, контролировавших и практически регулировавших судоходство и все его субъекты. Сюда относились инспекторы судоходства; заведующие техническими участками и их персонал; судоходный надзор; речная полиция; таможенные чиновники; должностные лица из органов местного самоуправления (техники городских управ, губернские землемеры и т.д.), которым поручалось принимать практические меры по согласованию интересов местного судоходства с интересами местной власти. На этом уровне государственные интересы вступали в непосредственный контакт с интересами частных судоходных обществ и отдельных лиц, чья деятельность пересекалась с работой водного транспорта (содержатели местных городских перевозов, судостроительных и судоремонтных предприятий). На этом же уровне проходила и деятельность учебных заведений, готовивших кадры для морского и речного торгового флота, поскольку положения об их создании, инструкции и требования к уровню подготовки выпускников приходили «сверху» и диктовались интересами государства, а практическая деятельность осуществлялась на местные частные средства.
В четвертый уровень включались начальники округов ПС, начальники отделений и начальников судоходных дистанций, главы таможен, а также органы городского управления – Городские Думы и Управы, губернаторы. Все они являлись проводниками решений правительства, регулирующих судоходство и водное хозяйство таким образом, чтобы они не вступали в противоречие с интересами местной власти и городов. Именно на этом уровне ясно обозначается заинтересованность государства в доходах предприятий судоходной сферы. Государство стремится получить часть этих доходов посредством многочисленных налогов и сборов.
Высшим уровнем системы работы водного транспорта и водного хозяйства являлись департаменты, министерства и ведомства, напрямую регулировавшие судоходство (Министерство путей сообщения), и те, чья сфера была связана с судоходством, судостроением или получением доходов от них в казну путем налогообложения, в том числе через таможню (Министерство финансов, Департамент торговли и мануфактур).
Министерство путей сообщения (МПС) ведало благоустройством, содержанием и использованием всех находящихся в стране путей сообщения и торговых портов. Все речные бассейны России с 1809 г. были разбиты на 10 округов путей сообщения, которые были ликвидированы на основании Декрета СНК от 25 мая 1918 г. В ведении округов путей сообщения находились санитарный надзор, полицейская служба и судоходные инспекторы, контролировавшие выполнение правил движения флота и выставление ограждения судовых ходов. Судоходством и путевым хозяйством на Волге от Рыбинска до устья Волги осуществляло Управление Казанского округа путей сообщения.
Для возникновения нового порта требовалось распространить на него действие положения об административном заведовании торговым мореходством и о портовой полиции в приморских торговых портах . На дальнейшее развитие каждого конкретного порта влияла совокупность разных факторов.
Деятельность пароходных обществ, графики движения судов, судоходные маршруты, контроль над соблюдением расписания также являлись неотъемлемыми компонентами единой системы судоходства. Существовали списки, сведения и перечни судов каждой губернии, которые велись с начала 1860-х гг.
3 октября 1867 года утверждены «Правила для плавания судов по Волге и Каме», введенные в действие временно на три года и положившие началу упорядочению судоходства на Волге. Правила состояли из 69 параграфов.
Крупные разделы правил трактовали: 1) о составе и обязанностях речной полиции; 2) об отличительных огнях; 3) об управлении судном и сигналах; 4) О случаях столкновения судов; 5) Об особых правилах судоходства на Волге во время мелководья; 6) О порядке наложения взысканий и наблюдении за исполнением правил [6, c. 511].
23 октября 1874 г. Последовало царское повеление «чтобы употребление отличительных огней на паровых, парусных, гребных грузовых судах и на плотах было сделано обязательным на всех реках и озерах империи, в исполнении чего министерством путей сообщений были составленыобщие правила для всех водных путей, распубликованные в №55 «Собрания узаконений и распоряжений правительства за 1875 год» [27, с. 511].
Согласно введенной в 1890 г. инструкции, всякое судно должно было быть записано и снабжено номерным знаком ведомства ПС и удостоверением о записи [20, c. 242-252].
Для защиты своих интересов судовладельцы добились в 1906 г. создания постоянной организации «Съезды судовладельцев Волжского бассейна». Возглавлял съезды бессменно Д. В. Сироткин, который к этому времени стал центральной фигурой в судоходной среде Поволжья.
Наблюдение за порядком в судоходстве производила речная полиция, существовавшая с 1803 г.. Чинам полиции приходилось не только наблюдать состояние пристаней и переправ, но и тушить пожары, спасать утопающих.
Итак, совершенно очевидно, что к началу XIX века еще не было исследований, в которых давался бы исторический анализ развития судоходства, лишь в некоторых поднимались общие проблемы, стоявшие перед ним.
В связи с появлением первых пароходов были созданы работы, в которых описывалось состояние водных путей и технико-специфические и гидрологические проблемы водного транспорта. По мере развития парового судоходства появились работы, в которых положительно оценивалось его внедрение и делался анализ экономических выгод этого новшества. Большинство этих материалов было посвящено описанию маршрутов пароходов и скоростям плавания судов, их технических характеристик и перевозимых ими грузов.
3. СУДОСТРОЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛЖСКИХ КАМПАНИЙ
От волжских расшив до первых водоходных и коноводных судов
Строение судов на Волге имеет такие же древние корни, как и судоходство: Нижний Новгород был крупнейшим судостроительным пунктом.
Вершиной деревянного судостроения стала знаменитая волжская расшива, выпуск которой вслед за Нижним Новгородом освоили корабелы Балахны, Горбатова, Васильсурска, Костромы и Казани. Эти крупные плоскодонные суда при одной мачте, с наостренным носом и ложкообразным обводом корпуса оказались наиболее пригодными к хождению по строптивым волжским, окским и камским водам, с их капризными течениями, многочисленными мелями перекатами.
Деревянная баржа служила от 8 до 10 навигаций. Лучшие баржи строились в Балахне.
Грузоподъемность расшив была меньше, чем у барж, но они обладали лучшей маневренностью. Инженер М. Трифонов отмечает, что расшивы «…отличались стройностью обводов, прочностью, добротной отделкой и легким ходом» [22, с. 4].
Валовая выручка с расшива при средней грузоподъемности в 25 000 пудов и в среднем фрахте 20 коп. с пуда достигала 5 000 рублей: плата бурлакам 2 000 руб., команде – до 300 руб., амортизация судна 800 руб., ремонт 600 руб. (итого расход 3700-3800 руб., доход – 1200-1300 руб.) [14].
Позже на волжских плесах испытывались первые водоходные и коноводные суда. Своими оригинальными изобретениями талантливые механики из народа Иван Кулибин и Михаил Сутырин пытались облегчить тяжелый бурлацкий труд…
В сентябре 1804 года при большом скоплении публики на Волге было проведено последнее испытание «водохода» И. Кулибина, увенчавшееся полным успехом. Машинное судно с грузом двигалось против течения со скоростью 410 сажен в час. Комиссия нашла, что «судно обещает выгоды». Однако это изобретение было «похоронено». Судно сдали в казенное ведомство, а затем продали публичного торга на слом.
В первые десятилетия XIX века крепостной крестьянин села Кадницы Михаил Сутырин построил конномашинное судно (коноводку), на котором канат от завезенного вперед якоря выбирался не людьми, а лошадьми, Коноводки Сутырина получили широкое распространение, пережив появление пароходов, и даже сравнительно долго применялись одновременно с паровой тягой. (В дальнейшем их заменили «кабестаны», сходные по типу и управлению, но приводившиеся в движение паровыми машина¬ми). Двигались коноводки также очень медленно, в особенности весною, делая, при быстром течении, не более 15—20 верст в сутки, Но зато у них было другое преимущество — они поднимали сразу по 300 – 400 тысяч пудов груза! [9, с. 3]
В XIX веке, наряду с коноводками на реках Волжского бассейна продолжали применяться и суда старых типов (некоторые из них просуществовали вплоть до начала ХХ века). Свои названия они получали от рек и местностей, где строились, или от конструкций, назначения и способов передвижения (расшива, барка, полубарка, гуеяна, суряк, коломенка, дощаник, пильные вдовики, полудовики, лодки).
Начало развития парового флота. Деятельность пароходных обществ «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Самолет»
В 1815 году в России Карлом Бердом был построен первый пароход. Берд поставил на обыкновенную барку паровую машину и, к удивлению публики, разъезжал на ней по реке.
Пароходы, появившиеся на Волге в начале 20-х годов XIX века, принадлежали заводопромышленнику и камергеру двора В. А. Всеволжскому. Используя их в личных целях, он путешествовал на диковинных судах со своим семейством и дворовыми людьми.
В дальнейшем Всеволжский стал использовать пароходы и для перевозки товаров, о чем своевременно сообщили «Нижегородские губернские ведомости» под рубрикой «Частное известие»…
Итак, начинает свое развитие паровой флот. Первые пароходы, принадлежавшие промышленнику Н. Всеволжскому, прошли по Волге в 1817 году.
В 20-х годах XIX века уже 5 пароходов, принадлежавших Д. Н. Евреинову, могли одновременно провозить до 80 тысяч пудов груза. Пароходы были деревянные, очень тяжелые, с большой осадкой, часто садились на мель, путь от Астрахани до Нижнего Новгорода составлял 4 недели.
К 30-м годам XIX века на Волге уже появляются промышленные пароходы, построенные частью в России, а частью в Англии и Америке. Вот как о появлении одного из первых таких пароходов говорится в архивном документе: «Пароход, неуклюжий, малосильный, глубоко сидевший в воде… медленно двинулся сверху к Астрахани. Толпы народу сбегались к берегу и дивились чудному судну, — с трубой и печкой, которое само ходит и вверх и вниз, без парусов, без лямки, только печку топи» [2, с. 38-52].
В 1830 г. императорским указом был утвержден единый флаг для всех судов ведомства путей сообщения Российской империи.
В 1834 году помещик Сомов построил в Нижнем пароход «Выкса», первый всецело русский пароход. В 1836 году появились еще два парохода. Спустя шесть лет — еще один, «Сокол». Все эти пароходы были буксирными, тихоходными, ночью стояли, не могли поднимать большой груз, а в случае порчи в машине бросали якорь и ждали приезда мастера из Петербурга.
Регулярное пароходство на Волге началось с 40-х г годов XIX века, с образования двух акционерных обществ («По Волге» — 1843 и «Меркурий» — 1849; в 1858 году оно слилось с обществом «Кавказ»), оказавшихся наиболее жизнеспособными.
В 1843 г. вышел закон о предоставлении развития пароходства на реках – свободного права всем утверждать буксирные общества [17, c. 37].
Базой зимнего отстоя и ремонта общества «По Волге» был Жуковский затон, расположенный в 60 верстах ниже Нижнего Новгорода.
1 сентября 1883 года начинается строительство мастерских для технического обслуживания, ремонта и зимнего отстоя этого специализированного флота. Выбор пал на Василево не случайно, ведь рядом был естественный затон, который в простонародье назывался малой Воложкой. Вторым плюсом было то, что всего в 65 верстах ниже по Волге располагался огромный по тем временам Сормовский судостроительный завод, в то время основной поставщик судов для могучей водной магистрали. Третьим плюсом было то, что по административному подчинению и Сормово, и Василево были Балахнинского уезда.
«Первоначально мастерские были примитивные, сам первый директор мастерских инженер Мазинг Р. К. (немец) жил постоянно в Нижнем Новгороде и бывал в Василеве лишь наездами. Работа была сезонная, т.е. работали зимой, а летом увольнялись, за исключением 4 конторщиков и 4-5 станочников. Это как нельзя, кстати, было для работающих здесь по найму крестьян из окружающих деревень, все лето они отдавали ниве. С образованием мастерских в жизни села никаких серьезных изменений не произошло, просто появились мастеровые люди, а остальное население продолжало жить по старине» [8, с. 63-64].
Пароходное Общество «По Волге»
С 1843 года отсчитывает свою историю Волжское пароходство. Группа петербургских купцов, имеющих пароходы, решила основать общество для эксплуатации своих судов на Волге с уставным капиталом 225 тыс. руб. серебром. Устав нового пароходного общества был «высочайше утвержден Указом императора Николая I» 7 сентября 1843 года. Эта дата считается рождением Пароходного Общества «По Волге», с которого и началась история современной судоходной компании «Волжское пароходство».
Правление общества находилось в Петербурге, а в волжских городах располагались его конторы с агентами. Учредителями общества выступили петербургский и калязинский купцы первой гильдии М. П. Кириллов и Д. М. Полежаев, а также иностранный гость Д. И. Кейли.
15 мая 1846 года на линию Самара — Рыбинск вышел первый настоящий буксирный пароход «Волга», который был доставлен на Волгу из Голландии в разобранном виде. Мощность 250 л. с., скорость порожняком — до 20 верст, скорость с полным грузом — от 4-5 верст. Несмотря на свою некрасивую внешность, пароход начал работать очень удачно. За навигацию сделал 3 рейса, перевез 246 тысяч пудов груза, имел чистой прибыли 13 тысяч руб. Пароход «Волга» был удостоен за свою работу похвального отзыва от главноуправляющего путями сообщения гр. П. А. Клейнмихеля, что явилось событием необычайным для того времени. Весной 1848 года прибыли на Волгу новые заказанные обществом пароходы, построенные по типу «Волги», более мощные, по 460 ном. сил, и получили названия «Геркулес» и «Самсон». В 1849 году учредители присоединили к своему флоту еще два новых парохода – «Каму» и «Оку». Через несколько лет общество «По Волге» располагало уже шестью буксирами [7].
В первые годы деятельности компания развивала грузовой флот: к концу 50-х годов столетия в пароходстве было 9 мощных грузовых пароходов. Суда работали как буксиры, транспортируя несамоходные баржи с грузом по Волге между Рыбинском и Астраханью.
Но грузовыми перевозками дело не ограничилось. В 1859 году, построив в Англии пароходы «Царь» и «Царица», общество наладило пассажирское сообщение между Казанью и Астраханью. Еще четыре года спустя была открыта линия Нижний Новгород — Астрахань.
«Саратовский дневник» в мае 1890 года писал: «Пароходное общество «По Волге» совершает правильные рейсы между Нижним и Астраханью следующими пароходами: «Император» и «Императрица», «Царь» и «Царица», «Царевич» и «Царевна», «Государь» и «Государыня», «Боярин» и «Боярыня» в навигацию 1890 г.» [7]
Пароходы в этом обществе имели парные названия.
Проезд в 3-м классе стоил 10 руб. и не менялся до 1885 г.
Таксы Общества «По Волге» на 1850 г. существовали следующие:
Маршрут Н. Новгород – Астрахань
I класс – 21 руб.
II класс – 13 руб. 50 коп.
III класс – 6 руб.
Маршрут Н. Новгород – Рыбинск
I класс – 4 руб. 75 коп.
II класс – 3 руб. 30 коп. [14]
В. Пряников в статье «Начиналось с «Волги» отмечает, что «Четыре года спустя (в 1861г. – прим. автора)… Проезд в 3-м классе стоил 10 рублей, и не менялся до 1985г.» [16, с. 6]
В 50-х годах появились пассажирские суда бельгийской постройки, но собранные в мастерских Твери. Так, колесный пароход «Казань» был оборудован каютами с мягкими диванами, красивым освещением и отоплением, чугунными печами. Бедные же пассажиры «отдыхали» на палубе под открытым небом, хотя грузы в несколько тысяч пудов укрывались брезентовым навесом.
К концу 60-х годов на пассажирских перевозках работали уже 9 судов. Эта деятельность становится ведущей в бизнесе компании «По Волге» до конца XIX и в начале XX века. Комфортабельные волжские (так называли пароходы общества «По Волге») пассажирские пароходы ходили по маршруту Нижний Новгород – Астрахань – Нижний Новгород.
К 1902 году в обществе «По Волге» имелось 18 пассажирских и 4 буксирных парохода, 11 барж, 34 плавучие пристани. Многие пароходы общества «По Волге» ходили в советское время, но под другими названиями: «Царица» — «Чичерин», 1899-1973; «Граф» — «Усиевич», 1904-1987; «Графиня» — «Иосиф Сталин», 1909-1942; «Витязь» — «Волга», 1912-1983; «Баян» — «Михаил Калинин», 1912-1981.
И у каждого из них своя судьба. Например, на пароходе «Баян» 13-летним подростком работал кочегаром будущий известный летчик страны Валерий Чкалов. На 1917 год уже насчитывалось 59 акционерных компаний и 2000 частных судовладельцев.
Позднее общество «По Волге» пополняло свой флот судами, по-строенными исключительно на русских верфях. Первенцами стали «Боярин» и «Боярыня», сошедшие в 1893 г. со стапелей Мотовилихинского пушечного завода в Перми.
В 1918 году декрет Совета Народных Комиссаров объявил весь торговый флот национальной собственностью. Были национализированы все пароходы общества «По Волге», суда получили новое название и работали еще многие годы в составе волжских пароходств.
«Кавказ и меркурий»
Вторым большим пароходным объединением на Волге было общество «Меркурий». Оно открыло свою первую навигацию в 1850 году. Учредители общества — действительный статский советник В.В. Скрипицын и статский советник Н. А. Жеребцов, а также почетный гражданин Москвы купец первой гильдии А. И. Лобков. Капитал общества составлял 750 тыс. рублей, он был разделен на 3000 акций по 250 рублей каждая. В числе основателей можно считать и П. П. Мельникова (владея 20 акциями на сумму 5 тысяч руб. он мог, согласно уставу, избираться в правление) именно с его подачи начались хлопоты по созданию пароходного общества.
В 1958 году утвержден устава пароходного общества «Кавказ» для работы на Каспийском море. Организуя общество, Н.А. Новосельский, который позже был избран председателем общества, подготавливал почву для объединения общества «Меркурий» и «Кавказ». Проект устава «Кавказ и меркурий» утвержден 29 апреля 1958 года.
Возникшее объединённое общество «Кавказ и Меркурий» брало на себя следующие обязательства перед правительством:
а) построить через 2 года не менее 15 пароходов, а через 4 года — ещё не менее 5 пароходов с надлежащим количеством барж;
б) содержать почтовое сообщение между портами Каспийского моря;
в) перевозить по указанным в уставе ценам казённый провиант [25, с. 51].
За выполнение этих обязательств оно получило ряд привилегий от правительства: отвод любых земель на Волге и Каспии для строительства пристаней; продажа обществу казённых пароходов на Каспийском море с большой скидкой; отведение места добывания угля для пароходов; плата обществу за содержание почтовых сообщений 34 тысячи рублей ежегодно.
«Кавказ и Меркурий» в 1858 году перевёз много войск и военных грузов на Кавказ, где вела боевые действия русская армия.
Пароходное товарищество «Самолет»
Пароходное товарищество «Самолет» возникло в 1852 году для перевозки пассажиров и легких грузов в верховьях Волги, между Тверью и Ярославлем. Но уже в 1859 году пароходы этого общества ходили до Саратова по Волге и до Перми по Каме. Таксы на проезд от Твери до Рыбинска в 1860-80 гг. составляли:
I класс – 6 руб.
II класс – 4 руб.
III класс – 3 руб.
В пятидесятые годы образуются другие пароходные общества: «Польза», «Кавказ и Меркурий» и другие. Крупнейшими пароходствами были образованное в 1906 г. «Торгово-промышленное товарищество Якова Спиридоновича Чернонебова» и – в 1907 г. – Дмитрия Васильевича Сироткина, владевшие соответственно 11 и 15 пароходами, не считая непарового флота.
«Великий князь Александр Михайлович» — пароход-рекордсмен, вышел в свое первое плавание 21 мая 1903 года и ходил до 1990 года. Построен в АО «Сормово», обеспечен машиной золотникового типа с тройным расширением пара конструкции инженера В.И. Калашникова. Впоследствии стал называться «Память Азина». Капитаном парохода «Память Азина» с 1966 по 1990 год был потомственный речник В.Д. Мелешкин. Этому же обществу принадлежит приоритет создания первого волжского парохода с электрическим освещением. Это «Фельдмаршал Суворов», построенный в Спасском затоне в 1882 году, самый красивый, быстрый и дорогой пароход, пароход-мечта. В 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке обществу «Кавказ и Меркурий» была присуждена высшая награда — право изображать на судах государственный герб.
До середины 1880-х годов волжские пароходы использовали в качестве топлива дрова. Огромное количество их приходилось возить на судах, что уменьшало их грузоподъемность. Искры, образующиеся при горении вызывали пожары, последствия которых были ужасны. В 1884 г. обществом «Кавказ и Меркурий» впервые была применена нефть в качестве топлива. Перевозки нефти по Волге стали одним из важных видов грузооборота. Власти города были озабочены тем, чтобы хранение нефтепродуктов на берегах Волги не было опасным и не загрязняло реку.
Пошлинный сбор с судов составлял в течение XIX в. 1 рубль с 1000 рублей ценности груза, приходящего и уходящего. В 1899 г. сбор с ценности грузов был отменен. Для пополнения городской казны в 1842 г. было создано Нижегородское отделение Рыбинской судоходной расправы. Рассматривало споры по судоходству, регистрировало контракты и договоры, получало сборы с этих действий. Кроме того, существовал так называемый попудный сбор с грузов, привозимых в город и на ярмарку; он составлял ¼ коп. с пуда.
На рубеже веков друг с другом успешно конкурировали кампании и фирмы: «Самолет», «Кавказ и Меркурий», братьев Каменских, Любимова и К, М.К. Кашиной и другими.
Машинная фабрика в Сормово
В 1951 году в Сормове начинается строительство железных пароходов и барж. Это был смелый шаг. В «Морском сборнике» за 19853 г. №9 о действиях Нижегородской машинной фабрики сообщалось: «Соблюдая в точности свое самостоятельное и независимое производство, фабрика не искала за границей исполнителей этого дела. Помня правило, что дело рождает деятелей, она обошлась русскими средствами, нашла русского руководителя работ, а с развитием дела нашлись материалы и мастеровые» [11, с. 14]. Этим руководителем был талантливый инженер Михаил Михайлович Окунев.
За 1852 год сормовские судостроители спустили на воду еще 9 паровых судов, из них 4 железных. Теперь уже значительная доля продукции пошла заказчикам. Угличскому купцу Журавлеву передали два кабестана и две «забежки». Кавказский наместник М. С. Воронцов получил из Сормова железный пароход «Кура» и к нему две железные баржи.
Заказчики не сетовали на качество сормовской продукции. Штурман Маркиан Иванов, доверенное лицо князя Воронцова, принимая суда, отмечал, что «пароход в 60 сил и две железные баржи по освидетельствованию оказались как размерами, так и устройством противу условия совершенно согласными, равно машина в действии по сделанной пробе вполне удовлетворительна» [11, c. 14].
Журнал «Отечественные записки» в 1853 году с особой гордостью отмечал, что пароходы на Сормовском заводе строятся русскими мастера-ми и из русских материалов. «Железо здесь получается с Урала, с деми-довских заводов, лес — из Костромской губернии, с реки Унжи, снасти — с фабрик, находящихся в Нижнем Новгороде и Муроме». Чугун, медь, олово, свинец, инструменты, пенька, пакля, масла, краски и другие мате-риалы приобретались на соседней ярмарке. Дрова и угли древесные по-ставляли преимущественно жители заволжских деревень. Все металличе-ские части, начиная от гайки, вырабатывались тоже на месте. Только трубки для котлов выписывались из Англии.
Выдерживая и охраняя курс на независимость, владельцы машин-ной фабрики не хотели ни в чем отставать от века, от внедрения в про-изводство новинок техники. Предметом особой заботы было устройство более современной судостроительной верфи, располагавшейся в полувер-сте от фабричных зданий, на правом берегу Волги. В 1851 году там построили два деревянных крытых эллинга. Длина одного из них равня-лась 30, другого — 25 саженям. В них предполагалось строить только железные суда, деревянные по-прежнему должны были собираться под открытым небом. За 1853 год верфь пополнилась новыми эллингами. Расширилась и площадка сухого дока с приспособлениями для вытаскивания судов на берег. На территории верфи имелись и подсобные службы: склады, кузницы, чертежная с плацем. Со стороны Волги затон и верфь защищались песчаной косой, на которой впоследствии возвели деревянную дамбу и ледорезы для охраны построек от разрушения половодьем.
В середине 50-х годов на Сормовском заводе появилось более совершенное оборудование. Увеличилось количество станков, и возросла мощ¬ность двигателей. Теперь завод имел 39 станков, приводимых в движение машинами, 60 ручных тисков и верстаков, 35 печей и разных кузнечных горнов, три паровых котла и две паровые машины мощностью 12 и 25 ло¬шадиных сил.
Такое оснащение в сочетании с мастерством рабочих, которые освоили технику, позволяло совершить новый шаг в развитии судостроения. За 1854-1855 годы с верфи Сормова было отправлено 17 готовых к плаванию судов. Это были буксиры, кабестанные пароходы и «забежки». Железные буксиры «Волна» и «Дельфин» имели двигатели мощностью 120 сил. Создание таких судов считалось большим достижением в отечественном пароходостроении. По прочности и отделке сормовские суда, по заключению специалистов, могли соперничать с лучшими иностранными.
Всего до конца 1854 года сормовичи выстроили 34 парохода, почти треть из которых была с железными корпусами.
С каждым последующим годом Сормовский завод набирал силы, приобретал все большее значение в промышленном развитии Поволжья. Расширялся круг заказчиков, появились постоянные контракты с волжскими предпринимателями. В 1855 году по заказам пароходных обществ «Меркурий» и «Польза» были изготовлены кабестан и два железных буксира. «Вестник промышленности» в 1858 году писал, что эти суда по своим качествам и по дешевизне значительно превосходили продукцию других заводов.
На Сормовском заводе построены «Император Николай II», «Императрица Александра», «Царь» и «Царица», «Князь» и «Княгиня».
Революцию в судостроении произвел товаро-пассажирский пароход «Переворот» (1871 год, Сормовский завод) американского типа. Он поднимал до 30 тысяч пудов груза и имел двухэтажную надстройку с крытой террасой на пассажирском этаже. Великолепный салон и роскошные каюты — с водой и паровым отоплением — выгодно отличали «Переворот» от судов старой постройки. Еще больше удобств было на самом быстроходном пассажирском лайнере «Фельдмаршал Суворов», на котором впервые на волжском флоте поставили электрическое освещение [21, с. 3].
На заре развития отечественного флота русские кораблестроители все-таки оставались прилежными учениками западных специалистов, но затем обошли своих наставников. В начале ХХ Россия стала пионером в строительстве речных и морских теплоходов. На этих судах вместо паровых машин ставились двигатели внутреннего сгорания с передачей движения от них на колеса и гребные винты.
Так, по заказу товарищества «Бр. Нобель» сормовские корабелы создали первый в мире речной винтовой танкер «Вандал». Вместе с одно-типным «Сарматом» он перевозил наливом нефтепродукты между Рыбинском и Петербургом. Затем вышли на волжские фарватеры первый в мире колесный буксирный теплоход «Мысль» и один из первых грузовых теплоходов «Данилиха», построенный в Сормово по проекту Н.Кабачинского. От этого судна ведут начало современные сухогрузы на реках.
На рубеже двух веков волжское пароходство пополнилось 225 судов различных назначений.1 Обеспечивая водные перевозки и торговлю с Востоком, волжские пароходства постепенно избавились от иностранных специалистов на судах и эффективно готовили для себя квалифицированные кадры волгарей. Особенно славились подготовкой капитанов, механиков и других судоходцев Нижегородская губерния.
Итак, с помощью монографий и публикаций периодической печати мы смогли совершить ретроспективное путешествие по Волге на старинных судах и пароходах. Получилось описание развития целой индустрии, истории судов и судовладельцев, пароходных компаний. Обобщенные труды исследователей раскрыли некоторые тайны волжского судоходства. Так, например, уцелевшим после революции пароходам была уготована интересная и долгая судьба. Всех их переименовали. Так происходила ликвидация «классово чуждой» атрибутики и символов: «Граф» превратился в «Усиевича», «Самодержец» — в «Крестьянина», «Царица» — в «Чичерина», «Император Александр» — в «Виктора Холзунова», «Петроград» — в «Парижскую Коммуну» и т. д.
Пароходы-долгожители (срок их эксплуатации составлял почти 80 лет) тоже не вечны. Последнее их плавание заканчивалось, как правило, в доке, где их распиливали для сдачи в металлолом. А облик сохранялся только в памяти людей и на открытках.
Заметим, что опубликованные в дореволюционное время труды о волжском судоходстве, несмотря на наличие в них довольно ценного материала, не дают полной картины процесса формирования квалифицированных специалистов, рабочих кадров в Волжском судоходстве. В них нет и общей картины развития пароходства по Волге и ее крупным притокам, практически не получила освещения деятельность крупных волжских организаций, социальный состав их учредителей. В работах отсутствовал анализ социально-экономических условий труда судорабочих и специалистов и не давался обобщающий анализ развития Волжского судоходства, не было обобщающих исследовательских материалов по истории парового судоходства. И все же в дооктябрьский период по данной теме был накоплен большой фактический материал, поставлены в общем виде проблемы, связанные с развитием пароходства: технические, топливные; в меньшей степени — социальные.
Выводы по исследованию
Испокон веков по Волге ходили самые разные суда и перевозились многочисленные грузы. Во все времена и эпохи Волга признана основной водной транспортной магистралью страны. Тысячи барок и пароходов перевозили по водам Волги разные товары. Первоначально грузы транспортировались на обыкновенных лодках с веслами, под парусами, на срубах, белянах, мокшанах, досчаниках, тихвинках. Большие парусные суда — расшивы, которые неслись по водам Волги вниз по течению со скоростью до 60 верст в день, а вверх эти суда поднимались при помощи бурлаков. В навигацию в России насчитывалось до 600-700 тысяч бурлаков. В XIX столетии работали на Волге и конные машины, так называемые коноводки, которые были очень неудобными и трудоемкими. В 1815-1830 годах по Волге ходили кабестанные машины. Особой красотой и величавостью на Волге славились беляны — сплавные суда, которые были огромных размеров, 120 м в длину, грузоподъемностью до 9000 тонн. Собирались они из несмоленого леса без единого гвоздя, и назывались эти суда одноразовыми. Шли они в основном на Царицын, где разбирались и отправлялись по назначению. В середине XIX столетия на Волге появились первые паровые суда.
Во второй половине XIX столетия как судоходство на Волге, так и судостроение развивалось быстрыми темпами. По берегам Волги образовывались десятки судоверфей, самой старейшей была Сормовская. На судоверфях по заказам пароходных компаний строились сотни товаропассажирских судов, которые принесли славу и гордость российскому судостроению.
Работая с монографиями И. А. Шубина, В. М. Цыбина, а также с материалами периодической печати, мы смогли рассмотреть детально особенности волжского судоходства в ХIХ веке.
Исследование показало, что география волжского судостроения обусловила суда минимальной осадки с небольшим объемом и весом, но с удовлетворительной грузоподъемностью и дешевые, так как часть из них приходилось отдавать на слом.
Развитие собственного судостроения можно рассматривать как часть материального обеспечения транспортной системы Поволжья.
Затянувшееся в историческом времени развитие форм и технологий дало возможность проследить судостроительные приемы и традиции, а также в общих чертах пути их развития.
В целом эволюция традиционного судостроения шла по пути специализации к местным условиям небольшого количества исходных типов судов.
Библиография
Источники
1. Государственный архив Астраханской области. Ф.3.Оп.1.Д.738. Л.27 об – 29 об.
2. Демьянов Г.П. Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г. (от Твери до Астрахани) / Г. П. Демьянов. — Нижний Новгород: Тип. Губерн. Правления, 1898. – 323 с.
3. Полное собрание законов Российской империи. Том 1. Ч.1. Основные государственные законы, изданные в 1892 г. Кн.V. Гл.1.Ст.1. — СПб., 1903. — С. 102.
4. Свод законов. Т. XI Ч.2, изд.1893 г., уст. торг., ст.123, прим. 2 // Правительственный вестник. — 1896. № 77 . – 6 (18) апреля. С. 1.
5. Штылько И. А. Волжско-Каспийское судоходство в старину. – Санкт-Петербург, типо-литография Р. Голике. -1896.
6. Шубин И. А. Волга и волжское судоходство (История развития и современное состояние судоходства и судостроения. – М.: Транспечать, 1927 (Репринт 1990). – М., 1992. – 928с.
Монографии и статьи периодической печати
7. Абаева Г.П. «На Волге широкой» //Нижегородский музей. — 2006. — № 9-10.
8. Беляев В.А. Начало пароходных кампаний. Кустари//Беляев В.А. История Белгородья «Моя малая Родина»: Краткий исторический очерк, посвященный 100-летию со дня рождения В.П.Чкалова. – 2003. – С. 63-64.
9. Берельковский И. От ладьи до теплохода // Ленинская смена. – 1981. – 7 октября. – С. 3.
10. Галочкин Н. От расшив до современных судов // Ленинская смена. – 1971. — № 5 (сент.).
11. История Красного Сормова / науч. ред. В.П. Фадеев. – М.: Мысль, 1969. – 495 с.
12. Колябин В. У истоков пароходного предпринимательства на Волге // Курск. – 1997. – № 29. – С. 23; № 31. – С. 23
13. Корниенко Е.Г. Роль съездов судовладельцев волжского бассейна в развитии судостроения в конце XIX – начале XX века // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2011. — №10. – С. 68.
14. Медведева А.А. Страницы истории волжского судоходства (XIX – начало XX вв.): [Электронный ресурс] Доступ через http://www.gorbibl.nnov.ru
15. Поздмин Б. Волжские долгожители. Старейшие пароходы на Волге// Горьковская правда. – 1979. – 29 авг.
16. Пряников В. Началось с «Волги» // Нижегородская правда. – 2008. – 9 сент. – С. 6.
17. Савельев В. «Самсон», «Геркулес» и другие…// Нижегородская правда. – 1991. – 25 мая. – С. 7.
18. Софронов И. На «главной улице России» // Нижегородские новости. 2003. — 5 сентября. – С. 7.
19. Тарасов Л.К. Историю флота и Волги надо помнить и беречь / Л.К. Тарасов, М.И. Трифонов, А.М. Гайнулин //Нижегородские новости. – 1995. – 22 февраля. – С. 3.
20. Таркова Р.А. Система речного судоходства и обучение кадров для речного и морского флота в крупных городах Нижнего Поволжья конца XIX — начала XX века (на примере г. Астрахани) // Вестник Астраханского государственного технического университета: Научный журнал. – 2006. – № 4 (33). – Июль-август. – Астрахань: Издательство Астраханского государственного технического университета, 2006. – С. 242–252.
21. Трифонов М. «Посудина с печкой» // Нижегородский рабочий. – 1992. – 29 октября. – С. 3.
22. Трифонов М. От расшив до «метеоров» // Горьковский рабочий. – 1978. – 10 ноября. – С. 4.
23. Трифонов М. У истоков пароходства //Нижегородский рабочий. – 1992. – 16 сентября. — № 179. – С. 3.
24. Трифонов М. Эй, дубинушка, ухнем! //Курс. – 1997. — №42. – октябрь. – С.23
25. Цыбин В.М. Пароход на Волге. – Саратов, 1996. – С. 335
26. Цыбин В.М. Пароходное общество «Русь» в Нижнем Новгороде в конце XIX – начале XX в. // Волга. -1991. — № 10. – С. 183-186.
27. Шуин И.П. По Волге реке // Нижегородская правда. – 1993. – 6 окт.
Вместе с Эстафетой Олимпийского Огня и Volkswagen мы добрались до Астрахани.
Испокон веков Волга была основным водным путём для сообщения и торговли различных земель и государств между собой. И чем ниже спуск по Волге, тем большая масса судов находилась на маршруте. Таким образом, Астрахань являлась одним из важнейших транспортных узлов. А если учесть близость расположенного Каспийского моря, то можно представить, какой водный траффик проходил у стен города.
Надо учесть, что Волга мельчает, и это не столько дело рук человека, сколько самой природы. Пройдёт много лет и Волга окончательно исчезнет с лица Земли. Сегодня, чтобы попасть из Астраханского Кремля к Волге, надо пройти значительное расстояние, а в то время, когда Кремль строился, воды Волги лились прямо под его стенами, и различные суда причаливали рядом с крепостью, сгружая свои товары.
Люди ходили по Волге испокон веков, но для этого использовались примитивные, технически несовершенные суда. Лишь с приходом к власти Петра Первого в России начали строить «новоманерные», современные, технически развитые суда, имевшие сложное парусное вооружение и построенные по лучшим мировым стандартам.
Реюшка — маленькое каспийское рыболовецкое судно.
Рыбница-стойка. Её косые паруса словно врезались в ветер, обеспечивая неплохие ходовые свойства.
«Святой Георгий». Имел 66 пушек и экипаж в 430 человек. Базировался в Азове. В 1711 году при передаче Азова туркам, им был отдан и этот корабль.
Бригантина. Часто такие корабли использовались пиратами — от итальянского brigante (разбойник) и произошло название этих двухмачтовых судов. Вооружённые бригантины имели до 20 пушек и одного Джека Воробья.
А это одноразовое волжское судно — беляна. Беляна собиралась из брёвен и шла вниз по Волге. Дойдя то пункта назначения, беляна полностью разбиралась на брёвна, которые и продавались. Купцы возвращались назад на север, где рубили новый лес и снова строили из него беляну, затем опять шли вниз по Волге. Длина белян была до ста метров. Команда составляла до 80 человек, причём большинство из них были заняты откачиванием воды, которая просачивалась в корпус изо всех щелей одноразового судна. Экипаж жил на корме не просто так — весом своих тел они должны были уравновешивать судно, нос которого был значительно тяжелее кормы, в том числе и из-за находящегося там якоря.
Живорыбное судно. Как видно из названия, оно использовалось для доставки живой рыбы.
Сухогрузный плашкоут. Чаще всего несамоходное грузовое судно.
Прорезь. Несамоходное судно для перевозки живой рыбы. Благодаря щелям в борту, в отсек с рыбой поступает забортная вода, которая при движении сменяется, превращая лодку, по сути, в движущийся садок.
Грузовое двухмачтовое судно.
Построенный в Астрахани в 1828 году первый пароход — «Кура». Паровая установка давала мощность в 40 л.с.
Сейнер «Кавасаки».
Пароход «Волга» 1820 года. Использовался для перевозки пассажиров и товаров по Волге до 1850 года.
Теплоход «Почин» 1910 года. Первый российский мелководный теплоход для ихтиологических исследований.
Марсельный шхоут. Построенное по голландскому образцу торговое судно, работавшее на Каспии. Численность команды была до 18 человек. На борт могли брать до 300 тонн груза.
Коноводное судно. Принцип хода этого судна достаточно специфичен: на лодках, шедших впереди судна, отвозили якорь и бросали его на дно. Якорь был соединён с судном канатом длиной, примерно, в 1 километр. Он накручивался на барабан, который на судне вращали лошади. Лошадей было до ста голов, и находились они на нижней палубе. Их труд обеспечивало до 70 рабочих. Благодаря тому, что лодок с якорями было две, обеспечивалась безостановочное движение судна вперёд. Скорость такой конструкции была до 30 километров в сутки, что в два раза больше, чем скорость судна с бурлаками. К тому же лошадям не надо было платить.
Паровой танкер «Калмык». Грузоподъёмность до 800 тонн нефти. Для сравнения, баржи того времени брали на борт 3,5 тыс. тонн. Но преимущества такого танкера были очевидны — он мог за собой так же тянуть и баржу, увеличивая общую массу перевозимого груза.
Сейнер-дрифтер.
Ледокол «Каспий» и построенный в 1901 году в Финляндии ледокол, пожарный спасательный корабль «Астрахань». Принадлежали военным, а потому, имели вооружение.
Насосная станция и рефрижераторное судно «Логер».
Судно «Цыган».
После революции все судоходные компании были национализированы, и все суда были экспроприированы. Суда, носившие «буржуазные» и «царские» названия, были переименованы.
Морской буксир АМБ-2 и сухогруз «Норма».
Морской буксир «Пожарский».
Приёмно-парусная рыбница.
Парусно-моторный сейнер-дрифтер.
Пассажирский теплоход.
Сухогруз «Терек».
Тюленебойное судно.
Всепогодный катер «Спасатель».
Вот такова история судоходства Южного Поволжья и Каспия. Впереди продолжение рассказов об интересных местах, посещённых нами с кортежем Олимпийского Огня на машинах Volkswagen.
Всё самое интересное о движении Олимпийского огня и конкурсы с памятными призами на сайте contest.2014.vw.ru.
Речной вокзал в Калинине. Почтовая открытка, 1961 г.
Не так часто можно найти город в Центральной России, который мог бы похвастаться таким водным богатством, как Тверь. Здесь сливаются воедино сразу три реки – Волга, Тьмака и Тверца. Такое исключительно выгодное положение не могли не оценить наши предки, которые много веков назад основали здесь свое поселение. Кто-то из исследователей называет колыбелью Твери стрелку рек Волги и Тьмаки, а кто-то – Волги и Тверцы, где находился древний Отроч монастырь, от которого сегодня остался лишь Успенский собор (1722 год). Долгое время реки служили основными транспортными артериями и соответственно вели в Тверь.
Галера императрицы
Во многих городах на Верхней Волге были свои верфи. В 1767 году Екатерина II совершила путешествие по Волге до Казани. Специально для этого были построены галеры – «крытые, разделенные на отделения и меблированные, из которых одна, царская, вмещала полный апартамент с гостиной, где государыня обедала с двенадцатью лицами свиты без всякой тесноты».
Императорская галера, которая называлась «Тверь», была спущена со стапелей Тверской верфи 3 апреля 1767 года и входила в состав флотилии из 10 судов. Основной материал, из которого она была сделана, – сосна, набор из дуба, декор из липы и березы. Императорская галера имела следующие размеры: длина – 39 м, ширина – 7,65 м, высота – 7 м. Кормовая надстройка судна была щедро украшена деревянной резьбой. Резная фигура украшала и нос галеры.
Здесь же размещались восемь уютных кают. Галера строилась по чертежу, выполненному Михаилом Щепининым и утвержденному Адмиралтейств-коллегией. Причем судно могло развивать скорость от 10 до 14 км в час. О комфортабельности галеры красноречиво говорят слова датского посланника, отмечавшего, что там «нет недостатка ни в одном из тех удобств, которые можно было иметь только в столице».
 |
| Волга в районе современного Рыбинска. Фото Владимира Захарина |
После завершения плавания суда передали Казанскому адмиралтейству, а флагманскую галеру «Тверь» государыня повелела «хранить вечно, не переменяя того вида, какой она имела во время Высочайшего путешествия». Наказ императрицы строго выполнялся в течение почти двух веков в Адмиралтейской слободе Казани: галере «Тверь», ставшей музеем и помещенной в специальный деревянный павильон, удалось пережить и восстание Пугачева, и лихолетье Гражданской войны.
Сама галера просуществовала до нашего времени и сгорела из-за ребячьей шалости в 1956 году в Казани, где она размещалась на территории бывших Журавлевских казарм. Кстати, в память об этом в Казани установлен памятный знак. Изображение галеры «Тверь» вошло в герб другого поволжского города – Костромы.
Вышневолоцкая система
Интересны заметки русского офицера, поэта, публициста Федора Николаевича Глинки, совершившего в 1811 году путешествие по Волге от Ржева до с. Иванищи. «Город Зубцов, – пишет Глинка, – мал, но довольно хорошо выстроен. По летописям видно, что он существовал еще в 1216 году. Здесь впадает в Волгу судоходная Вазуза… В Зубцове есть верфь. Барки строятся из заготовленных кокор (деревьев, имеющих природную кривизну, нужную для основы судов). В особенном канале весенние воды поднимают груз и его сплавливают на Волгу».
А в начале XVIII века была создана первая в России искусственная водная система – Вышневолоцкая, которая соединила Тверь через Тверцу, Цну, Мсту, Волхов и Неву с новой столицей Российской империи – Санкт-Петербургом. Более полутора веков Тверь была крупным перевалочным пунктом по перевозке самых различных грузов по воде. Специально для этого было сконструировано судно-барка, которую можно сегодня видеть на городском гербе Вышнего Волочка, пожалованного городу в 1772 году Екатериной II.
В 1856 году в Твери побывал А.Н. Островский и оставил об этом свои воспоминания. В частности, он отмечал: «Несколько свободных дней до прихода весеннего каравана, которые я провел в Твери и по отплытии его, дали мне возможность ознакомиться с жизнью города, так красиво построенного и так счастливо поставленного на перекрестке путей железнодорожного и водного. Все местные условия, как кажется с первого взгляда, должны бы способствовать промышленному процветанию Твери: железная дорога соединяет ее с Петербургом и Москвой; верхние и нижние волжские караваны пристают под самым городом; Тверца, как начало Вышневолоцкой системы, представляет другой путь соединения с Петербургом – путь дешевый для тяжелых грузов».
Последнее судно в Санкт-Петербург по Вышневолоцкой системе прошло в 1889 году.
В середине XIX века в Твери происходит становление пассажирского речного судоходства. А вернее – озерного, так как первый в губернии пароход «Осташ», построенный на средства осташковских купцов промышленниками Савиными, в 1847 году прошел по озеру Селигер.
 |
| Городецкий шлюз в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина |
В это же время, в 1843 году, на Верхней Волге, в пяти километрах ниже озера Волго, одного из четырех верхневолжских озер, строится первое гидротехническое сооружение, которое именовалось на старинный лад «бейшлотом». Во время весеннего паводка в водохранилище накапливалось около 360 млн куб. м воды, которую использовали для уровня, необходимого для судоходства на участке от Селижарово до Твери.
Старый бейшлот – земляная плотина на каменном фундаменте с деревянным водосбросом – был разрушен во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Но уже в 1943-м отстроен заново в бетоне.
В 1854 году в связи с ростом пассажирского сообщения по Волге было создано пароходное общество «Самолет», которое специально для этого закупило три колесных теплохода – «Тверь», «Рыбинск», «Ярославль». Дело оказалось прибыльным, и вскоре было организовано сообщение от Твери до Ярославля, а к 1864 году теплоходы «Самолета» плавали уже до Астрахани.
Пассажирское сообщение
Но наименее известны факты о пассажирском сообщении выше Твери. Вот что мы находим в «Справочнике-путеводителе: Поволжье. 1929 г.»: «От Ржева до Твери правильное пассажирское судоходство поддерживает Сев.-Зап. Госпароходство. Во время мелководья, с закрытием бейшлота, обыкновенно в течение августа, движение пароходов временно прекращается до прибыли воды… Первая пристань за Ржевом – Зубцов… Берега Волги от Ржева до Зубцова, и особенно за Зубцовым до Старицы, красивы. Ржев, Зубцов, Старица, красиво расположенные по берегам Волги, дают с палубы парохода удивительную иллюзию старины. За Зубцовым пароход после остановок в Саблине, Дягунине и Родни пристает к Старице в 89 км от Ржева и 91 км от Твери… Из пристаней обращает внимание Иваниши, от которой пассажирские пароходы отправляются до Твери ежедневно».
В книге «Озеро Селигер» (Н. Федорова, Г. Керчикер, Е. Богдановская. Калининское издательство, 1954 г.) в главе «От истока Волги до Калинина» авторы пишут: «От Ржева вниз по Волге уже ходят небольшие пассажирские пароходы».
Повсеместно по Волге, в том числе и в Твери, были построены пристани, а вот свой речной вокзал появился в Твери только в 1938 году (архитекторы Е.И. Гаврилова и П.П. Райский, конструктор И.М. Петраков, инженер И.М. Тигранов). Здание вокзала – одно из наиболее выразительных сооружений советского конструктивизма.
Но история речного вокзала в Твери началась значительно раньше, в 1932 году, и связана она со строительством канала Москва–Волга (Канал им. Москвы) и с созданием Иваньковского водохранилища. Тогда стало ясно, что после того, как водохранилище наполнится, уровень воды в Волге поднимется намного выше, что сделает Тверь полноценным портом. Именно в это время, осенью 1932 года, было начато строительство канала Москва–Волга, а в январе 1934 года – водохранилища.
Одновременно у села Иваньково сооружался мощный гидроузел. Железобетонная и земляная плотина, перегородившая Волгу, была построена в 1936 году. А 23 марта 1937 года в первый раз опускаются щиты Иваньковской плотины; 27 марта волжская вода пошла по каналу. 17 апреля 1937 года все русло канала длиною в 128 км уже заполнено водой. Именно с этого времени уровень воды в Волге поднялся, и в Калинин (так с 1931 года стала называться Тверь) смогли приходить многопалубные пароходы и теплоходы.
Иногда можно прочитать, что речной вокзал в Калинине стал первым на Волге, построенным в советское время, но это не совсем так. Практически одновременно, весной 1933 года, в Москве началось строительство Северного речного вокзала. Оно также было связано со строительством канала имени Москвы, соединившего Волгу и Москву-реку.
Все работы были завершены менее чем за пять лет – в 1937 году. Проект разработали архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. В оформлении здания, построенного в стиле советского конструктивизма, принимали участие скульптор Иван Ефимов, художница Наталья Данько и другие мастера живописи и скульптуры. На верхней галерее располагался ресторан, а внутри здания продавались билеты на прогулочные катера и дальние пассажирские и круизные маршруты.
И внешне, и конструктивно оба речных вокзала имеют много схожего. Как и для Москвы, для Твери здание Речного вокзала было одним из наиболее выразительных сооружений, которое появилось в городе до начала войны.
Тверской вокзал рассчитан на одновременное обслуживание 550 пассажиров. И много лет он жил своей полноценной жизнью, а теплоходы от его причалов отправлялись вниз и вверх по Волге. Объяснялось это и тем, что в то время только по воде можно было добраться до многих населенных пунктов.
Как было сказано выше, Волга была судоходна до Ржева, куда суда на подводных крыльях приходили еще в 1982 году. Что же касается регулярного пассажирского сообщения, то оно прекратилось, по словам очевидцев, в 1976–1977 годах в связи с обмелением реки, особенно в районе Старицы. Специалисты связывают это со строительством Вазузского водохранилища в Зубцове, которое было закончено в 1977 году.
В советское время пассажирское судоходство вниз по Волге осуществлялось от Твери до Углича (Ярославская область). Уже давно пассажирское судоходство прекращено. Основная причина – отмена дотирования проезда, без чего речное пассажирское судоходство оказалось убыточным. В настоящее время в Тверь заходят круизные теплоходы, а по Волге в черте города курсируют прогулочные кораблики.
Комментарии для элемента не найдены.
1. Как и почему изменились природные особенности и хозяйственное использование Волги после создания Волжского каскада?
После создания Волжского каскада ГЭС, которые значительно повысили уровень и зарегулировали режим реки, удалось покончить с наводнениями и разливами и сделать реку судоходной почти на всем ее протяжении. Волга стала играть роль важной транспортной артерии. Кроме того, водохранилища позволяют орошать засушливые земли и перейти к получению устойчивых урожаев.
2. Приведите доводы, подтверждающие роль Волги в хозяйственной жизни населения.
Исключительную важность Волги в хозяйственной жизни страны подтверждают следующие факты: Волга сейчас является осью Единой глубоководной системы европейской России. Более половины пасса- жиро- и грузоперевозок, осуществляемых речным транспортом страны, приходится на реки Волго-Камского бассейна. По Волге перевозят строительные материалы (60% грузов), лес, нефть, уголь, зерно, овощи.
Каскад 11 Волжских ГЭС вырабатывает около 35% электроэнергии России. На Волге расположено 4 города-миллионера.
3. Какую роль сыграла Волга в истории России?
Во все времена Волга являлась важной транспортной магистралью, правда, размеры судоходства в древние времена были иными. На Волге возникли древние русские города: Ярославль, Кострома и Тверь.
В годы вражеских нашествий Волга была важным оборонительным рубежом. В XVI в. на Волге возникли укрепленные пункты — Самара (1586), Волгоград (1589), Саратов (1590). В 1942-1943 гг. у Сталинграда были остановлены полчища фашистских оккупантов.
4.Аналогом Волги в США считают Миссисипи с ее притоками. Сравните эти две реки. В чем их сходство и различие?
Проанализируйте данные таблицы 20. Сделайте самостоятельно вывод о сходствах и различиях Волги и Миссисипи.
5. Предложите свой особенный туристический маршрут по Волге, определив цель поездки.
|
Таблица 20 |
||
| Параметры
сравнения |
Волга |
Миссисипи |
| Длина | 3530 км | 3950 км, от истока Миссури 6420 км |
| Площадь
бассейна |
1 360 тыс. км2 | 3268 тыс. км2 |
| Падение | Около 250 м | Около 250 м |
| Расход воды (в устье) | 7710 м3/с | 1 9 тыс. м3/с |
| Крупные
притоки |
Около 200 притоков, наиболее крупные — Кама и Ока | Миссури, Арканзас, Ред-Ривер, Иллинойс, Огайо |
| Крупные
города |
Тверь, Ярославль, Н. Новгород, Казань, Ульяновск, Тольятти, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань | Миннеаполис, Сент-Луис, Мемфис, Новый Орлеан |
|
Окончание таблицы |
||
| Параметры
сравнения |
Волга |
Миссисипи |
| Природные
зоны |
Тайга — смешанные леса — широколиственные леса — лесостепи — степи — полупустыни | Смешанные леса — широколиственные леса — переменно-влажные леса |
| Условия
судоходства |
Регулярное судоходство от Ржева (3256 км) | Судоходны 3 тыс. км (от г. Миннеаполис) |
| Гидроэлектростанции |
11 ГЭС общей мощностью 13,5 млн кВт |
ГЭС нет |
| Связь с другими реками | Волга соединяется с Балтийским морем Волго-Балтийским водным путем, с Белым морем Северо-Двинской водной системой и Беломорско-Балтийским каналом, с Азовским и Черным морями — Волго-Донским судоходным каналом, с Москвой — каналом им. Москвы | Соединена каналами с Великими озерами |
Следуя вниз по течению Волги, туристы могут ознакомиться со многими замечательными городами и памятниками природы. Начинается Волга из ключа на болоте у д. Волго-Верховье, здесь устроен своеобразный музей — исток Волги. Верхневолжский бейшлот (плотина) — первое гидротехническое сооружение на Волге — регулирует сток Верхней Волги. Весной плотина накапливает около 400 млн м3
воды, которая летом сбрасывается для подъема уровня реки. Ниже бейшлота Волга принимает слева полноводную Селижаровку, которая вытекает из оз. Селигер, удваивая количество воды в Волге. На берегах живописнейшего озера Селигер расположен г. Осташков — районный центр Тверской области, известный с XV в. В городе есть краеведческий музей, турбаза. На Волге стоит и г. Тверь — один из древнейших городов (1135), который славится своими архитектурными памятниками: церковь Белая Троица (1564), путевой дворец Екатерины II, ансамбль зданий XVIII в.
Есть на Верхней Волге город с милым названием — Мышкин. По легенде один князь после удачной охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. И проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежав по лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползавшую змею. Мышка спасла ему жизнь! Тогда он собрал дружину и велел построить на этом месте храм во имя св. Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город и стал называться Мышкин.
Ряд волжских городов входит в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо». Основанный в 1148 г. Углич выдержал многочисленные осады монголо-татарских, шведских, польских войск. Он разрушался и возрождался много раз и стал местом религиозного паломничества благодаря основанию церкви Св. Дмитрия на крови, построенной в честь, может быть, самого знаменитого и трагического события в истории Углича — смерти единственного наследника Ивана Грозного, Дмитрия.
Существующая уже более восьми веков Кострома удивительным образом соединяет в себе древние традиции и современный образ жизни. Кострому часто называют типичным российским провинциальным городом. В знаменитом Ипатьевском монастыре принял трон первый царь из династии Романовых. Один из самых древних и известных российских провинциальных городов, Ярославль встретит вас своими живописными парками, площадями, набережными. Древний торговый центр, Ярославль растет, и сегодня он насчитывает 600 тыс. жителей. Среди наиболее популярных туристических объектов Ярославля Спасо-Преображенский монастырь и церковь Св. Ильи Пророка с уникальными фресками. В г. Плесе, основанном сыном Дмитрия Донского великим князем Василием Дмитриевичем, находится Дом-музей знаменитого пейзажиста И. И. Левитана и картинная галерея.
Есть на Волге и ряд городов-миллионеров: Нижний Новгород, столица республики Татарстан — Казань. Памятники архитектуры: Казанский кремль (стены и башни XVI в.), Благовещенский собор (XVI в.), дозорная башня Сююмбеки, Петропавловский собор (XVIII в.), Старо-татарская слобода с мечетью Марджани (XVIII в.).
Сравнительно молодыми кажутся на этом фоне Самара (1586), Саратов (1590) и Волгоград (1555). Основной архитектурный облик Самары определяют здания постройки 30-60-х гг. XX в.; музеи — краеведческий, художественный, литературно-мемориальный им. М. Горького. В Саратове примечательны памятники архитектуры: Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (начало XX в.), краеведческий музей (1886), Художественный музей им. А. Н. Радищева (XIX в.), Троицкий собор (конец XVII в.). Волгоград знаменит ансамблем, посвященным героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.
Первые письменные упоминания об Астрахани относятся к XIII в. С 1557 г. Астрахань входит в состав Русского государства. Памятники архитектуры: Кремль (XVI-XVII вв.) с Успенским собором, подворье восточных купцов, римско-католический костел (XVIII в.). В Астраханском заповеднике, одном из самых старых в России, сохранились уникальные заросли лотоса.
19. Волга
Оцените пожалуйста этот пост
На этой странице искали :
- Какую роль сыграла волга в истории россии
- Приведите доводы подтверждающие роль волги в хозяйственной жизни населения
- сочинение про волгу
- как и почему изменились природные особенности и хозяйственное использование
- сравнение волги и миссисипи
Титульный лист
ВВЕДЕНИЕ
Для Российской истории XVII век стал эпохой, когда наше великое государство переживало
возрождение, наступившее после мрачных и кровавых времен Смуты. Изможденное и
измученное бесконечными войнами, заговорами и интригами государство стало на
глазах переживать второе рождение. Начиная с первого монарха династии Романовых
Михаила Федоровича (1596 — 1645) до великого преобразователя Петра Алексеевича
(1672-1725), это столетие проходило под эгидой развития и процветания. А самым
главным мерилом, самым главным барометром, предсказывающим и говорящим об
экономическом становлении и развитии государства, безусловно, является
торговля. На XVII век пришлось ее становление и расцвет.
Торговали все: и купцы на знаменитых
Нижегородской и Московской ярмарках, и ремесленники, и простые крестьяне, и
даже сам царь. Так, Алексей Михайлович (1629-1676), несмотря на свою большую
набожность, всегда проявлял самый живой интерес к делам торговым, причем не
только, как и полагается персоне монаршего статуса, в масштабах всего
государства, но и содержал палатку на московском рынке.
А как известно торговля без торговых путей –
это словно организм без кровеносных сосудов. Вот и была окутана, вся постоянно
увеличивающаяся территории России, разветвленной сетью сухопутных, морских, а
самое главное речных путей доставки товара. Причем последний путь, речной, имея
глубокие исторические корни и традиции являлся наиболее популярным в
рассматриваемое нами время. Этому способствовало много факторов. И
относительная дешевизна, по сравнению с сухопутными или морскими логистическими
подсчетами тогдашних предпринимателей, и относительная безопасность веками
проверенных маршрутов, и возможность выбора типа и габаритов судна и ,даже,
капитана речного транспорта.
Все эти перечисленные факторы свидетельствуют
об актуальности данной работы, а история развития речного судоходства в России
в XVII веке является целью настоящего исследования.
1 Речные торговые пути в России в XVII веке
Естественно, что водные торговые пути имели
наибольшее тяготение к Москве, как к столице Российского государства и
ключевому торговому центру. Особенно пристальному вниманию владельцев речных
судов уделялось местам западнее, восточнее и севернее от столицы в связи с
обилием крупных и мелких рек и различного размера озер. Из всего этого речного
и озерного многообразия сложилась целая транспортная система.
Судоходными на западе от Москвы были реки
Западная Двина, Ловать, Мета, Волхов. Они были интересны для судоходства не
только тем, что были связаны между собой целой цепью притоков, озер, волоков[1], но и с
Волгой и Тверцой. Господствующее положение севернее Москвы ввиду своей
исключительной полноводности, не требующей трудоемкой перевалки, занимали
Северная Двина, Сухона и Печора. Следуя этим направлением можно было добраться
водным путем даже до Урала.[2]
Пальма первенства, безусловно, принадлежала
Волге и Каме, протекавшими, восточнее столицы. Притоки этих величественных рек
естественным образом сообщались как с реками северо-восточной, центральной
частей России, так и Западной Сибири.
Таким образом, в XVII веке наблюдается
стройная логистическая речная система, связанных между собой водных путей и
связывающих большие территории российского государства.
Двинско-Беломорское направление поставок
товара становится едва ли не основополагающим в торговых отношениях с Западом.
Расцветают Ярославль и Вологда, пропуская через себя товаропотоки из Москвы и
Волги через Архангельск в страны Европы. Новгород и Псков, традиционные
транзитеры шведских, лифляндских и польских товаров, служили надежными каналами
дипломатических связей с европейцами.
Вне всяческих сомнений, магистральным каналом
торговых отношений
стран Востока и
Средней Азии, а через них – с Индией — с Нижним Новгородом и Астраханью,
являлась Волга. Из Астрахани по морю можно было добраться до Мангышлакских
пристаней, а затем в Ургенч и Бухару. Кроме того, Волга представляла огромный
интерес и для европейских купцов, как самый короткий, удобный и безопасный
путь. К концу века акватория Волги была настолько изучена и освоена русскими
моряками, что позволяла бесперебойно осуществлять по ней движение во время навигации.
Речное судоходство шло в ногу с изменяющимися
тенденциями в торговле. Так, когда Вятка с середины 50-х годов XVII века
становится центром хлебной торговли России вместо Вологды, хлебные караваны
стали ходить по Оке, Волге, Каме, Вятке из центра и юга страны на Лузу или на
Сухоно-Двинскую водную линию. В это же время изменился и печорский маршрут. С
помощью Москвы, Оки, Волги, Камы, Чусовой, Серебрянки стали добираться через
Баранчи, притока Тагила, и Тобола прямо в Сибирь.[3]
Однако, и этот удобный путь был забыт в 80-е
годы, в связи с найденным более коротким путем на Лену через Енисейск.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подводя итоги данного
исследования, следует подчеркнуть огромное значение, которое играло речное
судоходство в деле развития торговых отношений России как с западными, так и с
восточными партнерами в XVII веке.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Речное судоходство
в России / М. Н. Чеботарев, М. Д. Амусин, Б. В. Богданов и др.; / Под ред. М.
Н. Чеботарева. — М.: Транспорт, 1985. — 352 с.
2. Сичкарев, Виктор
Иванович. История судоходства в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке : [в 3 ч.]
/ В. И. Сичкарев ; под науч. ред. В. В. Дегтярева ; М-во трансп. Рос. Федерации,
Новосиб. гос. акад. вод. трансп. — Новосибирск : НГАВТ, 2004- (Отд. оформления
НГАВТ). — 20 см. Ч. 2: История речного судоходства. — Новосибирск : Отд.
оформления НГАВТ.2005. — 250 с.