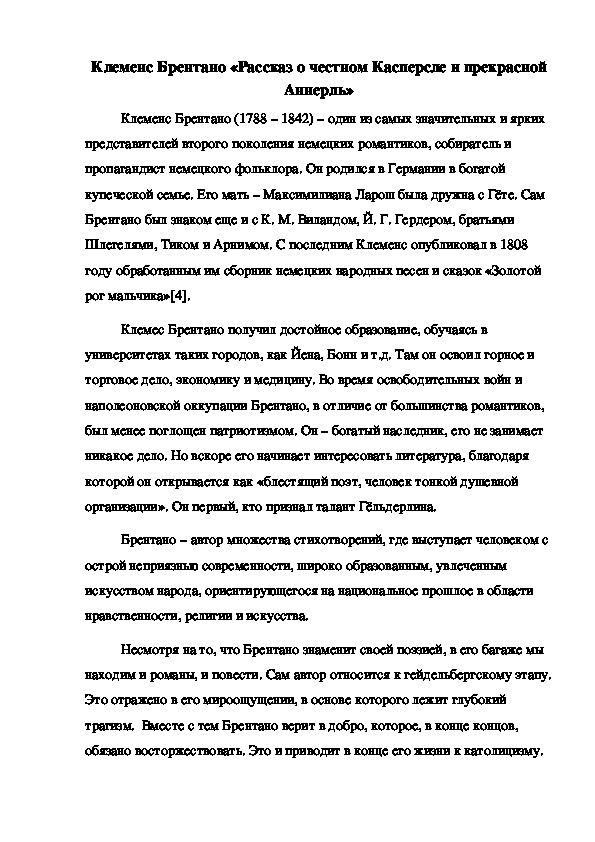Этот пересказ слишком подробный. Максимальный объём для подробного пересказа — 10 тыс. знаков. При подсчёте знаков пробелы учитываются, а заголовки, блочные цитаты и карточки персонажей — нет.
Герой-рассказчик, прогуливаясь по улицам ночного города, натыкается на толпу, кого-то окружившую. Предметом внимания оказывается 88-летняя женщина, прошедшая за день шесть миль из своей деревни и собирающаяся заночевать прямо на улице, чтобы с утра продолжить свой путь и подать прошение герцогу. Стойкость женщины, оставшейся ночевать на улице, поражает главного героя, он даёт ей талер, просит помолиться за него и решает остаться рядом с ней и расспросить её о причинах путешествия.
Старуха размышляет о скоротечности времени: оказывается, ровно 70 лет назад она была служанкой в том доме, на пороге которого ночует сегодня и затягивает старинную песню:
Когда настанет страшный суд, Все звезды наземь упадут. Вы, покойники, покойники, восстанете от сна. Перед страшным судом вы предстанете сполна. Взойдете вы вверх к высоким чертогам, Туда, где сидят ангелочки пред богом. Проходил там господь Иисус Христос, Большую радугу пронес. Проходили там евреи-злодеи, Что в дни оны распяли Христа в Иудее. Деревья засветились все, Камни искрошились все. Кто эту молитву читать горазд, Пусть читает на дню единый раз. Его душа будет навек чиста, Когда все мы придем пред Иисуса Христа! Аминь.
Проходящий мимо патрульный — граф Гросингер, оказывается знакомым рассказчика. Граф узнаёт эту песню, передаёт для старухи талер и розу, а также просит рассказчика записать её и принести её к нему на следующий день — он будет нести караул у покоев герцога.
Подарок радует старуху — ровно 70 лет назад розу подарил ей прохожий гренадёр — который вскорости стал её мужем. Разговорившись, она сообщает, что у неё погибли уже 4 сыновей и дочь, третьего дня скончался внук, а скоро — на рассвете, простится с жизнью ещё одна близкая ей душа.
Старуха рассказывает историю о своем внуке — самом честном и прилежном человеке из всех, кого она знала. «Из всех ребят он был самый чистенький и прилежный в школе, и удивительно, как он стоял за честь» Касперль был военным и служил в уланах. Вернувшись из своего первого похода, он крупно поссорился со своим отцом и братом по поводу чести: они « часто спорили с ним о чести, так как чего у него было слишком много, в том у них был недостаток». Брат с отцом служили в ополчении, и брат говорит, что Касперль не может судить о чести, так как его отец был унтер-офицером, а Касперль — простой солдат. В ответ на это Касперль рассказывает историю о французском унтер офицере: после того как во Франции ввели указ о введении телесных наказаний, унтер офицеру пришлось наказать солдата палками за провинность; он выполнил это, но после исполнения наказания взял у солдата ружье и застрелился. Об инциденте было тут доложено королю и телесные наказания отменили. Родных не впечатляет рассказ и унтер офицера они называют дураком. Об этом Касперль рассказывает бабушке со слезами на глазах. Не зная, как утешить его, она советует воздавать честь лишь одному Богу.
Пока рассказчик погружается в размышления о том, может смерть этого унтер-офицера казаться крестьянину прекрасной, сторож возвещает наступление часа ночи. Старуха уговаривает рассказчика идти спать, чтобы на следующий день он не получил нагоняй от своего мастера и интересуется, каково его ремесло?
Рассказчик не знает, как объяснить ей, что он писатель и, в итоге, говорит, что он писец. Обрадованная старушка просит его написать прошение к герцогу. Рассказчик соглашается и спрашивает, в чем должна состоять его суть. Старушка досадует — что это за писец, если не знает о чём писать и рассказывает о цели своего визита.
Её внук был влюблён в её крестницу — пригожую Аннерль, собирался на ней жениться и тоже постоянно рассказывал ей о чести. Особенно много говорил он о ней, когда опять уходил на войну. Во Франции он получил серьёзное ранение, однако не умер и, более того, получил повышение в звание — до унтер офицера. В день, когда умирала его мать, ему сильно захотелось домой, рассказав о своём желании ротмистру, он без проблем получил отпуск на три месяца.
Боясь загнать лошадь быстрой ездой, Касперль снизил скорость своего путешествия, и не успел добраться до своей деревни засветло, остановившись ночевать у знакомого мельника. Проснувшись ночью от звуков выстрелов, Касперль быстро собрался и отбил нападение двух разбойников, вломившихся в его комнату. Выяснить их личность он не смог, так как лица их были вымазаны сажей, а при попытке догнать их, бандиты заперли его изнутри. Выломав наконец дверь, Касперль обнаружил пропажу своей полковой лошади а также походного ранца со всеми бумагами и двумя золотыми венками, купленными во Франции — один он собирался положить на могилу матери, другой же должна было сохранить до свадьбы Аннерль . Касперль был в ужасе — вместе с этими вещами он потерял свою честь. Мельник успокоил его и хотел дать денег — Касперль спугнул бандитов и они не успели ограбить мельника, тем самым, сохранив ему всё его состояние, однако Касперль согласился лишь взять денег взаймы, обещая вернуть через два года. Придя в свою деревню, Касперль первым делом поспешил к судье, рассказать о произошедшем. Пока судья поднимал на ноги крестьян для прочёсывания леса, Касперль пошел к отцу — у него одного в деревне были лошади. По дороге к нему он зашел к своей бабушке, и рассказал ей о своём горе.
Придя к отцу он увидел при свете луны, как двое мужчин отмываются от сажи, в них он узнал своего отца и сводного брат. Касперль отказывался верить своим глазам, но тут они начали обсуждать, что ранец спрятан в навоз, и что надо подстричь лошади хвост и гриву. Дождавшись, пока они войдут в конюшню, Касперль запер их и именем герцога приказал сдаваться. Поняв, кого они обокрали, родственники стали умолять Касперля отпустить его, однако он был непреклонен и, когда они попытались вырваться, выстрелил в воздух. Сбежавшимся крестьянам он рассказал, что нашел грабителей. Имущество своё он вернул, но честь его была уничтожена — он оказался сыном вора. «Лучше бы мне никогда не рождаться» — сказал он судье.
Пока крестьяне связывали преступников, а старуха плела на лугу венки из незабудок, чтобы вместе с Касперлем украсить могилу матери, он вытащил из своего ранца два венка, пришел на кладбище и, прикрепив к кресту матери один венок, выстрелил себе прямо в сердце через другой, упав на её могилу замертво. Прибежавшая на кладбище бабушка, вне себе от горя, начала укорять его: «Боже мой, что скажут твой бедный отец, твой брат, когда найдут тебя в этом виде!». Увидев же его связанных брата с отцом, она поняла истинную причину его самоубийства.
Пораженный твёрдостью старухи, рассказчик спрашивает, как она расскажет бедной Аннерль о смерти её суженого, и в чём цель её прошения. Тем временем часы бьют два, старушка совершает утреннюю молитву и предлагает рассказчику проводить её, обещав рассказать всё по дороге.
В бумажнике Касперля, кроме рассказов о чести (в том числе и о застрелившемся унтер офицере), была найдена предсмертная записка, которую старушка даёт герою прочитать. В записке Касперль сообщает причину своего поступка, а также извиняется перед Аннерль, завещая ей свои деньги, венок, а также просит её не выходить замуж за человека, менее честного чем он. Эту новость хочет её рассказать старушка в «день торжества». Запутавшийся рассказчик пытается выяснить, почему старушка говорит то о дне торжества, то о том, что Аннерль осталось жить лишь несколько часов. «Каспер вовремя умер, если бы он все знал, то помешался бы с горя», сказала старушка и рассказала ещё более печальную историю.
Мать Аннерль была вдовой бедного крестьянина, и в юности любила одного охотника Юрге, однако не вышла за него из-за его беспутной жизни. Он же опустился до такой степени, что в конце концов оказался в тюрьме за убийство. Узнав об этом мать Аннерль была уже при смерти и в последнюю минуту попросила Анну-Маргариту (так, оказывается, звали старуху)посетить его в тюрьме и попросить от неё обратиться к Богу перед смертью. По дороге Анна-Маргарита вместе с Аннерль зашли к местному палачу за лекарствами, пока взрослые собирали на чердаке травы, Аннерль услышала странный шум из шкафа. В шкафу оказался меч палача. Палач говорит, что меч просит крови Аннерль и просит поцарапать её шею, угрожая, что в противном случае её в жизни ждут большие несчастья. Пришедший уведомить о казни Юрге бургомистр упрекнул палача в суеверии и не дал ему совершить своё дело, несмотря на его пророчество. Узнав о цели визита Анны-Маргариты и Аннерль, бургомистр отводит её к охотнику. Он раскаивается, признаётся, что, если бы мать Аннерль была с ним, он бы никогда не опустился до такой жизни, зовёт к себе священника а также просит Анну¬-Маргариту и Аннерль присутствовать на его казни, на что они, нехотя, соглашаются. Отрубленная голова Юрге летит прямо к Аннерль и цепляется зубами за её платье. Старуха закрывает голову платьем, а подбежавший палач вновь говорит о проклятии.
Пророчество палача сбывается — сегодня Аннерль должны казнить. Знатный человек соблазнил и бросил её, она родила от него ребенка и задушила тем самым фартуком, но не назвала имя соблазнителя из честолюбия. Но старуха пришла просить не о помиловании, а лишь о том, чтобы Касперля разрешили похоронить вместе с Аннерль: по закону, самоубийц, наложивших на себя руки «от отчаяния» не хоронили, а отдавали «в анатомию», то есть на опыты.
Пока старуха вместе со священником идёт к Аннерль, рассказчик стремглав бежит к герцогу с прошением. По дороге он встречает несколько хороших предзнаменований — из окна поют песню о любви, а на мостовой лежит белый шарф. Также по пути к Герцогу герой встречает загадочную фигуру, отвернувшуюся от него, чтобы не быть узнанной. Дежуривший у покоев герцога Гроссингер отказывается впустить к герцогу, однако герой видит, как загадочная фигура поднимается к герцогу, из чего делает вывод, что он не спит. Рассказчик начинает кричать и, прежде чем его схватывают, герцог спрашивает из окна в чем дело.
После краткого пересказа услышанного рассказчик просит хотя бы отсрочить казнь и показывает найденный им белый шарф как предзнаменование. Герцог велит ему и внезапно побледневшему Гроссингеру скакать во весь опор с вестью о помиловании. Гроссингер опережает рассказчика, но все равно приходит слишком поздно — он прибывает к самому взмаху меча и, когда Гроссингер, с развевающимся шарфом подбегает к палачу, подаёт ему окровавленную голову Аннерль. Гроссингер падает на землю и в слезах признаётся, что именно он погубил её. Озверевшая толпа начинает избивать Гроссингера, он не сопротивляется.
Подоспевший герцог узнаёт причину произошедшего. Подойдя к старушке, прикладывающей голову Аннерль к её телу, он сообщает ей об удовлетворении её прошения, обещая похоронить Касперля и Аннерль рядом, а также поставить им памятник.
Вскоре герой узнаёт что Гроссингер отравился, не дожидаясь суда. У себя дома он находит письмо от него. В нем Гроссингер благодарит его за раскрытие позора, что терзал его сердце, признание о том, что песни старухи он слышал от Аннерль а также о том, что овладел Аннерль «при помощи особых медицинских средств, отличающихся какими-то магическими свойствами», что снимает с неё все подозрения о недостатке чести. Также он благодарит рассказчика о сохранение чести его сестры — именно её фигура поднималась к герцогу поздно ночью.
Передник красотки Аннерль, в который вцепилась зубами голова охотника Юрге после ее отсечения, хранится в герцогской кунсткамере. Говорят, герцог возводит сестру графа Гроссингера в княжеское достоинство под фамилией «Voile de Grace», что значит «шарф помилования», и женится на ней. Во время ближайшего смотра в окрестностях Д… будет освящен на деревенском кладбище памятник на могилах обеих несчастных жертв чувства чести. Герцог и княгиня будут сами при этом присутствовать. Он чрезвычайно доволен памятником; говорят, что идея его придумана была княгиней и герцогом сообща. Памятник изображает собою ложную и истинную честь, которые с двух сторон преклоняются до земли пред крестом; правосудие стоит с обнаженным мечом по одну сторону, а милость — по другую, и простирает шарф. В чертах лица правосудия находят сходство с герцогом, а в чертах лица милости — сходство с чертами княгини.
Обновлено: 09.01.2023
1. Эстетическая концепция гейдельбергского романтизма. Основные представители.
1. Освободительная война в Германии против Наполеона внесла свои коррективы в сознание немцев, она породила целый комплекс идей, существенно отличавшихся от взглядов йенских романтиков. Теперь на первый план выдвигаются понятия нации, народности, исторического сознания. Центром романтического движения в первое десятилетие XIX века становится университетский Гейдельберг, в котором образовался кружок поэтов и прозаиков, проявлявших повышенный интерес ко всему немецкому: истории, литературе.
Кружок был современником наполеоновских войн, в это время в Гейдельберге проживали Арним, Брентано, филолог и публицист Геррес, братья Якоб и Вильгельм Гримм.
Гейдельбергский романтизм во многом противоположен йенскому: на очарованность первых романтиков Гейдельберг отвечал разочарованностью. Йенские романтики были устремлены в своих мечтах к прекрасному и универсальному, гейдельбергские ощущали неразрешимые противоречия мира. Трагизм их мировосприятия обусловлен войнами и разрушениями, связанными с наполеоновскими походами. Голубой цветок так и остался мечтой, но отношение к самой мечте стало иным. Условно началом деятельности кружка считается 1804 год.
Гейдельбергские романтики активно и жестко проповедовали немецкую национальную исключительность, они искали, где с наибольшей интенсивностью проявляется жизнь народа, и считали, что в фольклоре, в древнем эпосе, национальном языке. Если йенские романтики были философами, то новые были филологами, знатоками национальных древностей, мифов, поверий, правовых обычаев.
Культу гениальной личности, созданному йенцами, гейдельбержцы противопоставили культ гениальной народности, крайностям индивидуалистического обожествления – крайность самоуничижения и растворения в народном духе. Школа второго периода более ограничена.
Романтическая ирония продолжает существовать, но она соединяется с гротеском, становится более жесткой и останавливается в своем бесконечном движении, когда рождает на одной из ступеней гротескный образ, имеющий более определенное толкование, чем вечно изменяющаяся идея ранних романтиков. Более значительную роль играет символика, но символа, объединяющего все тенденции (как голубой цветок), нет. Если романтики I периода верили в исправление мира красотой и искусством, считали своим учителем Рафаэля, то романтики II периода видели в мире торжество безобразного, обращались к изображению уродливого, в области живописи видели мир в старости и распаде, а своим учителем считали Рембрандта. Обилие образов двойников свидетельствует о настроениях страха перед непостижимой реальностью, о торжестве безобразного.
Для произведений гейдельбергских романтиков характерны следующие особенности: сложность фабул, внимание к видимому миру, к реальности, изменение характера иронии и двоемирия; основная форма раскрытия противоречий действительности – гротеск; внимание уделяется воспроизведению психологии конкретной личности, а не типа людей вообще; исследуются взаимоотношения судьбы и случая, изменяется интерпретация любви и роли женщины в жизни общества, актуальной становится тема греха и покаяния, часто религиозного, усложняется символика; внимание уделяется национальному прошлому; повышается интерес к истории народа и общества; предпринимается попытка поиска причинно-следственных связей в современности.
Арним был приверженцем старого и с неодобрением смотрел на умеренно-либеральные реформы. Ему был чужд индивидуализм йенских романтиков, он мечтал о приобщении личности к интересам феодального государства, которое представлял себе как всеобщее, народное. Генрих Гейне подметил пристрастие Арнима к изображению разрушения, многие герои писателя страдают под властью иррациональных страстей.
В произведении автор использовал несколько народных преданий: 1) проклятье над цыганским племенем, которому запрещено вернуться в Египет, так как оно не оказало гостеприимства богоматери с Иисусом; 2) поверье об альрауне, корнечеловечке, добываемом ночью под виселицей, он указывает местонахождение клада и находит золото; 3) еврейское предание о Големе, глиняном человеке, страшном в своей разрушительной силе, если он освободится из-под власти своего создателя; 4) мрачная немецкая сказка о неприкаянном покойнике, полусгнившем богаче Медвежьей Шкуре, который в наказание за жадность и на том свете охраняет свои сокровища.
Главные герои повести – историческое лицо – будущий император Карл V – и вымышленный персонаж – цыганка Белла. Композиция подчинена цели – объяснить сущность характера Карла и причины его неудачного правления. Большая часть повести посвящена истории первой любви героя, финал конспективно изображает конец его жизни, в которой не было высоких целей и свершений, так как он отрекся от них.
Белла предстает как существо одинокое, ведь именно она должна снять древнее проклятие со своего народа. Согласно предсказанию, Белла должна родить ребенка от великого властителя, это дитя освободит ее народ. Все отношения героини с Карлом ограничиваются зачатием и рождением ребенка.
Важна нравственная идея произведения: человек, предавший свою любовь ради власти и денег, не может быть достойным правителем государства. В свете этой идеи раскрываются два типа восприятия жизни: Карла и Беллы.
Повесть отличается сложным сюжетом, облик главных героев лишен конкретных черт, основные этапы сюжета связаны между собой фантастическими событиями или персонажами. Фантастика используется Арнимом для изображения отрицательных сторон современности: через образ-символ альрауна показывается, насколько люди зависимы от власти золота. Вспомните, где вы встречались с подобной идеей? Корень мандрагоры, из которого произошел человечек, – нечто грязное, преступное. Писатель критикует власть денег, воплощенную в безжалостном уродце альрауне. Страшные образы повести – свидетельство пессимизма автора. Альраун нанимает слугой Медвежью Шкуру, что усиливает идею гибельности. Голем – важный образ, символизирующий гибель индивидуальности, так как это двойник Беллы, его создает альраун, чтобы отвлечь Карла от любви. Позднее образы двойников будет активно использовать в своих произведениях Э.-Т.-А. Гофман.
3. Клеменс Мария Венцеслаус Брентано (1778– 1842) – сын франкфуртского купца итальянского происхождения и немецкой аристократки. Вся жизнь Брентано стала метанием между небом и землей. Он был рожден в день Богородицы, поэтому третье имя писателя Мария.
Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
До 500 000 руб. ежемесячно и 10 документов.
Данная работа является анализом произведения Клеменса Брентано, представителя немецкого романтизма, «Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль». В работе были найдены различные параллели между сюжетными линиями произведения, особенности его и раскрыто понятие чести со стороны каждого из героев. Данный анализ опирается на некоторые научные работы, написанные ранее. Прилагается список литературы.
История Красперля и Аннерль, воспоминания 88 летней крестьянки переносят в стихию жизни народа с его глубокой верой в предзнаменования, с его песнями и молитвами. В произведении воплотилось представление о естественной нравственности простой крестьянки, основанной на родовых связях, нарушение которой грозит человеку гибелью. В сюжете ощущается то же волнообразное движение, которое присуще стихам: удваиваются события — отношения Гроссингера и Аннерль повторяются в отношениях герцога и сестры Гроссингера. Вслед за самоубийством Касперля следует самоубийство Гроссингера. Однако каждый раз в повторение вносится новый мотив: Касперль убивает себя, основываясь на предположении, что он обесчещен преступлением отца и брата, а Гроссингер приговаривает себя к смерти потому, что он реально совершил преступление, отказавшись от Аннерль и толкнув ее на убийство ребенка.
Крестьянка случайно встретившись в рассказчиком сообщает ему о ее внуке Касперле, который выше всего ценил честь.
1.1 Идея: Идея этой новеллы в том, что внешность порой бывает обманчивой, и странный незнакомец говоривший, что он имеет лишь начальное музыкальное образование, и пытался писать музыку, но все неудачно, который недовольно критикует все постановки и звучания, на самом деле Глюк, который всего-то расстроен тем, что его детище не столь совершенно как он его задумывал, и что многие своим непрофессионализмом делают его еще более ничтожным.
2.1 Тема знакомства: Главный герой, сидя в кафе и слушая, по его мнению, безобразную музыку местного оркестра, знакомится с загадочным человеком. Тот соглашается выпить с ним, предварительно узнав, не берлинец ли он и не сочиняет ли музыку. Главный герой отрицательно отвечает на первый вопрос, на второй же замечает, что имеет поверхностное музыкальное образование и сам писал когда-то, но считает все свои попытки неудачными. Новый знакомый, очень интересен и столь же неуловим, он встречается везде, где звучит музыка Глюка, он странен что предает ему еще больше таинственности и притягательности.
Анализ новеллы Дон Жуан
3.1 Проблема рока: Дон Жуан обречен быть мстителем на земле, покуда не сойдет он в Орк и не освободиться
«Пока Эльвира напоминала вероломному о его клятвах, в окне уже полыхали частые молнии и слышались глухие раскаты надвигающейся бури. Но вот — грозный стук. Эльвира и девицы убегают; и под зловещие аккорды подземного царства духов появляется грозный мраморный гигант, перед которым Дон Жуан представляется пигмеем. Пол дрожит под громоподобной поступью великана. Сквозь бурю и гром, сквозь вой демонов Дон Жуан выкрикивает свое страшное «No!» — пробил роковой час. Статуя исчезает; комнату заволокло густым дымом; в нем возникают страшные образины. Среди демонов виден Дон Жуан, извивающийся в адских муках. Взрыв — будто куда-то ударили тысячи молний. Дон Жуан и демоны исчезли, испарились вмиг. Лепорелло лежит без чувств в углу комнаты. Как освежающе действует появление прочих действующих лиц, которые тщетно ищут Дон Жуана, вмешательством подземных сил избавленного от земного мщения! Только сейчас словно вырываешься из заколдованного круга адских сил. Тема возмездия
3.4 Проблема разрушения мечтаний: Герой так был очаровано Анной, так мечтал быть с ней, видеть ее, хотя бы просто иметь возможность слушать ее пение, но она скончалась, ускользнув от него, его мечта канула в лету, оставив горький осадок безысходности. «Умник с табакеркой (громко стуча по ее крышке). Какая досада! Не скоро доведется нам теперь услышать порядочную оперу! Вот что значит потерять всякую меру!
Смуглолицый. Верно, верно! Я без конца твердил ей то же самое! Роль донны Анны всегда ее порядком утомляла. А вчера она и вовсе была как одержимая. Весь антракт, говорят, пролежала без чувств, а сцену второго действия будто бы провела в нервическом припадке.
^ Незначительный. Скажите на милость!
Смуглолицый. Да, да, в нервическом припадке! И ее никак нельзя было увести из театра.
Я. Бога ради, припадок был не опасный? И мы скоро вновь услышим синьору?
В новелле «В церкви иезуитов в Г.» Гофман показывает трагедию души Бертольда — «истинного художника». Он ищет неземную красоту, стремится к идеалу, а видит в жизни лишь грубость и грязь. И поистине слова Бертольда отражают состояние раздвоенности, присущее героям Гофмана: «Тот, кто лелеял небесную мечту, навек обречен мучиться земной мукой». Отсюда так трагична судьба гофмановского героя, да и самого писателя, который до конца жизни ощущал себя относительно свободным от суровых реалий жизни только в мире своих фантазий. Хотя и в этот мир вторгалась «земная мука».
«Повесть о славном Касперле. » (1817, создана, очевидно, в 1815 – 1816 гг.). бесспорным образом фиксирует характер и тип перелома у романтиков гейдельбергской школы. Эти произведения в хронологическом отношении являются памятниками начавшейся эпохи Реставрации и Священного союза. Балладность. возникла как «запись», поскольку обе трагические истории были рассказаны автору и контаминированы им в общий сюжет. «Повесть. » сочинена в прозе, а автор-рассказчик не ограничивает себя ролью слушателя и собирателя, но принимает участие в событияхПерсонажи «Повести. » близки к фольклорным прежде всего способом типизации: они наделены изначальными характеристиками, которые фатально предопределяют их судьбу. Примечательно в новелле присутствие поэтической стихии в ее непосредственности: проходящая рефреном через весь текст песня о Страшном суде, ритмизованные фразы и особенно лейтмотивы. Мотив чести, здесь обозначенный, становится ведущим в новелле. Он тесно связан с биографией Каспера, побывавшего в результате военных походов против Наполеона во Франции и вынесшего оттуда «всякие занимательные истории», где непременно речь идет о чести, которой, по его словам, так преданы французы. Особенно важна история «об одном французском унтер-офицере», который убил себя из ружья, после того как, выполняя приказ, подверг телесному наказанию провинившегося солдата. «Вот это, отец, был человек с чувством чести», – заключает Каспер и защищает понятие чести в спорах с отцом и старшим братом, которые не только насмехаются над его преувеличенной привязанностью к «чести», но и презирают содержание этого понятия. Другое предсказание содержится в сне Каспера, где он сам лишает себя жизни, чтобы лечь в готовую могилу рядом со своими близкими. Этот сон он видит во время ночлега на мельнице, по пути домой, в отпуск. Тут и случилось нападение разбойников, во время которого Каспер потерял коня и все имущество: деньги, патент унтер-офицера, отпускное свидетельство. Это является для него позором, однако подлинное отчаяние он испытывает, когда, предприняв энергичное преследование, неожиданным и роковым для себя образом обнаруживает, что был ограблен своими же родственниками, отцом и братом. Отдав их в руки правосудия, Каспер спешит на могилу матери и стреляет себе в сердце.
самоосуждение и самоубийство Каспера отражают признание общественного мнения как важнейшего поведенческого императива, но они также и выход за пределы всякой нормы. Перед нами акт величайшей индивидуальной свободы. Суждения Каспера о себе проникнуты духом индивидуализма, исходят из сознания собственной обособленности и правомочности. Таким образом, речь идет о ярком и симптоматичном проявлении романтического своеволия. Из двух возможностей – позор или смерть – герой не колеблясь выбирает вторую. История Аннерль, если опустить мрачные предзнаменования, которые сопровождали ее с детства, еще более проста и укладывается в типическую формулу: «Из-за этой самой чести и погибла: ее соблазнил знатный барин и бросил, она задушила своего ребенка. а потом сама на себя заявила», отказавшись при этом назвать имя соблазнителя и отвергнув тем самым возможность помилования.
присуща передача функций рассказчика одному или нескольким персонажам, не отождествляемым с личностью автора-повествователя. В новелле Брентано подобное решение налицо, поскольку основные рассказы вложены в уста старой женщины из народа, перед чьей простодушной мудростью духовно разоружается «поэт».В новелле Брентано рассказчик не просто «создает раму» своей встречей и беседой со старой женщиной. Он является в известной мере участником событий. Обращает на себя внимание его «энтузиазм», горячая заинтересованность в делах, о которых ему рассказывают, готовность всячески способствовать разрешению всех трагических обстоятельствВ этой связи важен вопрос времени. Для рассказчика и графа Гроссингера сжатость времени обусловлена предстоящей казнью Аннерль. Поведение Анны-Маргареты, напротив, как бы отменяет всякое время. Тем самым отменяется и роль новеллистического «поворота»: тот факт, что рассказчик и граф Гроссингер не поспели к месту казни вовремя, имеет значение как утверждение фатализма и предопределенности. Как нарочно, все внешние обстоятельства (маневры, падение графа с лошади и т. п.) сошлись таким образом, чтобы меч опустился до прибытия известия о помиловании. Человеческая активность и здесь терпит многозначительное поражение, так как пытается влиять на предначертанный ход событий. предметные символы повести. Розу и талер передает старой женщине командир дозора граф Гроссингер. Роза живо напоминает Анне-Маргарете сватовство ее покойного мужаРоза и талер становится знаком любви и смерти. За веночком закрепляется, благодаря такой связи, мотив «чести-тщеславия», мотив романтического индивидуализма и своеволия. Венок тоже говорит о смерти, но о смерти как результате самоуправства. Когда автор говорит: «На голову ей надела золоченый веночек, а на грудь положила. розу», – то обнаруживается глубокое различие этих предметных символов, соотнесенных с «головным» и сердечным началами в человеке. Венок и роза оказываются в противопоставлении как знаки истинного и ложного, как символы любви-тщеславия и любви-чувства, своеволия и покорности. Единство же их в том, что оба они – также символы смерти. исключительную активность ряда фонем, в особенности тех, которые по своему звуковому составу сближаются с коренным для повести словом «Ehre» (честь).
Эмпедокл Гельдерлина
Читайте также:
- Рекомендации музыкальному руководителю доу в экспертном заключении
- Катаев железное кольцо краткое содержание
- Виноградова н ф контроль и оценка в начальной школе
- Кукла народов мира своими руками на конкурс в детский сад
- Лев толстой в начале пути краткое содержание
Клеменс Брентано «Рассказ о честном Касперсле и прекрасной
Аннерль»
Клеменс Брентано (1788 – 1842) – один из самых значительных и ярких
представителей второго поколения немецких романтиков, собиратель и
пропагандист немецкого фольклора. Он родился в Германии в богатой
купеческой семье. Его мать – Максимилиана Ларош была дружна с Гёте. Сам
Брентано был знаком еще и с К. М. Виландом, Й. Г. Гердером, братьями
Шлегелями, Тиком и Арнимом. С последним Клеменс опубликовал в 1808
году обработанным им сборник немецких народных песен и сказок «Золотой
рог мальчика»[4].
Клемес Брентано получил достойное образование, обучаясь в
университетах таких городов, как Йена, Бонн и т.д. Там он освоил горное и
торговое дело, экономику и медицину. Во время освободительных войн и
наполеоновской оккупации Брентано, в отличие от большинства романтиков,
был менее поглощен патриотизмом. Он – богатый наследник, его не занимает
никакое дело. Но вскоре его начинает интересовать литература, благодаря
которой он открывается как «блестящий поэт, человек тонкой душевной
организации». Он первый, кто признал талант Гёльдерлина.
Брентано – автор множества стихотворений, где выступает человеком с
острой неприязнью современности, широко образованным, увлеченным
искусством народа, ориентирующегося на национальное прошлое в области
нравственности, религии и искусства.
Несмотря на то, что Брентано знаменит своей поэзией, в его багаже мы
находим и романы, и повести. Сам автор относится к гейдельбергскому этапу.
Это отражено в его мироощущении, в основе которого лежит глубокий
трагизм. Вместе с тем Брентано верит в добро, которое, в конце концов,
обязано восторжествовать. Это и приводит в конце его жизни к католицизму. В его романах и повестях мы наблюдаем, казалось бы, безвыходную ситуацию,
но, благодаря вере, добро торжествует.
Одной из повестей Клеменса Брентано является «Рассказ о честном
Касперле и прекрасной Аннерль» (1817) [5]. В основе сюжете – рассказ 88
летней старушки о ее внуке Касперле и его возлюбленной Аннерль. Это
произведение нас переносит мир жизни народа, с его глубокой верой в
предзнаменования, с его песнями, молитвами. Автор в образе простой
крестьянки воплощает идею естественной нравственности, что и притягивает
к себе повествователя. Основа этой нравственности – родовые связи, при
нарушении которых человеку будет грозить гибель.
В повести выделены сюжетные линии, между которыми можно провести
параллели: отношения Гроссингера и Аннерль находят свое отражение в
отношениях герцога и сестры Гроссингера; Касперль узнает, что его обокрали
родные люди (отец и брат), а Гроссингер узнает в любовнице герцога свою
родную сестру; два самоубийства: сначала Касперля на кладбище, потом
Гроссингера. И все эти линии взаимосвязаны друг с другом, одна порождает
другую: Аннерль хочет искупить свою вину смертью, а герцог остается
безнаказанным; Касперль убивает себя, считая, что он обесчестен поступком
брата и отца, а Гроссингер убивает себя за то, что подвинул Аннерль к ее
преступлению (убийству ребенка). Это порождает понимание многомерности
мира[5].
Одной из важных проблем, которую поднимает автор в своей повести –
ложное понятие идеи. Такое понимание приводит к невозвратному
разрушению. Эта проблема представлена ярче всех в истории Касперла. Так,
образ героя становится «гротескным». Герой понимает слово «честь» очень
односторонне, в его прямом значении. Все, что есть нарушение внешних норм,
он отрицает. Именно поэтому он доносит на своего отца и брата, убивает
себя, т.к. считает, что не имеет право теперь существовать. Он, скорее всего, отказался бы и от Аннерль, которая тоже согрешила: убила своего ребенка.
По мнению автора, привело к такому трагичному завершение именно
отсутствие способности осмыслять свои действия, отсутствие рефлексииp[5].
Понятие чести раскрыто относительно других персонажей повести.
Честь графа Гроссингера никак не мешает ему соблазнить Аннерль и
согласиться на связь сестры с герцогом. Исключительно «огласка» находится
в сфере его переживаний. Для Аннерль честь – стать выше «грубых» и
простых крестьян. И для всех понимание чести ложно. Это и приводит их к
трагическому концу.
Этим заблуждениям автор противопоставляет суждение о чести
старухерассказчице. Для нее честь должна быть предоставлена богу и никому
другому. Ее образ – «религиозная мудрость народа»[3].
В данной повести большую роль играет «случайность» (случайно
Гроссингер узнает свою сестру, Касперль случайно узнает о его реальных
грабителях, сама встреча рассказчика со старушкой тоже случайно и т.д.). Но
понятие случая соответствует с «закономерностью, предопределенностью и
роком»[5].
Рок представлен в повести двумя символами: топором палача и
отрубленной головой казненного, которая «откатилась к Аннерль и вцепилась
зубами ей в юбчонку»[2]. После самоубийства Касперля эти символы снова
вводятся в рассказ и преследует дальнейшие действия героев. Это является
особенностью поэтики Брентано, который «не стремиться все разъяснять»
сразу. Автор не утверждает, что более властно над людьми: рок,
предопределенность или закономерность. Что из этого является причиной гибели Касперля от неправильного понимания понятия чести. Так, она для
него и стала роком. Это касается и смерти Гроссингера[5].
«Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль» захватывает еще
некоторые проблемы современности. Это достигается своеобразной
композицией, где организующими факторами является время и место, четко
показанные автором. Все прекращает бой часов.
Интересна в повести и символика, которая является выразительным
средством раскрытия романтического перелома – от «своеволия» до
«смирению». Данная повесть напоминает балладу своим сюжетом. Герой
встречает человека из народа (старуху) и он должен поведать ему «жуткую»
историю. Сон одного из героев, который обречен на погибель, характерная
черта баллад. В данном произведении сон видит Касперль. В это время его и
грабят родные. С балладой связывают и символы, о которых было сказано
ранее. Это лишний раз доказывается родство К. Брентано с народным
искусством и мироощущениемp[1]. Список литературы
1.
Бент М. И. Немецкая романтическая новелла: генезис, эволюция,
типология. Иркутск. 1987.
2.
3.
Брентано К. «Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль»
Елизарова М. Е. и др. История зарубежной литературы XIX века. М.
Просвещение. 1972.
4.
Сурков А. А. Краткая литературная энциклопедия М.: 19621978.
5. Храповицкая Г. Н., Коровин А. В. История зарубежной литературы:
западноевропейский и американский романтизм / Под ред. Храповицкой Г. Н.
М. Издательский центр «Академия». 2007 432 с.
Брентано
(1773—1842)
Клеменс Брентано родился во Франкфурте на Майне, в семье купца, итальянца по происхождению. Отец предназначал его также к купеческой профессии, но выступление Брентано на этом поприще было неудачно. В 1797 г. Брентано попадает в Невский университет, застает в Иене весь сонм старших романтиков и вступает в близкие отношения со Шлегелями, Тиком, Стеффенсом, Новалисом. Особенное влияние имеет на него Людвиг Тик: Брентано поклоняется «великому миннезингеру Тику». Доротея Шлегель отзывается о Брентано: «Он хочет быть больше Тиком, чем сам Тик» («он думает, что он Тик Тика»).
В поэтической практике Брентано этих лет сильны тенденции, у самых ранних романтиков уже ликвидированные. К концу века иенский круг возглавляется идеями Новалиса. Субъективизм раннего Тика или Фридриха Шлегеля есть уже снятая точка зрения. Идеи Новалиса об «историческом космосе», подчиняющем себе отдельного человека, поддержаны теперь также и Людвигом Тиком, автором Святой Теновефы, драмы-мистерии, где, как в Офтердингене, человек «возвращается домой», то-есть, перед всеобщими мировыми началами отказывается от своей исключительности и частного своего значения.
Брентано в первые годы творчества особенно широко отозвался именно на эти, уже самими их инициаторами отвергаемые, субъективно-идеалистические и импрессионистские мотивы раннего романтизма. В тонах романтической иронии, бесконтрольных повествовательных причуд и художественной анархии выдержан его ранний роман Годви (1801—1802), «одичавший роман», как его назвал сам автор.
О комедии 1801 г. Ponce de Leon писал много лет спустя Генрих Гейне в Романтической школе. «Нет ничего более разорванного, нежели это произведение, как в отношении языка, так и в отношении мысли. Но все эти лоскутья живут и кружатся. «Кажется, что видишь маскарад слов и мыслей. В сладчайшем беспорядке происходит всеобщая сутолока, и только всеобщее безумие вносит некоторое единство… Прыгают горбатые остроты на коротких ножках, как Полишинели; как кокетливые Коломбины, порхают слова любви с печалью в сердце. И все это танцует и скачет, и вертится, и трещит, и поверх всего гремят трубы вакхической радости разрушения».
Позднее Брентано уходит от вольного романтического юмора, и вещи, подобные этим ранним, прорываются у него только время от времени.
Он сближается с Арнимом, они вместе руководят тем новым течением внутри романтизма, которое получило в истории литературы название «гейдельбергского» по имени резиденции содружества: в Гейдельберге 1806-1808 гг. сосредоточилась литературная группа Брентано и Арнима.
Гейдельбергские романтики чувствовали себя находящимися в оппозиции к романтической Иене. Однако они преувеличивали расхождения. Есть прямая преемственность между итоговыми синтетическими положениями иенской поры и гейдельбергскою романтической доктриной. Национализм и историзм, ставка на «народность», почвенные традиции, борьба с индивидуализмом, который разрушает «общее», то-есть смеет сомневаться в основах исторического здания старой переживающей самое себя общественной формации,— все это уже подсказывалось учениями Новалиса, отчасти Шлейермахера и Шеллинга. В эпоху войн с Наполеоном, когда старофеодальная Германия находилась под непосредственной угрозой, гейдельбергский круг разрабатывает объективистские идеи с такой степенью практической конкретности, что даже самое происхождение этих идей и отцовская роль Новалиса становятся в Гейдельберге неясны.
Брентано в 1806 г. вместе с Арнимом выпустил в Гейдельберге сборник немецких народных песен Волшебный рог мальчика (Des Knaben Wunderhorri), и это была его почетная доля в тех филологических, фольклорных, этнографических трудах и изысканиях, какие были предприняты гейдельбергскими романтиками, раскапывавшими «почву», твердый грунт «объективных идеологий», «общенародного предания».
Предполагалось, что изученная, кропотливыми трудами восстановленная национальная традиция должна связывать и предопределять субъективное идеологическое творчество и по содержанию и по форме. Для романтической поздней лирики были поучительны образцово опубликованные Брентано и Арнимом народные песни. Волшебному рогу вторили Эйхендорф, Уланд, Вильгельм Мюллер и даже — по-своему и отдаленно — Генрих Гейне эпохи Книги песен.
Для лирики самого Брентано Волшебный рог имел то же значение.
Не случайно было раннее тяготение Брентано к Людвигу Тику. И после отпада от романтического юмора в манере раннего Тика, в гейдельбергском течении, Брентано воспроизводил роль Тика на втором этапе иенского романтизма, роль Тика — автора Теновефы и Императора Октавиана.
Брентано представлял часть бюргерской интеллигенции, добровольно подчинившейся феодальным идеалам, законченным пропагандистом которых был вождь гейдельбергского романтизма — Аршгм.
Как ведомый, а не ведущий, он плохо понимает политический смысл этого литературного движения, возглавляемого дворянами, переоценивает его средства и преувеличивает частности из-за непонимания целей.
Старое индивидуалистическое воспитание сказывается в том, что объективизм гейдельбергской теории имеет для Брентано прежде всего субъективное значение. «Народность», «общинность», религия — это все, для Брентано, не столько общественные, политические идеи, сколько средства личного спасения. Религия особо завладевает им,— религия, как вопрос автобиографический, вопрос устройства личных душевных дел.
Для Арнима религия никогда не была явлением самодовлеющим — он соблюдал свое лютеранство и советовал соблюдать его и другим.
Для Арнима религия только «момент» исторического здания и политической программы.
Ортодоксальное католичество превратилось у Брентано в автономную силу, непосредственно действующую прежде всего в пределах его собственной биографии. Религиозная мания способствовала полному разорению духовной жизни Брентано, погубила в нем художника, придала трагический оттенок всей его судьбе.
С 1818 по 1824 г. Клеменс Брентано живет в Дюльмене у Мюнстера. Прославленный поэт, автор прекрасных стихотворений, драм, новелл, комедий, веселых импровизаций, он отвергает свое литературное прошлое, все эти годы проводит возле Катерины Эммерих, мистической энтузиастки, чьи созерцанья он изучает и записывает.
Дальнейшую, после Дюльмена, биографию Клеменса Брентано комментатор Генриха Гейне Эрнст Эльстер излагает так:
«После того он проживал во Франкфурте и в разных городах на Рейне, в 1833 г. поселился в Мюнхене. Насколько в это последнее время своей жизни он поглупел, сказать невозможно».
Клеменс Брентано скончался 28 июля 1842 г.
Литературное значение Брентано основано главным образом на его лирике. Как новеллист он был менее продуктивен.
Новеллы Брентано распадаются на два течения, несходные и знаменующие разные стили творчества.
В сказочных новеллах, таких, как Токкель, Хинкель и Гаккелея (напечатана в 1838 г.) или Сказка о шульмейстере Клопфштоке и его пяти сыновьях (напечатана посмертно в 1847), Брентано вновь дает волю романтическому юмору. В веселую фантасмагорию, созданную авторским произволом, вмешиваются детали филистерского быта, обрывки злободневной литературной и политической сатиры.
Рассказ колеблется между абсолютным вымыслом и ближайшей действительностью, и за одну тираду из Гоккеля — об ордене «Золотого пасхального яйца с двумя желтками» — прусское правительство распорядилось о высылке Клеменса Брентано, найдя в этой заумной конструкции повод для вполне реалистических административных взысканий. Исходной точкой у Брентано служит подлинное явление, но конкретная форма явления разрушена сверхмерным обобщением, нежданной и негаданной средой, в которую явление включается.
Отшельник сидел в дупле дуба — «и только его белая борода свешивалась, как водопад, и длинный его нос глядел наружу». «Дуб слопал там козла, и борода свешивается у него изо рта; смотри — он сейчас съест и нас с тобой» (из Шульмейстера).
Метафора бросает на вещи капризный беглый свет, вещь меняется в зависимости от освещения.
У Брентано нередко фабула развертывается согласно этимологиям имен действующих лиц или же согласно фонетическим ассоциациям. Над вещью у Брентано господствует название, над названием господствует его фонетика. В Шульмейстере Брентано создает фонетическую фабулу о колокольном королевстве Глоккотонии, где у каждого дома свой колокол, у каждой двери звонок, у каждого человека колокольчик на шее и у каждого животного бубенчик. Короля зовут Пумпам, королевну Пимперлейн, колокола в королевстве вызванивают «пумпам». Таким образом, все устройство королевства тоже фонетическое, и колокольными интересами определяется фабула сказки: поиски неведомо куда залетевшего языка от главного колокола, поиски, в которых отличились шульмейстер и его сыновья.
Финал лишний раз снимает всякую форму реальности у новеллы: король Пумпам берет большой нож, разрезает королевство на две половины и спрашивает шульмейстера, какую он хочет; тот выбирает и режет дальше свою половину на пять равных частей, в долю каждого сына.
Подобным вещам противостоят строгие католические новеллы Брентано, написанные в дисциплинированном стиле гейдельбергского романтизма и на соответствующие темы.
Такова Хроника странствующего школяра (1818), похвала средневековому простодушию, бедности и любви к богу. Жизнь в нищете и в христианской преданности представлена радостной и сияющей. Разорванный дорожный плащ завешивает окно вместо занавеси; восходит солнце и светит сквозь старые дыры, и все эти дыры — как рты, лоскутья — как языки, изобличающие суетливую кичливость мира сего.
Примеры наивной веры столь утонченны, что Брентано предвосхищает Райнера-Мария-Рильке, новейшего католического поэта, автора Историй о господе боге, и движется по двусмысленной границе, едва отделяющей преданное благочестие от иронии и атеизма Анатоля Франса. Школяр у него жертвует мадонне золотую закладку из молитвенника, вешая эту закладку на руку статуи мадонны. А в детстве, в знакомом монастыре, умиленный церковной красотой, он заявлял, что хочет поселиться в одной из келий в качестве аббата, и был бы рад взять с собой в келью свою мать.
Ребенок молится Иисусу, чтобы он помог ему собрать целебные травы, за которыми его послали, и за услуги предлагает Иисусу хлеб. Брентано желает выразить католичество как повседневную силу и наглядный предмет человеческого обихода.
Форма рассказа у Брентано «объективная» — прилежное вчувствование в средневековый склад ума и стилизация под жизнеописанья той эпохи.
К ортодоксальному «гейдельбергскому» стилю относится и печатаемый здесь Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль (1817), известнейшее из прозаических произведений Брентано. Новелла соткана из фольклорных мотивов, столь ценимых в гейдельбергском кругу, и по ней можно отчетливо судить, каково было «народничество», которое проповедывали Арним и Брентано.
Рассказчик в этой новелле — видная и активная фигура, автопортретный смысл которой не скрывается. Он благоговейно слушает старуху, стыдясь перед ней своего звания литератора. Характерный мотив покаяния, стыда за буржуазную профессию, аскетизма, в глазах которого искусство — неправедная роскошь. Важнейший оборот сюжета — трагическая судьба прекрасной Аннерль — основан на фольклоре. Еще Генрих Гейне восхищался мрачной и внушающей силой эпизода с палачом; в творчестве самого Гейне на это есть отклики (в M емуарах — история «красной Зефхен», дочери палача). Симпатический меч, которому дано предугадывать свою будущую жертву, однако, есть у Брентано нечто большее, нежели мрачный «готический» символ. Как это характерно для гейдельбергской поэтики, поверье, представленье, взятое из фольклора, реализуется; для Брентано мировые силы в их народно-суеверном понимании — реальные силы и фольклорное творчество имеет смысл практического и по сию пору подлинного познания действительности.
Фольклорный мотив реализуется тем, что он входит, как логический член, в развитие фабулы, достоверной, современной, записанной очевидцем. Судьба Аннерль действительно предсказана старым мечом, и напрасно не приняты были меры предосторожности — послушались бы старого палача, и не было бы ни греха прекрасной Аннерль, пи позорной казни. Согласно Брентано, согласно доказательствам, принесенным самою фабулой, суеверное есть достоверное.
Новелла искусно построена, отчетливо ведет к заключительному смыслу, «объективное» принуждение которого и обусловливает ее ход.
По форме рассказа автор никакой автономии не имеет: он только посредник между событием и мыслью, возникшею в связи с событием.
В новелле три фабулы: история честного Каспера, история прекрасной Аннерль, история герцога и молодой графини Гроссингер, с отчетливыми переходами от одной фабулы к другой. Две первых фабулы связаны тем, что Аннерль — это невеста Каспера, а третья фабула отнесена к первым двум через графа Гроссингера — одновременно соблазнителя Аннерль и брата герцогской возлюбленной. Эти эмпирические фабульные связи только способствуют тому, чтобы в единую плоскость рассказа свести многообразные события, объединить их в смысловые группы и противопоставить. В смысловых противопоставлениях весь пафос рассказа.
Касперль, который застрелился, так как близкие родные — отец и сводный брат — опозорили его; Аннерль, которая пошла на эшафот, но скрыла имя человека, виновного перед ней. сожгла письменное обязательство, собственное свое оправдание, чтоб не пользоваться им против воли другого — оба они, и Касперль и Аннерль, каждый со своей историей — это, по Брентано, выразители народной жизни, народной этики, народных, истинных понятий о чести-честности.
Но граф Гроссингер тоже заявляет, заграждая просителю доступ к герцогу: не пустить просителя в аппартаменты — это для него, Гроссингера,— дело чести. Затем выясняется, какова эта честь графа Гроссингера: он сводил сестру с герцогом.
И герцог спокойно пользовался своими преимуществами перед простыми смертными на свиданиях с сестрою, охраняемых собственным ее братом. В эпилоге Гроссингер кается в деле с Аннерль и с сестрой и герцогом. На герцога тоже снизошло нравственное просветление: он женится на любовнице. Все это происходит под влиянием гибели прекрасной Аннерль и честного Каспера. В этом и состоит по существу синтез всех трех фабул: в народной морали, в школе этой морали, преподанной высшим сословиям, в «народной правде», которая является правдой для всех, всеобщей и необходимой. Действительная честь Каспера и Аннерль выставлена против ложной чести, придворной и дворянской. У Брентано фольклорны не только песни, язык, но и самая философия.
Есть в этой повести еще один синтез — окончательный и высший. Он принадлежит старушке, и ей Брентано доверяет почтительно и безусловно, как народной мудрости, крайней и предельной. У старушки абсолютная точка зрения на вещи: вся эта честь и все эти мотивы, из-за которых бьются люди,— ничто перед вечною судьбой, смертью и заочным страшным судом. Религиозный критерий вообще отвергает понятие чести, как суетное и эгоистическое. Ведь вот честь и привела Аннерль к несчастью — от гордости, от желания покрасоваться она и попала в наложницы знатного человека. Честь подобает воздавать только богу. Глубокий душевный покой старушки перед лицом свершающихся земных вещей, ее хлопоты только в виду потустороннего — чтоб Каспер не попал на анатомический стол, а был похоронен по-христиански, чтоб Аннерль подготовилась к нездешнему суду, а прощенья ей не надо от герцога, так как все решается «там»,— вот в этом всем и есть для Брентано величайший и последний смысл рассказа.
Таково «народничество» Брентано, вменяющее религиозную забитость, робкое сглаживание всех земных противоречий в основное и самое характерное для народного мировоззрения. Худшие, наиболее отсталые стороны крестьянского сознания закрепляются навеки и славятся литературой.
Новелла Брентано в немецкой литературе, в традиции «деревенских историй», связанной с именами Песталоцци, Бертольда Ауэрбаха, Карла Иммермана, заняла почетное место. Как «народного писателя», возвеличил Брентано и Фердинанд Фрейлиграт в известных стихах.
Это народничество имеет русские параллели: Тургенев — Живые мощи, Тютчев — о «простоте смиренной» и о «бедных селеньях». В русских националистических символах и теориях, в славянофильстве и в реакционном народолюбии, в идеях о святой бедности и святой простоте русского народа, народной интуитивной религии и особой «русской почве» — во всем этом трижды и трижды «национальном» историки русской литературы могли бы отыскать следы немецкого влияния.
Черты гейдельбергского этапа заключаются
в интересе к народной поэзии и отвращении
к теоретизированию, также в глубоком
трагизме, лежащем в основе его мироощущения.
Но вместе с тем в глубинах его сознания
хранится вера в то, что добро должно
восторжествовать.
Касперль и Аннерль – воспоминания
80летней крестьянки переносят нас в
стихию жизни народа с его глубокой верой
в предзнаменования, с его песнями и
молитвами, которые вбирают в себя всё
многообразие жизненных ситуаций. Трагизм
жизни у гейдельбержцев: романтический
гиперболизированный отрицательный
пример того, как ложно понятая высокая
идея приобретает разрушительную силу.
Его образ в силу своей двойственности
становится гротескным. Отсутствие
способности осмысливать свои действия
приводит к катастрофе. Показано, как
простые случайности могут довести людей
до смерти, когда вроде как счастье было
на горизонте. У гейдельбержцев пропала
вера в возможность гармонии. Случайность
постоянно соседствует с закономерностью,
предопределением и роком. Но роковой
финал сразу не понятен. В этом мире царят
случайности и закономерности, ведущие
к роковому финалу. Сущность трагического
мироощущения Брентано не только в
недоверии к лживому и жестокому обществу,
но в недоверии к человеческой природе,
которое допускает необъяснимое соединение
жестокого и благородного, таит в себе
возможность непредсказуемых поступков.
Поэзия и проза Брентано отражают
неприятие как современного мира с его
двойной моралью, так и принципов первого
этапа романтизма с его насыщенностью
философскими идеями. Близость к поэтике
и воззрениями народа сказывается у
Брентано не столько в использовании
фантастики, сколько во внутреннем
глубинном родстве с народным искусством
и мироощущением.
8. Восприятие музыки Моцарта, героя его оперы в новелле э.Т.А. Гофмана «Дон Жуан». Образ творческой личности в новелле.
Мир земной поделен у писателя на мир
энтузиастов и филистеров. Творческий
человек обречен в этой реальности на
постоянные страдания и непонимание со
стороны окружающих. Он «безумец»,
«фантазер», служащий лишь царству грез.
Он не способен вернуться к «настоящей»
цели своего существования – стать
«шестеренкой» в государственной машине.
Образы творческой личности воплощены
в «Дон Жуане». Автор передает то
потрясение, которое он переживает во
время исполнения оперы Моцарта, то
рассказывает об удивительной певице,
живущей полной жизнью только на сцене
и умирающей тогда, когда ее героиня –
донна Анна – принуждена выйти замуж за
нелюбимого. Смерть актрисы наступает
тогда, когда слышен звук порвавшейся
струны. Гофману важно показать, как
музыка способна творить чудеса, полностью
захватывая воображение и чувства
слушателя и исполнителя.
Второй мир представлен филистерами,
рассуждающими о музыке, не понимая ее,
и осуждающими певицу за то, что она
слишком много чувства вкладывала в
исполнение: это и привело ее к гибели.
Только музыкальная характеристика Дон
Жуана раскрывает его как любимое дитя
природы, и только она лишает его
фривольности севильского озорника.
Творческие личности подлинно сливаются
с творчеством, в их внутреннем мире
звучит музыка, а душа блуждает по
лабиринтам многосмысленных, живых,
одухотворенных образов. Они живут внутри
себя, и когда музыка, их духовная энергия,
обрывается, они умирают вместе с ней.
поверхностным филистерам это не понять.
Их жизненные силы материальны.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #