Жития святых1´ – это описания жизни церковных и государственных деятелей, канонизированных христианской церковью. Причтение подвижника к лику святых было возможно только после его смерти и при наличии комплекса доказательств его святости в виде свидетельств о прижизненных и посмертных чудесах, совершавшихся и самим подвижником, и от его мощей, и в местах, связанных с его именем.
Жития как жанр книжности возникают в византийской христианской литературе. С течением времени вырабатывается канон агиографического сочинения.
Житие представляет собой рассказ о человеке, которого церковь за его подвиги возвела в степень «святого». В основе жития лежала биография героя, чаще всего исторического лица, известного самому автору лично или по рассказам его современников. Целью жития было прославить героя, сделать его образцом для последователей и почитателей. Необходимая идеализация реального персонажа вела к обязательному нарушению жизненных пропорций, к отрыву его от земного и плотского, превращению в божество. Чем дальше отдалялся житийный автор по времени от своего героя, тем фантастичнее становился образ последнего. «Житие не биография, а назидательный панегирик в рамках биографии, как и образ святого в житии не портрет, а икона», – отмечал В. О. Ключевский.2´
Живые лица и поучительные типы, биографическая рамка и назидательный панегирик в ней, портрет и икона — это необычное сочетание отражает самое существо житийного художественного способа изображения. В житийной литературе воплощается нравственный идеал средневекового человека, прославляются христианские добродетели, которые торжествовали над земными привязанностями человека. Иначе говоря, житие акцентирует внимание не на временном, а на вечном, идеальном. Этим и обусловлено характерное для житийного жанра «идеальное отображение действительности», преобладание символической образности, тяготение к художественному абстрагированию.3´
В византийской литературе жития сформировались на основе традиции античного исторического жизнеописания, эллинистического романа и похвальной надгробной речи. Общее развитие византийской агиографии завершилось в X веке созданием канонической формы жития Симеоном Метафрастом.
По объему излагаемого биографического материала выделяют два вида жития:
1) биографическое (биос),
2) мученическое (мартириос).
Биос дает описание жизни христианского подвижника от рождения до смерти, мартириос рассказывает только о мученической смерти святого. Последняя форма — более древняя, связана с гонениями на первых христиан. В основе этого типа житий лежат «протоколы» допросов христиан («акты мучеников»), поэтому они как бы документированы. Полная биография не берется, рассказывается только о мучениях святого. Мучитель — обычно правитель-язычник (Нерон, Диоклетиан, Дамициан). Он заключает мученика-христианина под стражу и требует принести жертву языческим богам. Христианин отказывается, и тогда его подвергают пыткам.
В соответствии с обликом центрального персонажа и типом его подвижнической деятельности, то есть типом святого, различают жанровые разновидности житий биографического характера. Разновидности подвига и соответственно разновидности святых выстраиваются в иерархическую систему в соответствии с их авторитетностью.
В композиционном отношении жития строились по строгому плану, композиционному канону (или тематическому плану), который включал в себя «стандартные» положения и мотивы, «общие места». Впервые «агиографическая схема» была описана Хр. М. Лопаревым.4´ Как правило, к ним относились следующие эпизоды:
1 Рассказ о благочестивых родителях (редко — нечестивые, что оттеняет святость).
2 Благочестие проявляется с младенчества (отвергает материнское молоко в постные дни — по средам и пятницам).
3 Чуждается сверстников, не играет в игры, уединяется.
4 Семи лет отдают в учение, он быстро овладевает грамотой и читает божественные книги.
5 Решает посвятить себя Богу, избирает форму подвижничества и приступает к ней.
6 Терпит невзгоды и искушения (борьба с дьяволом, иноверными, еретиками, соблазнами, бесами, дикими зверями и пр.), но всегда одерживает чудесную победу по вере своей.
7 Предсказывает день и час своей кончины молится и благочестиво умирает, окруженный учениками или принимает мученическую смерть. Тело его остается нетленным.
8 Посмертные чудеса — самая главная часть, доказывающая право подвижника называться святым: чудеса на могиле, от мощей, от икон святого, в тех местах, где он жил или бывал.
Житийная литература на Руси бытовала в двух типах сборников: Четьи-Минеи и Про́лог. Поэтому в зависимости от своего назначения жития делились на минейные5´ (использовались в качестве душеполезного ежедневного чтения, читались за монастырской трапезой, были более пространными) и проложные (более краткие, использовались в богослужебной практике).6´
Жития в древнерусской литературе в течение семи веков претерпели определенные изменения. Можно говорить, по крайней мере, о четырех этапах развития древнерусской агиографии. Однако, как замечает Л. Боева, «попытка представить себе схему развития житийного жанра, конечно, условную и ограниченную, как всякая схема, привела бы нас к изображению не прямой линии, а спирали. Уже в первых житиях преобладают реалистические элементы, черты действительной жизни. Вслед за этим житийный жанр канонизируется, в нем резко возрастают нормативные элементы, идеализированное изображение, символика. В последний период в житиях снова происходит нарастание жизненного, реального; жития трансформируются в жанр светской повести».7´
На базе житий, замечает исследовательница, внутри самого жанра происходит процесс формообразования, и отдельные жития приближаются все больше к различным литературным или фольклорным жанрам. Одни жития начинают походить на рассказы, другие на исторические, воинские, бытовые или психологические повести, третьи на остросюжетные новеллы, четвертые на поэтические сказки, некоторые принимают вид забавных небылиц, иные имеют легендарный характер или приобретают подчеркнуто проповеднически поучительное звучание, другие не отказываются от занимательности и определенных элементов юмора и иронии. Все это разнообразие, нарушающее канонические рамки религиозного жанра, отрывает его от церковной линии и приближает к светским повестям и рассказам.
Действительно, на русской почве на первом этапе развития жанра широко распространяются переводные византийские жития, из них особенно популярным становится занимательное «Житье святаго человека Божия Алексия». Из оригинальных русских житий получило широкую известность анонимное «Сказание о Борисе и Глебе». Но уже первые русские жития отступают от традиционной схемы в сторону сближения с реальной жизнью. Для них типично введение в ткань повествования отдельных конкретных изображений, живых психологических моментов, некоторых жизненных ситуаций. Образ самого героя обычно меньше затронут подобными нарушениями агиографического этикета. Он нарисован с самым пунктуальным соблюдением абстрактного религиозного идеала (например, агиографические сочинения Нестора).
Возникновение оригинальной древнерусской агиографии (XI-XII века) было обусловлено внутренними потребностями древнерусского государства, той борьбой, которую вела Русь с Византией за утверждение политической и религиозной самостоятельности. Еще в первой половине XI века Ярослав Мудрый настойчиво добивался у Византии причисления к лику святых мучеников-варягов, княгини Ольги, князя Владимира, своих братьев Бориса и Глеба, убитых в междукняжеской распре Святополком. Канонизация национальных святых рассматривалась Ярославом как факт религиозной и политической независимости Руси.
То, что первыми русскими святыми были не церковные деятели, не монахи-аскеты, а люди, занимавшие самую высокую ступень в феодальной иерархии – князья Борис и Глеб – явление не случайное. Церковный культ Бориса и Глеба, окружавший личность князей ореолом святости, служил государственным интересам Руси, упрочению основ феодального общества. Князья-братья прославлялись не только за христианские добродетели. Их подвиг укреплял сложившуюся систему феодального правопорядка подчинения старшему в роде, свидетельствовал о высоком чувстве чести, верности, самоотверженности, о развитом патриотическом самосознании.
Жития подвижников церкви, которые можно датировать серединой-концом XIII века, в целом следует охарактеризовать как памятники, строго соблюдающие канон. Образцом такого рода произведения можно назвать «Житие Авраамия Смоленского» составленное книжником по имени Ефрем. Однако иная картина наблюдается в княжеских житиях этого времени. Значительные отклонения от канона обусловлены типом героя — государственного деятеля. В княжеских житиях XIII века отразились события монголо-татарского нашествия и ига. В это время создается «Житие Александра Невского», которое соединяет в себе черты жития и воинской повести. В то же время создается «Житие Михаила Черниговского», выполненное как мартирия, повествующая о страданиях святого за православную христианскую веру, принятых от нечестивого мучителя-язычника.
Второй этап в эволюции русской литературы и в развитии агиографии (конец XIV— начало XV вв.) связан с так называемым вторым югославянским влиянием. В конце XIV века и в русской литературе впервые появляется интерес к человеческим эмоциям и чувствам героев. В житиях расцветает торжественный риторический высокопарный стиль, известный нам по болгарским житиям и названный Д. С. Лихачевым эмоционально-экспрессивным или панегирическим стилем. В наиболее завершенном и оригинальном виде экспрессивно-эмоциональный стиль представлен в творчестве Епифания Премудрого, перу которого принадлежат два жития – «Житие Стефана Пермского» (1396-1398 гг.) и «Житие Сергия Радонежского» (1417-1418 гг.), а также в книжной деятельности Пахомия Серба, который придал эмоционально-экспрессивному стилю строго официальный церковно-религиозный характер – жития, написанные им, стали формальными образцами для всей последующей агиографии.
Хорошо разработанной системе Епифания и Пахомия противостоят в агиографии второй половины XV века, с одной стороны, «неукрашенные» описания жизни святых, рассматривавшиеся, по-видимому, как материал для последующей литературной обработки, а, с другой – жития-легенды, основанные на фольклоре и обладающие хорошо разработанными, но не традиционно-агиографическими сюжетами.
К «неукрашенным» житиям первого типа принадлежит составленная в 1477-1478 годах записка о последних днях крупнейшего церковного деятеля XV века, основателя и игумена Боровского монастыря Пафнутия. Составил эту записку келейник игумена Иннокентий. Последний видел свою задачу в том, чтобы как можно точнее записать предсмертные речи и последние дни Пафнутия. Именно благодаря отсутствию риторики безвестному монаху удалось создать необыкновенно выразительный образ больного старика, еще недавно возглавлявшего огромное монастырское хозяйство и, наконец, уставшего от всей этой суеты и жаждущего покоя.
Примером жития-легенды может служить новгородское «Житие Михаила Клопского» – развернутое агиографическое описание жизни и чудес новгородского святого-юродивого, сочувствовавшего Московским князьям (именно это обстоятельство способствовало сохранению жития в общерусской письменной традиции после присоединения Новгорода). Создатель произведения, несомненно, опирался на определенные литературные традиции, скорее фольклорные (то есть основанные на фольклоре), нежели агиографические.
В XVI в., который мы определяем как третий этап развития древнерусской агиографии, жанровые критерии в русской литературе снова укрепляются. Создаются монументальные житийные своды. Жития для них специально перерабатываются, по возможности сглаживаются различия между ними, все подводится под общую государственную концепцию (обоснование государственного и церковного единства), пишутся в официозном, пафосном, риторическом стиле, приподнято взволнованным старославянским языком. Макарьевские «Четьи Минеи» в 12 томах — и вершина развития жанра, и его окончательная канонизация, от которой движение могло пойти только в обратную сторону, к нарушениям жанра, к его разложению и окончательному преодолению.
Однако в XVI веке продолжается и традиция легендарного жития-повести В середине столетия появляется созданная русским писателем и публицистом Ермолаем-Еразмом «Повесть о Петре и Февронии Муромских», в которой в основе повествования лежит сюжет сказки о мудрой деве и легендарная история о девушке из села Ласково Муромской земли.
В русской литературе переходным был, как известно, XVII век. Это последний, четвертый, этап развития древнерусской агиографии. Если до этого времени изменения в житиях не были систематическими и последовательными, то теперь происходит окончательная ломка жанра, завершающаяся его отрицанием в форме пародии. Древние авторы рисовали человеческие образы в значительной мере примитивно: изображали или один момент в душевной жизни героя, или какое-либо одно статичное состояние чувств, не учитывая связи отдельных моментов между собой, причин их; возникновения, развития чувств. Показ сложности и противоречивости духовного мира человека, более цельная его характеристика появляются только к концу XVI века. И лишь литература XVII века открывает собственно человеческий характер.
В конце XVI – XVII вв. жанр житий активно вбирает в себя светские тенденции. Характерна группа северных житий, где главными героями-святыми, были люди из народа, трагически, загадочно погибшие или на море, или от удара молнии, или даже разбойники, убийцы. Такого рода сочинения свидетельствовали об усилении интереса к человеческой личности как таковой. В этих житиях повествование зачастую развивается по линии «освобождения жанра от обязательного рассказа о жизненном пути святого, в ряде случаев агиографы совсем не знают биографии человека, признанного святым и описывают только его посмертные чудеса или дают отдельный известный эпизод из его жизни, связанный с его канонизацией, чаще всего необычную, “подвижническую” смерть героя».8´
Именно в это время в развитии житийного жанра намечаются две различные линии: отказ от биографизма, усиление бытовых деталей и сюжетных подробностей, с одной стороны, а с другой — подчеркнутый биографизм, выделение одной центральной фигуры и подробное описание ее истории и ее внутреннего мира. Первая линия приведет к бытовым повестям и авантюрным новеллам, вторая — к психологическим повестям и историко-мемуарной прозе.
Линию развития житийного жанра в русской литературе завершает и зачинает собой линию новой повествовательной литературы знаменитое «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». По своей критической направленности и художественным особенностям оно тесно связано с демократической сатирой XVII века, с историческими и бытовыми повестями. Из агиографического наследия Аввакум перенял как старую житийную форму, так и то традиционное нарушение канонов, которое было для нее столь типично. В житии это проявляется в тенденции к отражению мотивов живой действительности, в анализе чувств и психологии героя, в цельности его образа, данного в становлении и развитии, в его связях с другими людьми, в окружающем его богатом бытовом фоне и т. п.
Но «Житие протопопа Аввакума» не одиноко в литературе XVII века. Автобиографические тенденции, проявлявшиеся в различных жанрах (например, в сочинениях Авраамия Палицына, Ивана Хворостинина), реализовались отчасти в «Повести об Ульянии Осорьиной», написанной сыном главной героини, а также в «Свитке» Елеазара Анзерского, «Житии» инока Епифания. Последние произведения названы еще по-старому – житиями. Однако с них в том числе начинается утверждение нового жанра – наследника житийного биографизма – мемуаров.
__________
1 ’ Житие (греч. βίος, лат. vita) – жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых.
2 ’ Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения. Т.2. М.,1957. С.253-254.
3 ’ Подробно об абстрагировании в древнерусской литературе см.: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 102 –111.
4 ’’ См.: Лопарев Х.М. Греческие жития святых VIII и IX вв. – Пг., 1914. Ч. 1-2.
5 ’ Минея (греч. μηνιαίος – месячный, длящийся месяц) – общее название богослужебных и четиих (предназначенных для домашнего или келейного чтения) книг.
6 ’ Синаксарь или синаксарий (греч. συναξάριον – сборник; греч. συνάγω – собираю; греч. σύναξις – собрание) – первоначально собрание верующих на праздник, в дальнейшем – собрание сведений о святом или о каком-либо празднике. снаксарии помещаются в Минеях и Триодях постной и цветной на все праздники, начиная от Недели мытаря и фарисея и до недели всех святых. Также синаксарем называется книга особого состава, содержащая краткие жития святых и памяти на праздничные дни, расположенные по дням года; русской традиции известна по названием Про́лог.
7 ’ Боева Л. Вопросы древнерусской литературы. София, 1981. С.241.
8 ’ Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв. Л.,1973. С.213.
Самым распространенным
жанром в древнерусской литературе были
жития святых. Жития рассказывают о жизни
святых и имеют религиозно-назидательный
смысл. Житие должно вызывать в читателе
или слушателе чувство умиления
самоотречением, кротостью и радостью,
с которыми святой переносил страдания
и лишения во имя Божие.
Древнейшие русские
жития (XI-XII в.) посвящены князьям-страстотерпцам
Борису и Глебу. В них рассказывается о
вероломном убиении юных князей их
старшим сводным братом Святополком,
который замыслил единолично править
всей Русью. Подробно описываются душевные
борения, скорбь и страх святых в преддверии
безвременной смерти. И в то же время
Борис желает принять смерть в подражание
Христу, молитвы Бориса и Глеба — шедевры
красноречия. В них последовательно и
ясно развертывается основная мысль —
сожаление о грядущей смерти и готовность
принять ее от рук убийц.
Один из вариантов
истории о Борисе и Глебе включает
необычный для житийной литературы
фрагмент — описание битвы Святополка с
братом Ярославом, мстящим великому
грешнику за убиение святых. Борисоглебские
жития стали образцом для агиографических
произведений о святых князьях, умерших
от рук убийц.
В XIII в. было составлено
житие новгородского князя Александра
Ярославича (Невского). В нем также
соединены черты воинской повести (битва
со шведами на Неве, Ледовое побоище и
др. сражения) и рассказ о благочестии
князя.
Второй источник
Одним из жанров
древнерусской литературы, как было уже
сказано выше, является житие святых.
Жития служили как
бы ещё одним видом историографической
литературы, к которой древнерусский
читатель питал особое пристрастие. При
чтении которых, читатель убеждён, что
всё описанное – происходило в
действительности.
Русские жития
представляли собой народные легенды,
герои, которых отличались не праведностью,
а лишь несчастливой судьбой, которая
вызывала сочувствия.
В переводных житиях
постоянно упоминается о далёких странах,
о Риме, об Александрии. Такие жития
расширяли и расширяют сейчас географический
кругозор читателя.
Переводные жития
были построены по сюжетным
романов-приключений. Пример: “Житие
Евстафия-Плакиды”, основной частью
жития является рассказ об удивительной,
полной неожиданностей судьбе Евстафия.
ХI веком датируется
в первые русские жития (князей Бориса
и Глеба, игумена Печерского монастыря
в Киеве Феодосия Печерского), отличающиеся
литературным совершенством, жгучим
вниманием к насущным проблемам
современности, жизненностью многих
эпизодов.
Жанр жития
предполагает, что жизнеописание святого
составляет «самовидец» его подвигов –
его ученик или же, по рассказам очевидцев
или знавших святого, его позднейший
почитатель.
В VIII — XI вв. в
Византии вырабатывается каноническая
структура жития и основные принципы
изображения житийного героя. Происходит
своеобразное иерархическое разделение
житий по типам героев и характерам их
подвигов.
Тип героя определяет
тип жития, и в этом отношении житие
напоминает икону. Подобно иконе житие
стремится дать предельно обобщенное
представление о герое, сосредоточивая
главное внимание на прославлении его
духовных, нравственных качеств, которые
остаются неизменными и постоянными.
Составители житий
сознательно преобразуют факты реальной
жизни, чтобы показать во всем величии
красоту христианского идеала. Характер
этого идеала накладывает печать на
композиционную и стилистическую
структуру жития.
Жизнеописание
святого обычно начинается с указания
на его происхождение, как правило, «от
благочестивых», «пречестных» родителей,
реже от «нечестивых», но и этот факт
призван лишь контрастнее оттенить
благочестие героя. В детстве он уже
отличается от своих сверстников: не
ведет «пустотных» игр, бесед, уединяется;
овладев грамотой, начинает с прилежанием
читать книги «священного писания»,
уясняет их мудрость. Затем герой
отказывается от брака или, исполняя
родительскую волю, вступал в брак, но
соблюдал «чистоту телесную». Наконец,
он тайно покидал родительский дом,
удалялся в «пустыню», становился монахом,
вел успешную борьбу с бесовскими
искушениями. К святому стекалась
«братия», и он обычно основывал монастырь;
предсказывал день и час своей кончины,
благочестиво, поучив братию, умирал.
Тело же его после смерти оказывалось
нетленным и издавало благоухание —
одно из главных свидетельств святости
умершего. У его нетленных мощей происходили
различные чудеса: сами собой загорались
свечи, исцелялись хромые, слепые, глухие
и прочие недужные. Завершалась
агиобиография обычно краткой похвалой.
Так создавался
обобщенный лучезарный образ святого,
украшенный всяческими христианскими
добродетелями, образ, лишенный
индивидуальных качеств характера,
отрешенный от всего случайного,
преходящего.
В XIV — XV вв. создается
много житий русских святых, творят
выдающиеся русские писатели-агиографы
(т. е. авторы житий) — Епифаний Премудрый
и Пахомий Логофет. С их именами связано
и житие особо чтимого русского святого
— Сергия Радонежского. «Житие Сергия
Радонежского» было написано Епифанием
между 1417 — 1418 гг., несколько лет спустя
оно было переработано Пахомием.
«Житие Сергия
Радонежского» ценно не только сведениями
о жизненном пути святого. Это блестящий
литературный памятник, в котором
отразилось, в частности влияние так
называемого «стиля плетения словес».
На Руси с принятием
христианства начали распространятся
жития в двух формах; в краткой – так
называемые проложные жития, входивший
в состав Прологов (Синаксариев) и
использовавшиеся во время богослужения
и в пространной – минейные жития.
Последний входили в состав Четьих-Миней,
т.е месячных чтений, и предназначались
для чтения в слух за монастырскими
трапезами, а также для индивидуального
чтения.
Существовало два
типа жития:
1) мартирий
(мученическое) – произведение, описывающие
мученичество и смерть святого («Сказания
о Барисе и Глебе»);
2) собственно житие
(биографическое или биос) – произведение,
которое описывает весь жизненный путь
святого от рождения до смерти («Житие
Феодосия Печерского»).
Биос дает описание
жизни христианского подвижника от
рождения до смерти, мартириос рассказывает
только о мученической смерти святого.
Последняя форма — более древняя, связана
с гонениями на первых христиан. В основе
этого типа житий лежат “протоколы”
допросов христиан, поэтому они как бы
документированы. Полная биография не
берется, рассказывается только о мучениях
святого.
Житие вместе с
историческими хрониками и литургическими
гимнами долгое время было ведущим жанром
в византийской литературе. Зачастую
житийный материал настолько отходил
от необходимого восхваления идеального
героя, что смыкался с апокрифической
литературой. Уже к Х в. в Византии
нарастает ощущение необходимости
упорядочить жанровые рамки и состав
житийных повестей. Нормализация и
своеобразное подведение итогов было
осуществлено Симеоном Метафрастом (X
в.), составившим огромный сборник житий
святых, расположенных помесячно,
отредактированных и исправленных им.
В монументальном труде Метафраста был
отработан ставший столь популярным
впоследствии, житийный канон: трехчленность,
вводное самоунижение агиографа, обращение
к богу и святым за помощью, многочисленные
цитаты и параллели из священных книг.
За обязательным вступлением следовало
столь же обязательное по канону описание
рождения героя от благоверных родителей,
учение, уход из дома, первые духовные
подвиги и т. д. Отработан и канонизирован
был также и высокий риторический стиль
житийного повествования и
нравоучительно-идеализирующий характер
сюжета.
Основной репертуар
русских нормативных житий писался этому
обязательному канону. Всякое житие
должно было иметь, как уже было сказано,
вступление, изложение и заключение.
Вступление начиналось с обращения к
читателям-“мучениколюбцам”, с призывом
прославить святого. Часто во вступлении
авторы перечисляли причины, по которым
отважились приступить к описанию жизни
святого, несмотря на свою греховность
и неученость. Это именно то традиционное
самоуничижение, которое стало постоянным
приемом не только в жанре жития. Потом
следовало перечисление источников, по
которым писалось житие, а затем шли
многочисленные цитаты из святых книг,
библейские параллели, сравнения с
апостолами, другими святыми и подвижниками.
Эти общие, абстрактные пассажи,
описательные моменты зачастую повторялись
без изменений во многих житиях, создавая
необходимую, по мнению агиографа, пышную
рамку, прославляющий ореол. Отступления
от канона в этой части шли по линии почти
полного сокращения абстрактного,
описательного, неопределенного. Нередко
от всей первой части оставалось одно
традиционное, а иногда и искреннее,
сомнение автора в своих силах, замечание
о грешности, недостойности.
Основной текст
открывался рассказом о рождении святого
от праведных родителей: “рожен от отца
благочестива и нищелюбца, паче ж кротка”
в “Повести о житии Александра Невского”,
“сын некоего христолюбца” в “Житии
Стефана Пермского”. Далее следовало
описание прилежного усвоения будущим
святым церковной грамоты, раннее
послушание и первые подвиги: “И егда
же бысть 6 лет отроча и даша и в первое
учение и научился всей грамоте и
церковьному устроению, яко ж и мало
время поучивъся и премудр бысть” (“Житье
святаго человека Божия Алексия”).
К идеализированному
образу святого относилась и красивая
внешность, вызывавшая многие соблазны
и искушения. С самого начала герой
предназначен для свершения больших
дел, что проявляется уже в необыкновенной,
религиозной одаренности ребенка, в
раннем аскетизме, доброте, терпении,
бескрайней набожности. “И бысть отрок
доброразумичен зело, успеваше же разумом
душевным, и верстою телеси и благостию”
—о Стефане Пермском. “Но возраст его
паче иных человек, а глас его, яко труба
в народе, а лице его, яко лице Иосифа,
иже бе поставил его егупетски царь
втораго царя во Египте. Сила же бе ему
часть бе от силы Самсоня, и премудрость
бе ему Соломоня” — об Александре
Невском.
Следует традиционный
уход из дому и приключения героя, иногда
довольно занимательные, но описанные
всегда с целью способствовать утверждению
и прославлению христианских идей.
Обязательно присутствуют испытания, а
иногда и мучения героя, которые он
переносит смиренно и безропотно. Часто,
особенно в позднейших списках житий,
дается нечто вроде лирического
отступления, в котором агиограф выражает
свои чувства и мысли о невинно терпящем.
В русские жития XIV века подобные пассажи
входили как проявление второго
южнославянского влияния, но вскоре они
становятся традиционными и неизменно
повторяющимися. Например, в “Слове о
житии и преставлении великого князя
Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго”
автор вопрошает: “Кому уподоблю великого
сего князя Дмитрея Ивановича, царя
Русьскыя земли, и настолника великому
княжению, и собирателя христьяньского?
Приидите, любимци, церковнии друзи, к
похвалению словеси, по достоянию
похвалити держателя земли Русьской…”
Кончается житие
обыкновенно явлением богоматери или
одного из небесных посланцев, указывающих
народу на праведника, а перед или после
этого описана праведная кончина героя.
Почти ко всякому житию присоединено
описание посмертных чудес, которые
происходят от его мощей. Это большей
частью самостоятельные, вполне законченные
рассказы, связанные с основным костяком
жития только именем главного героя,
имеющие свой оригинальный сюжет и свою
систему действующих лиц. Эти рассказы
подчас изобиловали отступлениями от
канона, моментами реалистического
изображения, сюжетной занимательности.
Вместе с рассказами о чудесах, то есть
об исцелениях, о болезнях, несчастиях,
людском горе и страданиях, в жития
проникали фантастические, сказочные
моменты и мотивы из частной, обыденной
жизни низших слоев общества.
В заключении обычно
давалось последнее обращение к читателям
— призыв к восхищению праведностью и
чудесами героя, все кончалось молитвой
к герою с просьбой о покровительстве,
похвалой праведнику и завершалось
заключительным “аминем”.
Каноническая схема
жития служила, таким образом, наилучшим
планом для изображения идеального героя
и идеализированного мира, в котором он
совершал свои праведные дела. Но с самых
первых шагов в развитии житийного жанра
канон нарушался под влиянием жизненных
фактов. Нарушения эти обыкновенно почти
не касались главного героя, но тем более
осязательно затрагивали других
действующих лиц. И чем талантливее был
агиограф, тем значительнее было
отступление его произведения от
церковного шаблона.
Понятие канона.
Житие святого –
это, прежде всего, описание пути подвижника
к спасению, типа его святости, а не
документальная фиксация его земной
жизни, не литературная биография. Житие
получило специальное назначение — стало
видом церковного поучения. Вместе с тем
агиография отличалась от простого
поучения: в житийном жанре важен не
отвлеченный анализ, не обобщенное
нравственное назидание, а изображение
особых моментов земной жизни святого.
Отбор биографических черт происходил
не произвольно, а целенаправленно: для
автора жития было важно только то, что
вписывалось в общую схему христианского
идеала. Все, что не укладывалось в
устоявшуюся схему биографических черт
святого, игнорировалось или редуцировалось
в тексте жития.
Древнерусский
житийный канон — это трехчастная модель
агиографического повествования:
-
пространное
предисловие; -
особо подобранный
ряд биографических черт, подтверждающий
святость подвижника; -
похвальное слово
святому; -
четвертая часть
жития, примыкающая к основному тексту,
появляется позже в связи с установлением
особого культа святых.
Христианские
догматы предполагают бессмертие святого
после завершения его земной жизни — он
становится «ходатаем за живых» перед
Богом. Загробное бытие святого: нетление
и чудотворение его мощей — и становятся
содержанием четвертой части житийного
текста. Причем в этом смысле агиографический
жанр имеет открытый финал: житийный
текст принципиально не завершен,
поскольку посмертные чудеса святого
бесконечны. Поэтому «каждое житие
святого никогда не представляло
законченного творения».
Кроме обязательной
трехчастной структуры и посмертных
чудес, агиографический жанр выработал
и многочисленные стандартные мотивы,
которые воспроизводятся в житийных
текстах практически всех святых. К таким
стандартным мотивам следует отнести
рождение святого от благочестивых
родителей, равнодушие к детским играм,
чтение божественных книг, отказ от
брака, уход от мира, монашество, основание
обители, предсказание даты собственной
кончины, благочестивая смерть, посмертные
чудеса и нетление мощей. Подобные мотивы
выделяются в агиографических произведениях
разных типов и разных эпох.
Начиная с древнейших
образцов житийного жанра, приводится
обычно молитва мученика перед кончиной
и рассказывается о видении Христа или
Царствия Небесного, открывающегося
подвижнику во время его страданий.
Повторение стандартных мотивов в
различных произведениях агиографии
обусловлено «христоцентричностью
самого феномена мученичества: мученик
повторяет победу Христа над смертью,
свидетельствует о Христе и, становясь
«другом Божиим», входит в Царство
Христово». Именно поэтому вся группа
стандартных мотивов относится к
содержанию жития, отражает путь спасения,
проложенный святым.
Обязательными
становятся не только словесное выражение
и определенный стиль, но и сами жизненные
ситуации, которые соответствуют
представлению о святой жизни.
Уже житие одних из
первых русских святых Бориса и Глеба
подчиняется литературному этикету.
Подчеркиваются кротость и покорность
братьев старшему брату Святополку, то
есть благочестие — качество, прежде
всего соответствующее представлению
о святой жизни. Те же факты биографии
князей-мучеников, которые ему противоречат,
агиограф либо особым образом оговаривает,
либо замалчивает.
Очень важным
становится и принцип подобия, который
лежит в основе житийного канона. Автор
жития всегда пытается найти соответствия
между героями своего повествования и
героями Священной истории.
Так, Владимир I,
крестивший Русь в X веке, уподобляется
Константину Великому, признавшему
христианство равноправной религией в
IV веке; Борис — Иосифу Прекрасному, Глеб
— Давиду, а Святополк — Каину.
Средневековый
писатель воссоздает поведение идеального
героя, исходя из канона, по аналогии с
уже созданным до него образцом, стремится
все действия житийного героя подчинить
уже известным нормам, сопоставить с
имевшими место в Священной истории
фактами, сопроводить текст жития цитатами
из Священного писания, которые
соответствуют происходящему.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Древнерусская литература отличалась многообразием жанров: хроники и хронографы, рассказывающие об истории мира; летописи, повествующие об истории Руси; повести, посвященные отдельным важнейшим событиям русской и мировой истории; жития святых и пр.
Жития святых — это «обширная литература нравоучительных биографий», биографий святых, т. е. христианских подвижников, прославившихся своим благочестием и аскетизмом или погибших за свои религиозные убеждения от руки язычников или иноверцев, — так определяет жанр жития известный исследователь древнерусской литературы О.В. Творогов.
В Биобиблиографическом словаре «Литература Древней Руси» дается следующее толкование этого жанра: «Жития — жизнеописания людей, причисленных церковью к лику святых. Такие люди удостаивались церковного почитания и поминовения, составление жития являлось непременным условием канонизации, т.е. признания святости».
Первые русские жития появляются в конце XI — начале XII века. Это два «Жития Бориса и Глеба», «Житие Феодосия Печерского», «Житие Антония Печерского» (эти произведения не сохранились).
Почему на Руси возник жанр жития? Как отмечают исследователи (Творогов О.В. и др.), возникновение этого жанра «было не только литературным фактом, но и важным звеном в идеологической политике Русского государства. В это время русские князья настойчиво добиваются прав на канонизацию своих русских святых, что существенно повысило бы авторитет русской церкви.
Рассмотрим характерные особенности жития, как одного из основных жанров древнерусской литературы.
Все жития имели вполне определенную композицию. Они состояли из трех основных частей: рассказ о детстве святого, свято верующего, избегающего игр со своими сверстниками; рассказ о его жизни с описанием подвигов благочестия и творимыми святым чудесами; рассказ о кончине и о посмертных чудесах.
В житиях была отражена жизнь вполне реальных людей: Александра Невского, Дмитрия Донского, Василия Блаженного, Сергия Радонежского, Зосимы и Савватия Соловецких, Ефросинии Полоцкой и других. Большинство житийных чудес представляло собой рассказ о помощи святого нуждающимся людям — больным, обиженным, нищим и т. д., людям, оказавшимся в критической ситуации. Как писал знаменитый русский филолог XIX века Федор Иванович Буслаев, «в статьях о чудесах угодников иногда в замечательно ярких очерках выступает частная жизнь наших предков, с их привычками, задушевными мыслями, с их бедами и страданиями».
По типу сюжетов жития могут быть разделены на несколько групп: жития-мартирия — рассказ о смерти святых, пострадавших за христианскую веру; жития о христианах, добровольно подвергших себя разного рода испытаниям (например, богатые юноши оставляли свои состоятельные дома и вели полуголодную, полунищенскую жизнь подвижника; молодые люди оставляли города и уединялись в пустыни, жили там в полном одиночестве — их называли отшельниками и т. д.); жития, рассказывавшие об особом виде христианского подвижничества — столпничестве: святой долгие годы жил на вершине каменной башни, или в монастыре подвижники «затворялись» в келии и не покидали ее ни на час до самой смерти.
За традиционными житийными сюжетами часто скрывались живые человеческие чувства и взаимоотношения.
Жития русских святых создавались, как отмечают ученые, с XI по XII век на всем протяжении существования древнерусской литературы.
Ученые выделяют несколько типов жития по характеру героев (хотя эта классификация достаточно условна). Так, выделяются: жития княжеские (Александра Невского, Бориса и Глеба, Дмитрия Донского и др.); жития церковных иерархов (митрополитов Алексия, Ионы, Киприана, Петра, Филиппа); жития подвижников во славу церкви и создателей русских монастырей (Дмитрия Прилуцкого, Леонтия Ростовского, Сергия Радонежского); жития юродивых (Василия Блаженного, в память о котором построен храм на Красной площади в Москве, Михаила Клопского, Прокопия Устюжского). Существовали и женские жития, правда, их было очень мало: Анны Кашинской, княгини Ольги, Уфросинии Полоцкой, Ефросинии Суздальской.
В большинстве случаев имена авторов житий (это можно отнести и ко всем письменным памятникам Древней Руси) остались неизвестными. Однако о некоторых мы узнаем из текстов самих произведений. Наиболее прославленными авторами житий являются Нестор (XI — начало XII века), Епифаний Премудрый (2-я половина XIV — 1-я четверть XV века), Пахомий Лагофет (XV век).
Все жития отличаются традиционными характерными особенностями. Среди них торжественный, патетический, пафосный стиль описания.

Исторический жанр жития в древнерусской литературе был очень широко распространён. Смысл его названия очень прост – это жизнеописание различных святых, со всеми соответствующими особенностями. Но житие отличается от светских биографий по ряду признаков.
Особенности и характеристики жанра жития в древнерусской литературе
Жанровое своеобразие жития проявилось в строгих структурных и содержательных ограничениях, таких, как литературный этикет и канон. Целью его создания было распространение влияния христианства, так как житие представляет собой жизнеописание христианских святых. В Европе истоки и традиции жития уходят корнями в первые дни существования христианской религии, на Руси же первые произведения в этом жанре были посвящены отдельным святым, а за основу их авторы брали произведения греческих авторов. Основной их задачей была «похвала» святому, а недостаток достоверных сведений возмещался различными историческими приёмами. Всего насчитывается 156 древнерусских произведений в жанре жития.

Вот список характерных особенностей произведений в жанре жития:
- Обязательное описание различных чудес, сотворённых святым.
- Отсутствие черт индивидуальности в описании жизни святого и его чудес. Многие жития очень похожи друг на друга. Впрочем, из этого правила бывают и исключения.
- Восхваление духовных и иных подвигов святого таким образом, чтобы его жизнеописание стало примером для подражания.
- Описание молитв святого.

Примеры произведений в жанре жития
Изучением литературных произведений в этом жанре занимается богословская дисциплина агиография. Многочисленные жития сохранились до наших дней отчасти благодаря труду авторов в XIX веке (А. Бахметев, А. Муравьёв, Д. Эристов, архиепископ Филарет), которые скомпоновали их в сборники.
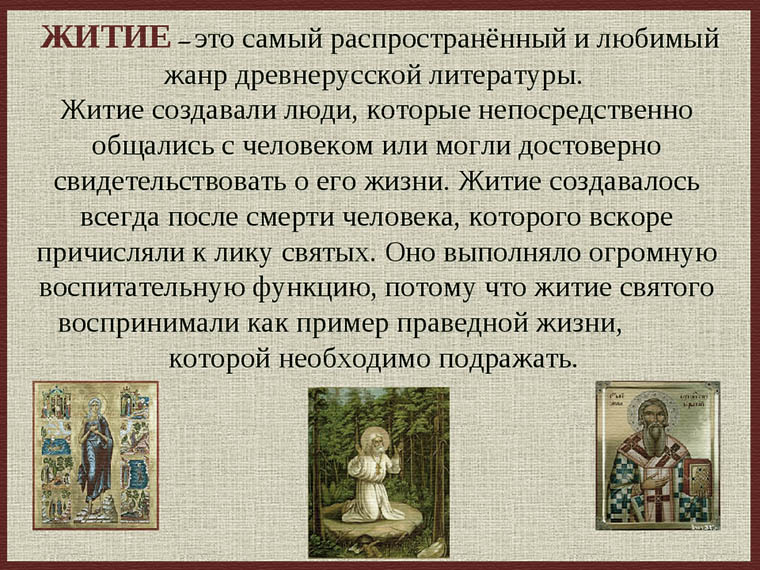
- Чтение о житие и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба
- Житие Феодосие Печерского
- Житие Александра Невского
- Житие протопопа Аввакума
- Житие преподобного Кирилла Белозерского
- Житие преподобного Саввы Вишерского
- Житие святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
- Житие святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
- Житие святителя Ионы, архиепископа Новгородского
- Житие святителя Моисея, архиепископа Новгородского
- Житие митрополита всея Руси святого Алексия
- Житие преподобной Евфросинии Полоцкой
5. Агиография
Наряду с летописанием, как и в предшествующие столетия, в XIII в. важнейшим жанром древнерусской литературы является агиография — жития святых: повествования о жизни и подвигах людей, признанных церковью святыми. Как уже говорилось выше, авторы житий в своем творчестве были тесно связаны требованием строго соблюдать жанровые каноны, выработанные многовековой историей этого, церковно-религиозного по своим задачам, жанра. В этом причина отвлеченности, риторичности житий, того, что жития разных святых, написанные в разное время, во многом похожи друг на друга. Но, что также уже отмечалось выше, героями житий становились реальные исторические личности; авторы житий были людьми своего времени, и в той или иной степени в написанных ими житиях находили отклик политические концепции этого времени; одним из источников, к которым прибегали агиографы, были устные предания о святом, а в этих устных преданиях отражались и реальные события из жизни святого, и сказочно-фантастические легенды о нем. Все эти факторы действовали разрушающе на жанровые каноны, способствовали проникновению в житийные произведения исторически-злободневных, публицистических, сюжетно-увлекательных эпизодов. Чем значительнее отступления в житии от жанровых канонов, тем интереснее такое житие в литературном отношении. Разумеется, в любом случае имеет значение и литературный талант автора жития. Эти характерные черты агиографического жанра, присущие ему изначала, нашли отражение и в житиях, написанных в рассматриваемый нами период истории древнерусской литературы.
Ниже мы остановимся на четырех памятниках агиографического жанра этого времени: два из них — жития церковно-религиозных деятелей, два — княжеские жития.
Житие Авраамия Смоленского. Жития подвижников церкви, которые можно датировать серединой — концом XIII в., в целом должны быть охарактеризованы как памятники, строго соблюдающие каноны житийного жанра. Образцом может служить «Житие Авраамия Смоленского», составленное Ефремом в середине XIII в. Житие начинается с риторического вступления общего характера и заканчивается столь же риторической похвалой святому. О себе автор жития говорит с крайней степенью самоуничижения. О биографических фактах из жизни своего героя, хотя Ефрем был учеником Авраамия и мог слышать о событиях его жизни от него самого, агиограф рассказывает отвлеченно и обобщенно. При этом, в соответствии с требованиями агиографического этикета, он употребляет стилистические штампы: Авраамий родился «от верну родителю», в юношеские годы он «на игры с инеми не исхожааше», в монастыре он «пребысть… в труде и в бдении и в алкании день и нощь», «вь всем повинуяся игумену и послушание имеа къ всеи братьи».[215] Основное содержание «Жития Авраамия» — рассказ о его проповеднической деятельности в Смоленске, о гонениях, которые он претерпевает от местного духовенства и от смолян. Рассказано об этом довольно красочно, но отвлеченно и риторично — намеками, сопоставлениями с библейскими событиями, иносказательно. Составить из этого рассказа конкретное представление о том, почему Авраамий вызвал к себе такую неприязнь и духовенства, и жителей Смоленска, каким образом ему все же удалось избежать нависшей над ним угрозы физической расправы, очень трудно.
Житие Варлаама Хутынского. Во 2-й половине — конце XIII в. в Новгороде была составлена первоначальная редакция «Жития Варлаама Хутынского», основателя Хутынского монастыря под Новгородом. Это житие проложного типа — краткий рассказ о жизни святого, предназначенный для Пролога. Здесь в сжатой форме сообщаются основные сведения о жизненном пути подвижника — основателя монастыря. И как характерную черту житийного жанра следует отметить, что в этом житии, иного типа, чем «Житие Авраамия», и не зависящем от последнего, общие места совпадают с «Житием Авраамия». В «Житии Варлаама Хутынского» мы также читаем: «Родися… от верну родителю и крестьяну и богобоязниву», «И еще ун сы на игры с инеми человекы не изволи изиити».[216]
В то время, когда составлялась первоначальная редакция «Жития Варлаама Хутынского», в устной традиции бытовали легендарные рассказы о нем сказочного и новеллистического характера. Но в письменный житийный текст такие рассказы стали включаться позднее. В XIII в. в житие церковного подвижника эпизоды бытового, сказочно-легендарного характера не включаются.
Иную картину наблюдаем мы в княжеских житиях, создававшихся в это же время. При сохранении целого ряда агиографических этикетных положений, образов, словесных штампов, в княжеских житиях значительны отклонения от канона, нарушения его. Прежде всего это обусловливалось тем, что героем жития выступал государственный деятель, а не подвижник церкви, кроме того, именно в княжеских житиях, написанных в рассматриваемый период, отразились события монголо-татарского нашествия и ига. В это время создается «Житие Александра Невского», великого полководца и государственного деятеля Древней Руси, появляется ряд княжеских житий, в которых князь выступает не только как государственный деятель и полководец, но и как князь-страдалец, принявший мученическую смерть в Орде.
Житие Александра Невского. «Житие Александра Невского» в первоначальной редакции было написано в Рождественском монастыре во Владимире, где был погребен князь (ум. в 1263 г.), вероятнее всего, до 1280 г., года смерти митрополита Кирилла, так как целый ряд данных говорит о его участии в создании этого жития. «Житие Александра Невского» должно было показать, что и после Батыева нашествия, после разгрома русских княжеств на Руси все же остались сильные и грозные князья, которые могут постоять за русские земли в борьбе с врагом и воинская доблесть которых внушает страх и уважение окружающим Русь народам.
«Житие Александра Невского» манерой описания военных столкновений, отдельными чертами стиля, композиции, фразеологии сближается с «Летописцем Даниила Галицкого». По убедительному предположению Д. С. Лихачева, такая близость этих произведений объясняется причастностью к их созданию митрополита Кирилла II.[217] Кирилл был близок к Даниилу Галицкому и участвовал в составлении «Летописца Даниила Галицкого»,[218] а позже, обосновавшись в Северо-Восточной Руси, он принимал горячее участие в государственной деятельности Александра Невского. «Вне всякого сомнения, — пишет Д. С. Лихачев, — Кирилл имел отношение к составлению жизнеописания Александра. Он мог быть и автором, но вернее всего он заказал житие кому-нибудь из проживающих на севере галицких книжников».[219]
«Житие Александра Невского» имеет и существенное жанровое отличие от «Летописца Даниила Галицкого»: оно с самого начала писалось как произведение житийное, это памятник агиографического жанра.[220] Жанровые особенности нашли отражение в авторском предисловии с элементами самоуничижения и этикетными сведениями автора о себе, в том, как рассказчик сообщал в начале своего повествования о рождении и родителях Александра («… родися от отца милостилюбца и мужелюбца, паче же и кротка, князя великаго Ярослава, и от матере Феодосии»),[221] в рассказе о свершившихся по смерти Александра чудесах, в многочисленных отступлениях церковно-риторического характера. Но реальный образ героя повествования, его деяния придали «Житию Александра Невского» особый воинский колорит. Чувство живой симпатии рассказчика к своему герою, о котором он не только слышал «от отець своих», а и сам был «самовидець възраста его» (с. 159), преклонение перед его воинскими и государственными делами придали «Житию Александра Невского» какую-то особую искренность и лиричность.[222]
Характеристики Александра Невского в Житии очень разноплановы. В соответствии с житийными традициями подчеркиваются «церковные» добродетели Александра. О таких, как Александр, говорит автор, пророк Исайя сказал: «Князь благ в странах — тих, уветлив, кроток, съмерен — по образу божию есть» (с. 175). Он «бе бо иереелюбець и мьнихолюбець, и нищая любя. Митрополита же и епископы чтяше и послушааше их, аки самого Христа» (с. 176). А с другой стороны, это мужественный, страшный для врагов герой-полководец. «Взор [вид, образ] его паче [здесь — величественнее] инех человек, и глас его — акы труба в народе» (с. 160). Побеждая, сам Александр непобедим: «… не обретеся противник ему в брани никогда же» (с. 172). В своих воинских действиях Александр стремителен, самоотвержен и беспощаден. Узнав о приходе на Неву шведов, Александр, «разгореся сердцем», «в мале дружине» устремляется на врага. Он так спешит, что ему некогда «послати весть к отцю своему», а новгородцы не успевают собрать свои силы в помощь князю. Стремительность Александра, его богатырская удаль характерны для всех эпизодов, в которых говорится о его ратных подвигах. В этих описаниях Александр представал уже как эпический герой. Сочетание в одном повествовательном ряду подчеркнуто «церковного» и еще ярче выражающегося «светского» плана — стилистическая особенность «Жития Александра Невского». И замечательно, что при этой разноплановости и, казалось бы, даже противоречивости характеристик Александра образ его целен. Цельность эта создается лирическим отношением автора к своему герою, тем, что Александр для автора не только герой-полководец, но и мудрый, заботящийся о своем народе государственный деятель. Он «сироте и вдовици в правду судяй, милостилюбець, благ домочадцемь своим» (с. 175). Это идеал мудрого князя, правителя и полководца. Не случайно, описывая смерть Александра, автор Жития в одном из своих горестных восклицаний почти повторяет Даниила Заточника: «Отца бо оставити человек может, а добра господина не мощно оставити» (с. 178) (ср. у Даниила Заточника: «Князь щедр отець есть слугам многиим: мнозии бо оставляють отца и матерь, к нему прибегают»).
Героико-эпический дух «Жития Александра Невского» обусловил включение в текст Жития эпизода, повествующего о шести храбрецах, отличившихся во время битвы на Неве. Автор говорит, что он слыхал об этом от самого Александра и «от иных, иже в то время обретошася в той сечи» (с. 168). Видимо, в основе эпизода лежит какое-то устное эпическое предание или, возможно, героическая песня о шести храбрецах. Правда, автор Жития лишь перечислил имена героев, кратко сообщив о подвиге каждого из них.
Описывая ратные подвиги Александра, автор Жития с несвойственной для агиографа свободой пользовался и воинскими эпическими преданиями, и изобразительными средствами воинских повестей. Этим объясняется стилистическое своеобразие «Жития Александра Невского», а оно в свою очередь было обусловлено и реальным обликом героя Жития, и задачей автора нарисовать идеальный образ князя — защитника родины. Автор «Жития Александра Невского» так удачно разрешил поставленную перед собой задачу, что это Житие вплоть до XVI в. служило своеобразным эталоном «высокого» стиля изображения князя-полководца.
Житие Михаила Черниговского. Близко по времени создания к «Житию Александра Невского» и «Житие Михаила Черниговского». Это иной тип княжеского жития эпохи монголо-татарского ига. В 1246 г. в Орде по приказанию Батыя был убит черниговский князь Михаил Всеволодович вместе с сопровождавшим его в Орду боярином Федором. Убийство носило политический характер, но в Житии гибель Михаила представлена как добровольное страдание за православную веру.
Как уже говорилось выше, запись о гибели в Орде Михаила Черниговского была помещена в Ростовском летописном своде княгини Марьи. Дочь Михаила Всеволодовича, ростовская княгиня Марья вместе с сыновьями установила церковное почитание Михаила и боярина Феодора в Ростове. В связи с этим было написано проложное житие Михаила Черниговского — краткий рассказ о его гибели в Орде. Житие было написано до 1271 г. (года смерти княгини Марьи). Это краткое проложное «Житие Михаила Черниговского» послужило основой для целого ряда более поздних и более пространных редакций житийного повествования о гибели в Орде черниговского князя. Первая из этих редакций была составлена в конце XIII — начале XIV в. священником Андреем.[223]
Пришедший в Орду на поклон к Батыю черниговский князь отказывается выполнять татарские обряды: пройти меж огней и поклониться татарским идолам. Михаила убивают. Боярин Федор поступает так же, как его господин, и тоже гибнет. Отправляясь в Орду, и Михаил и Федор знают, что их ждет там гибель, но они для того и идут, чтобы «обличить» идолопоклонство — «нечестивую веру». Эта линия Жития имеет ярко выраженную церковную окраску. Но в Житии не менее сильна и линия психологически-драматическая. Находившийся в это время в Орде внук Михаила, ростовский князь Борис, и другие русские, случившиеся в это время в Орде, уговаривают черниговского князя подчиниться воле татар, обещая со всеми своими людьми принять за него епитимью. Боярин Федор опасается, что уговоры подействуют на князя: вспомнив «женьскую любовь и детей ласкание»,[224] князь уступит и подчинится требованиям татар. Но Михаил тверд. Он решил выполнить долг до конца. Сняв с себя княжеский плащ, Михаил бросает его в ноги уговаривающих и восклицает: «Примите славу света сего, ея же вы хощете». С драматическими подробностями, замедляющими повествование и усиливающими его эмоциональное воздействие, рассказывается, как были убиты Михаил и Федор.
Эта вторая линия Жития — рассказ об обстоятельствах убийства князя и боярина делала его не отвлеченным церковно-религиозным повествованием о страдании за веру, но животрепещущим рассказом о татарской жестокости и о непреклонной гордости русского князя, который жертвует жизнью за честь своей земли.
По образцу «Жития Михаила Черниговского» в XIV в. будет написано «Житие Михаила Ярославича Тверского», убитого в Орде в 1318 г. по проискам московского князя Юрия Даниловича. И здесь князь добровольно идет в Орду. Но самоотверженность его объясняется уже не религиозными мотивами, а заботой князя о судьбе своего княжества. Рассказ об унижениях Михаила Ярославича в Орде, об обстоятельствах его гибели осложнен рядом сильных деталей и психологически острых ситуаций.
Читайте также
Древнерусская агиография
Древнерусская агиография
Древнерусская агиография старалась в житиях увековечить в назидание потомству память обо всех отечественных подвижниках благочестия; о некоторых составилось по нескольку житий и отдельных сказаний. Далеко не все эти повествования дошли до
3. Агиография
3. Агиография
В первой половине XIV в. в агиографии, как и в летописании, должны быть отмечены те же явления, что и в предшествующий период. Пишутся жития подвижников церкви и монашества, княжеские жития. К первому виду житий относится написанное в это время «Житие
4. Агиография
4. Агиография
Наряду с летописанием агиография, как и в предшествующие периоды, остается одним из основных литературных жанров. И так же как летописание, этот жанр в рассматриваемое время достигает большого развития и претерпевает целый ряд важных изменений.Как уже
3. Агиография
3. Агиография
Жития второй половины XV в. могут быть отделены от житий предшествующего периода лишь условно; деятельность одного из наиболее выдающихся представителей епифаньевской агиографической школы — Пахомия Логофета — в значительной степени относилась ко второй
АГИОГРАФИЯ
АГИОГРАФИЯ
Архиепископ Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. В 3-х т. (репринтное воспроизведение издания: г. Владимир, 1901 г.). М.: Православный Паломник, 1997.Барсуков К Источники русской агиографии. СПб., 1882.Голубинский Е.Е. История канонизации Святых в Русской Церкви.
Агиография
Агиография
Жития святых; рассказы о жизни, страданиях и подвигах благочестия людей, канонизированных церковью, признанных святыми и официально удостоенных почитания. Жития святых называются агиографией (от греческого «агиос» – «святые» и «граф» – «пишу»). В житиях
Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)
Библиографическая запись:
Общие характеристики жанра жития в древнерусской литературе. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/russkaya-literatura-xi-xvii-vekov/obshchie-kharakteristiki-zhanra-zhitiia-v-drevnerusskoi-literature/ (дата обращения: 10.01.2023)
Житие — жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых. Житие создавалось после смерти святого, но не всегда после формальной канонизации. Для жития характерны строгие содержательные и структурные ограничения (канон, литературный этикет), сильно отличающие его от светских биографий. Изучением житий занимается агиография.
Жанр жития был заимствован из Византии. Это самый распространенный и любимый жанр древнерусской литературы. Житие было непременным атрибутом, когда человека канонизировали, т.е. причисляли к лику святых. Житие создавали люди, которые непосредственно общались с человеком или могли достоверно свидетельствовать о его жизни. Житие создавалось всегда после смерти человека. Оно выполняло огромную воспитательную функцию, потому что житие святого воспринимали как пример праведной жизни, которой необходимо подражать. Кроме этого, житие лишало человека страха смерти, проповедуя идею бессмертия человеческой души. Житие строилось по определенным канонам, от которых не отходили вплоть до 15-16 веков.
Каноны жития
Благочестивое происхождение героя жития, родители которого обязательно должны были быть праведниками. Святого родители часто вымаливали у Бога.
Святой рождался святым, а не становился им.
Святой отличался аскетическим образом жизни, проводил время в уединении и молитве.
Обязательным атрибутом жития было описание чудес, которые происходили при жизни святого и после его смерти.
Святой не боялся смерти.
Заканчивалось житие прославлением святого.
Одним из первых произведений житийного жанра в древнерусской литературе было житие святых князей Бориса и Глеба.
Жанр жития в древнерусской литературе
Древнерусская литература житий святых собственно русских начинается жизнеописаниями отдельных святых. Образцом, по которому составлялись русские «жития», служили жития греческие типа Метафраста, то есть имевшие задачей «похвалу» святому, причём недостаток сведений (например о первых годах жизни святых) восполнялся общими местами и риторическими разглагольствованиями. Ряд чудес святого — необходимая составная часть жития. В рассказе о самой жизни и подвигах святых часто вовсе не видно черт индивидуальности. Исключения из общего характера первоначальных русских «житий» до XV века составляют (по мнению проф. Голубинского) лишь самые первые по времени жития — «Чтение о житие и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского», составленные преподобным Нестором, житие Леонтия Ростовского (которое Ключевский относит ко времени до 1174 года) и жития, появившиеся в Ростовской области в XII и XIII вв., представляющие безыскусственный простой рассказ, тогда как столь же древние жития Смоленской области («Житие св. Авраамия» и др.) относятся к византийскому типу жизнеописаний. В XV веке ряд составителей житий начинает митроп. Киприан, написавший житие митроп. Петра (в новой редакции) и несколько житий русских святых, вошедших в состав его «Степенной книги» (если эта книга действительно им составлена).
С биографией и деятельностью второго русского агиографа, Пахомия Логофета, подробно знакомит исследование проф. Ключевского «Древнерусские Жития святых, как исторический источник», М., 1871). Он составил житие и службу св. Сергию, житие и службу преп. Никону, житие св. Кирилла Белозерского, слово о перенесении мощей св. Петра и службу ему; ему же, по мнению Ключевского, принадлежат житие св. новгородских архиепископов Моисея и Иоанна; всего им написано 10 житий, 6 сказаний, 18 канонов и 4 похвальных слова святым. Пахомий пользовался большой известностью у современников и потомства и был образцом для других составителей житий.
Не менее знаменит как составитель житий Епифаний Премудрый, живший сначала в одном монастыре с св. Стефаном Пермским, а потом в монастыре Сергия, — написавший жития обоих этих святых. Он хорошо знал Св. Писание, греческие хронографы, палею, летвицу, патерики. У него ещё более витийства, чем у Пахомия. Продолжатели этих трёх писателей вносят в свои труды новую черту — автобиографическую, так что по «житиям», ими составленным, всегда можно узнать автора. Из городских центров дело русской агиографии переходит в XVI веке в пустыни и отдаленные от культурных центров местности в XVI веке. Авторы этих житий не ограничивались фактами жизни святого и панегириком ему, а старались знакомить с церковными, общественными и государственными условиями, среди которых возникала и развивалась деятельность святого. Жития этого времени являются, таким образом, ценными первоисточниками культурной и бытовой истории Древней Руси.






