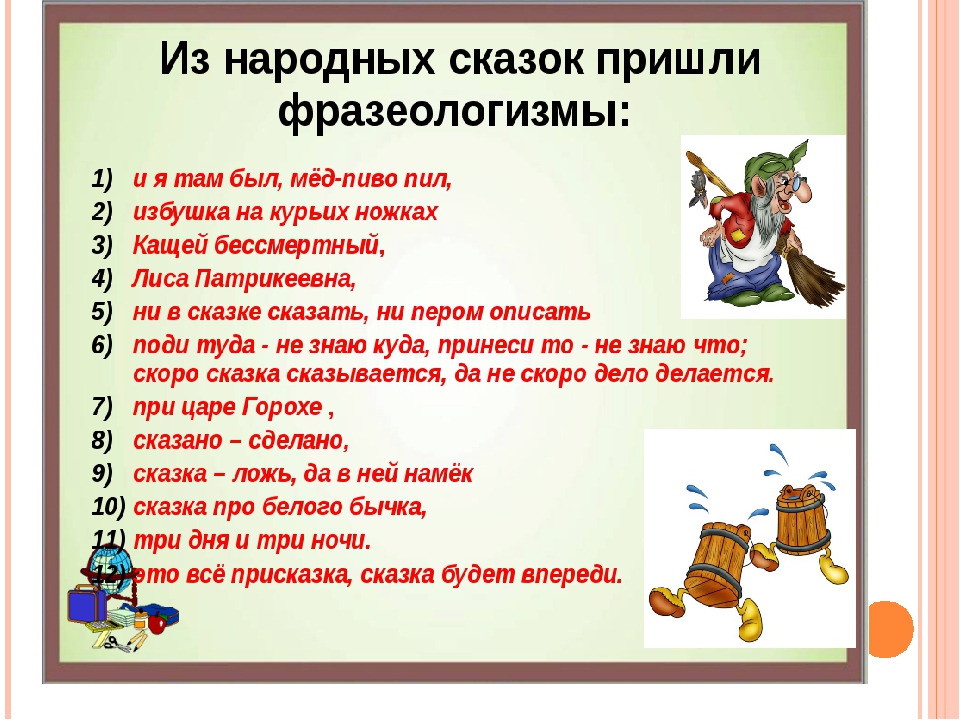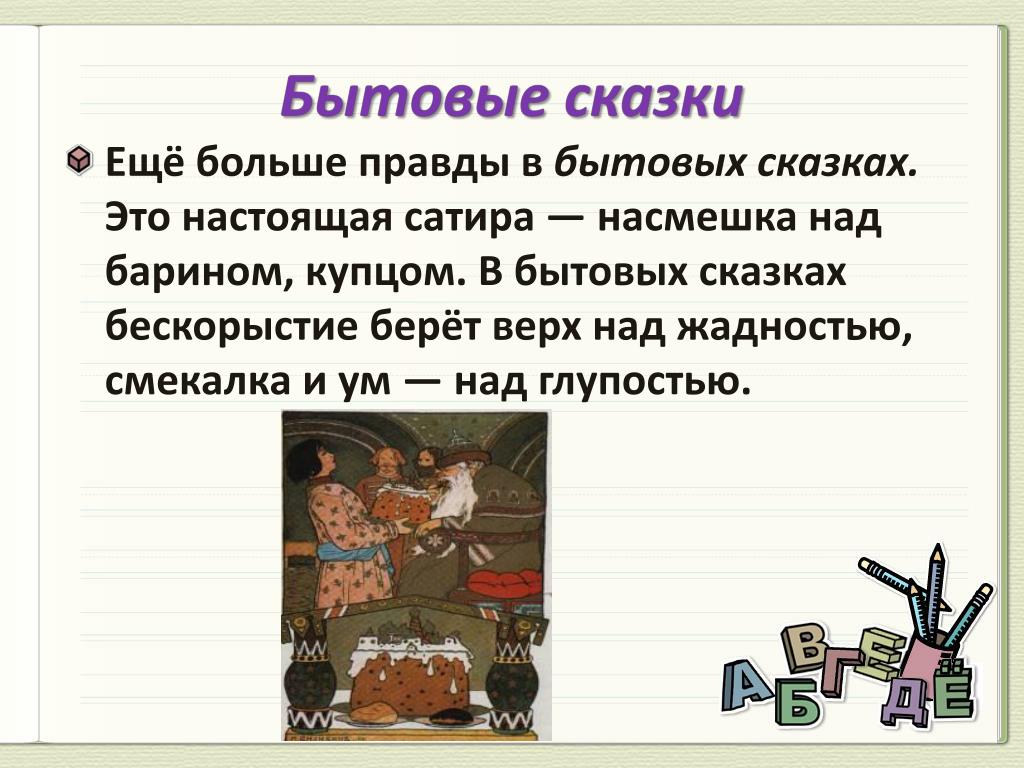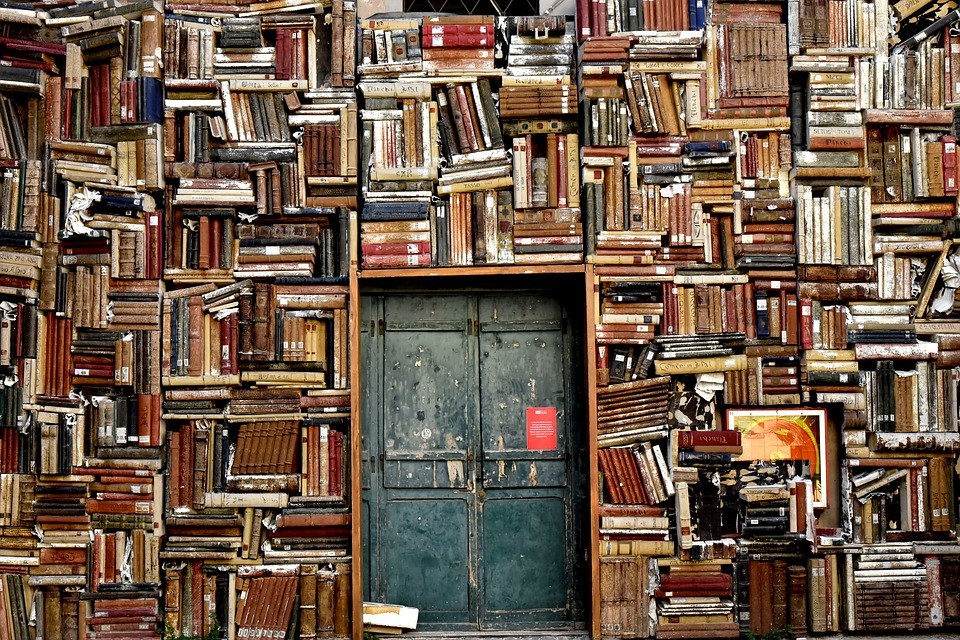На материале главы «Постигаем секреты сравнения» мы попытаемся показать, что произведения фольклора и литературы живут во времени.
Древнейший период истории человечества (охотничий период древности) связан с тем, что человек всесторонне зависел от Природы: от солнца и запасов воды в небесах, от диких животных, которые служили ему пищей. Эта полная зависимость вызвала к жизни обожествление природы: священными считались небесные светила, реки и озёра, леса и деревья, растения и животные. Для того чтобы выжить в этом природном мире, человеку необходимо было научиться договариваться с теми, кого он считал священными. Была выработана система ритуалов – обрядовой практики, осуществляя которую человек старался заручиться поддержкой всех тех сил и явлений, от которых он зависел. Главным в этот период древности считалась физическая сила человека и его связь с «другим», «чужим» миром (в сказках это волшебный мир), в состав которого входили духи всех явлений природы. Человек, умевший общаться с чужим миром, – непобедимый человек: ведь ему оказывают покровительство те, против которых бесполезно сражаться, ибо они несравнимо сильнее.
Следующий период древности (земледельческий) связан с тем, что человек начинает питаться не только за счёт охоты, но и за счёт того, что он научился обрабатывать землю – сажать и сеять, научился приручать животных. Зависимость от погодных условий (стихий) у него по-прежнему велика, но он уже многое умеет. В этот период ценится уже не просто физическая сила человека, но его наблюдательность и хитрость. Если зверя нельзя победить физически, его можно обхитрить. В этот период у человека появляется много всяких инструментов, орудий труда.
Чем дальше развивается человек, тем больше возрастает его самостоятельность, его независимость от мира природы, его самоуважение, тем больше начинают цениться его нравственные качества: способность помочь другу в трудную минуту, доброта, бескорыстие, порядочность, великодушие.
Древнейшие фольклорные крупные жанры (сказка о животных и волшебная сказка) и на уровне композиционных структур, и на уровне сюжетов по-своему отражают разные периоды древности. Кумуляция, то есть цепочка, – это наиболее древнее сказочное построение. Этих древнейших композиционных структур всего две: кумулятивная цепочка и замыкание событий на круг в докучной сказке.
Что касается сюжетов (мы их будем называть «сказочными историями»), то мы выделили три периода древности, назвав их «самые древние сказки», «просто древние сказки» и «менее древние сказки». К самым древним мы отнесли сказочные сюжеты, объясняющие происхождение, природу и причины всего на земле: природу явлений, особенности внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой. По этому признаку дети без всякого труда отличают самые древние сказочные сюжеты (речь идёт о сказках о животных).
К просто древним сказкам мы относим все сюжеты, где герой – хитрец, он побеждает своих врагов с помощью хитрости, причём хитрость не осуждается как черта характера, а воспринимается как преимущество героя. Так начинает складываться «литературная» лента времени. Завершается она в данном случае менее древними сказками: это сказки, где появляется благородный и бескорыстный герой – герой, помогающий другим в беде, не извлекая из этого никакой выгоды. Это сказки о животных, содержащие откровенно воспитательный пафос. Именно из них чуть позже разовьётся жанр басни. Что касается прямого различения сказочных сюжетов по времени, то самый тонкий и сложный момент появляется тогда, когда в одной и той же сказке нужно обнаружить черты, присущие разным временным периодам. Собственно, обнаружение этих черт – не проблема. Проблемой является понимание причин этого: мы должны понять, почему это возможно. Родившись в очень глубокой древности, сказка устно передаётся из поколения в поколение, то есть путешествует во времени. Проходят столетия. Жизнь людей меняется. Люди становятся сильнее и независимее от природы. У них появляются новые ценности (не просто сила, но хитрость; не просто хитрость, но мудрость; не просто мудрость, но благородство и великодушие и т. д.). И вот эти новые ценности начинают проникать в те сказки, которые путешествуют во времени. Древняя сказка начинает обрастать, обогащаться новыми чертами, сохраняя между тем и старые черты. Так, в одной и той же сказке можно обнаружить и черты самой древней сказки (например, в ней может объясняться внешний вид животного), и черты просто древней сказки (в ней может прославляться хитрый герой, который всех обманывает), и черты менее древней сказки (этот же герой или другой герой рядом с ним может обладать благородным и великодушным сердцем, бескорыстным стремлением помогать всем, кто попал в беду).
Кроме формирования исторического сознания на материале сюжетов сказок о животных мы должны дать представление о бродячих сюжетах: наличие одного и того же сюжета, известного у разных народов, не может быть объяснено сходством жизни и мышления этих народов, но может быть объяснено географическим путешествием сказочного сюжета. Помимо этого, в этой же главе удобнее всего сформировать представление о жанровом или тематическом сборнике (только сказки о животных; только самые древние сказки; только просто древние сказки; только сказки народов России и т. д.).
Ответы к заданиям. Литературное чтение. Учебник. Часть 1. Чуракова Н.А.
Сказка – особый жанр устного народного творчества, интересный не только детям, но и взрослым. Ранее они создавались именно для людей постарше, чтобы развлечь или поучить их. Однако и малыши любили послушать рассказы о приключениях необычных персонажей. Известно, что жанр этот зародился довольно давно. Предлагаем познакомиться с самыми древними сказками.
Особенности
Сам жанр в былые времена именовался «байка», «басня». К их содержанию серьезно не относились, люди не верили в реальность происходящего в таких текстах, поэтому основной задачей сказки было развлекать слушателя. Но при этом содержание самых древних сказок было гораздо более сложным, чем может показаться на первый взгляд. В текстах можно найти реалии быта ранних эпох, а не только фантастический элемент.
Произведения со всего света
В самых древних сказках народов мира присутствует немало общих сюжетов, героев и злодеев. Причин этому несколько:
- Народности прошлого нередко жили в сходных условиях, поэтому развитие их проходило очень похожими путями.
- Нередко разные народности имели общего предка.
- Племена могли взаимодействовать друг с другом – торговать или воевать. Именно так передавались сюжеты и персонажи.
К числу древнейших сказок народов мира следует отнести тексты про животных. При этом главными действующими персонажами становились те представители фауны, которые обитали на территории той или иной страны:
- На Руси это чаще всего волк и лиса, медведь и заяц.
- В сказках коренных американских индейцев ведущими героями были койоты, быки, бизоны, бекасы.
- В текстах Древней Индии нередко действуют слоны, змеи, тигры, обезьяны, верблюды.
Самые древние сказки высмеивали многочисленные людские пороки: глупость и алчность, трусость и бахвальство.
Специфика текстов
Отличительная черта каждого текста – животные наделялись человеческими чертами. То есть они действовали, как люди, разговаривали. Безымянные авторы сохранили некоторые особенности, присущие природному миру:
- Лиса в русских сказках символизирует хитрость, медведь – грубую силу, заяц – персонаж сложный. Иногда он откровенно труслив, но в отдельных случаях проявлял небывалую смекалку и мог даже обмануть лисицу.
- Сохранялись и отношения в природе «хищник – добыча». Так, в самых древних сказках желанной добычей для лисы или волка является заяц, курица и петух, что в целом соответствовало отношениям этих зверей в естественных условиях.
Некоторые исследователи полагают, что родиной самых древних сказок о животных была Индия, откуда они постепенно распространились по Азии и Европе. Другие, однако, придерживаются позиции, что жанр появился в Европе, в частности, Греции, откуда сказки распространились в Иран, Малую Азию и Индию.
Примеры древних текстов
Самые древние сказки о животных отличаются несколькими особенностями. Считается, что первые из них возникли в те времена, когда люди занимались охотой или скотоводством. Поскольку домашние животные являются их героями довольно редко, принято считать, что первые тексты возникли еще до одомашнивания. Совокупность подобных сказок носит наименование «животный эпос». Приведем примеры:
- «Теремок»;
- «Курочка Ряба»;
- «Колобок»;
- «Лиса и заяц»;
- «Звери в яме»;
- «Волк и коза»;
- «Лисичка сестричка и серый волк»;
- «Лиса, заяц и петух».
Почему же главными героями самых древних славянских сказок становились именно звери? В те далекие времена человек полностью зависел от природы, пищу себе он добывал, прежде всего, на охоте. При этом дикие животные нередко представляли собой реальную опасность для охотников с примитивным оружием. Именно поэтому звери представлялись ими более могущественными существами, чем они сами. Вот почему персонажами сказок становились именно лесные жители.
Основные герои
Рассмотрим, кто были главными действующими лицами самых древних сказок. Прежде всего, это лиса. Создатели животного эпоса именовали ее различными эпитетами:
- кумушка;
- Патрикеевна;
- красавица;
- рыжая.
В любом народном тексте эта героиня отличается набором постоянных признаков. Прежде всего, это хитрость. Лисица ловко одурачивала и волка, и медведя, и людей. Далее – она обманщица, бесчестная воровка, расчетливая и льстивая, изворотливая и находчивая. В отдельных текстах лиса предстает отрицательным персонажем, в других – даже вызывает симпатию. Интересно, что в таком же виде лису изображали произведения народов Германии и Франции.
Следующий герой, часто встречающийся в самых древних сказках, – волк. Он грубоват и глуповат, поэтому постоянно оказывается одураченным лисицей. Обмануть его совсем несложно, этот персонаж не отличается умом, поэтому он постоянно попадает в неприятные ситуации, становясь жертвой то хитрости лисицы, то козла, то человека.
Медведь не обладает комплексом постоянных черт, его главные особенности – неуклюжесть и недогадливость. Нередко мишка изображался косолапым, доверчивым тугодумом. Из природных особенностей народное сознание приписало герою могучую силу, которая нередко используется им неумело. Так, именно медведь стал причиной гибели Теремка, где благополучно расселились другие животные.
Наконец, заяц – образец трусости, боязни, но в отдельных произведениях проявлял себя с лучшей стороны как мудрый и рассудительный персонаж.
Самые древние сказки – это тексты, в которых ключевыми персонажами были дикие (позднее – и домашние) животные. Они наделялись человеческими чертами, могли говорить и действовали как люди.
Цели:
- систематизировать знания обучающихся о различных видах сказочных сюжетов
(самые древние, просто древние, менее древние сказки, а также бродячие
сказочные истории); - продолжить работу над формированием умений и навыков осознанного и
выразительного чтения; - развивать устную речь детей.
Материалы к уроку: учебник “Литературное чтение” (1 ч.), тетрадь для
самостоятельной работы по литературному чтению; карточки с отрывками из сказок;
презентация, выполненная в Microsoft Office Power Point.
Приложение 1.
Слайд 1.
1. Организационный момент.
Уж прозвенел звонок.
Поговорить о сказке
Все в класс приглашены.
– Ребята, что напомнили вам строки, которыми я начала сегодняшний урок? (Японские
стихи хокку.)
Япония находится очень далеко от нас, но и сказки, которые мы читали и будем
читать, также собраны со всего земного шара. Итак, я предлагаю вам сегодня:
Слайд 2.
- вспомнить (все самое главное)
- применить (свои знания)
- проявить (себя с самой лучшей стороны)
2. Классификация сказок.
- Составление кластера (работа в группах).
– Вспомните и обсудите, на какие группы делятся сказки по способу их создания
и по содержанию. Результаты оформите в виде кластера.
– Давайте проверим (выслушиваются ответы, сверяются с таблицей на экране)
Слайд 3.
- Признаки древних сказок.
Самые древние (задание для первой группы обучающихся) сказки
объясняли все самое важное: почему у животных именно такая внешность, почему они
именно так себя ведут, как и откуда все в мире происходит; кроме того, по
построению – это сказка-цепочка.
Просто древние (задание для второй пары обучающихся) сказки учат
ценить не столько силу, сколько ум и хитрость.
Менее древние (задание для третьей пары обучающихся) сказки учат
человека быть добрым и справедливым.
Проверка –
Слайд 4.
- Бродячие сказки (фронтально).
Бродячие сказки рассказывают похожие в разных уголках земного шара истории.
Примеры бродячих сказочных историй: “Два жадных медвежонка”, “Как
барсук и куница судились”, “О собаке, кошке и обезьяне” – о жадности; “Черепаха,
кролик и удав-маха”, “Хитрый шакал”, “По заслугам и расчет” – добро побеждает
зло.
- Расположить сказку на ленте времени. Слайды 5, 6..
3. Физкультминутка.
(Упражнение на релаксацию и внимание.)
– Если я буду называть глаголы, действия которых можно делать на уроке
– вы приседайте, если нельзя – распрямитесь и сделайте хлопок
над головой.
Читать, писать, прыгать, рисовать, хохотать, думать, драться, ругаться,
узнавать, запоминать, кричать, отвечать, шуметь, заучивать, убеждать, помогать,
выяснять, бегать.
4. Конкурс на лучшего чтеца сказок.
Ученики по очереди читают отрывки из сказок (из учебника и тетради),
класс оценивает, поднимая карточку с цифрой – “5”, “4”, “3”.
– Не забывайте, ребята, о том, что когда вы читаете шепотом или “про себя” –
вы читаете для себя. А когда вслух – для окружающих, это значит, им должно быть
интересно вас слушать. Помните также и о том, что оценивать друг друга нужно
объективно, то есть справедливо.
5. Физкультминутка для глаз.
Слайды 7, 8.
6. Повторение сказок.
- В каждой строке назови лишнего сказочного героя.
Слайд 9.
- Определи возраст сказки по ее названию.
Слайд 10.
(При необходимости в случае затруднения можно воспользовать гиперссылкой
и вернуться к Слайду 4.)
- Вспомни название сказки по ее отрывку.
Слайд 11.
“…А солнце уже высоко ходит, жарко припекает, снег тает, ручьями бежит с
гор. Затосковал заяц, еще громче заплакал. Услышал зайца хозяин леса…” –
“Снег и заяц”
“…Видит, сидит недалеко какое-то чучело: ростом больше вороны, на шести
высоких тонких ногах, крылья прозрачные, нос длинный, как вязальная спица…”
– “Ласточка и комар”
“…Сел медведь на лед, опустил в полынью свой коротенький хвост и стал ждать.
Но когда захотел он подняться, чтоб посмотреть, много ли рыбы попалось, то
почувствовал, что кто-то его крепко держит…” – “Вихио”
“…На берегу большой реки жили в ветхом шалаше старик да старуха. Бедно жили
они: каждый день старик отправлялся на реку рыбу ловить, старуха эту рыбу
варила или на углях пекла, тем только они сыты и были. Не поймает старик
ничего, так и вовсе голодают…” – “Золотая рыба”
“…Жил на Алтае старый большой медведь. Его любимая еда – кедровый орех. Брал
он орехи только с одного кедра. Толстый кедр, в шесть обхватов. Это дерево
старый большой медведь от зверей и людей заботливо охранял. Хорошо жилось
медведю подле него. Но вот однажды пришел медведь, а у толстого кедра орехов
нет…” – “Нарядный бурундук”
“…В давние времена жила в одной деревне вдова, у которой было две дочери.
Дочерей звали просто – Большая и Маленькая. Сестры Большая и Маленькая были
совсем разными. Большая была грубая и злая, да еще и жадная. А Маленькая ко
всем относилась с добротою…” – “Жемчужинка и жаба”
7. Рефлексия.
– Ребята, как вы думаете, удалось ли вам достичь цели, которая стояла в
начале урока? Оцените свою работу. Ответьте на вопросы (письменно,
индивидуально):
– Самым интересным сегодня было…
– Самым трудным для меня было…
– Самым неожиданным для меня было…
Приложение 1
На материале главы “Постигаем секреты сравнения” мы попытаемся показать, что произведения фольклора и литературы живут во времени.
Древнейший период истории человечества (охотничий период древности) связан с тем, что человек всесторонне зависел от Природы: от солнца и запасов воды в небесах, от диких животных, которые служили ему пищей. Эта полная зависимость вызвала к жизни обожествление природы: священными считались небесные светила, реки и озёра, леса и деревья, растения и животные. Для того чтобы выжить в этом природном мире, человеку необходимо было научиться договариваться с теми, кого он считал священными. Была выработана система ритуалов – обрядовой практики, осуществляя которую человек старался заручиться поддержкой всех тех сил и явлений, от которых он зависел. Главным в этот период древности считалась физическая сила человека и его связь с «другим», «чужим» миром (в сказках это волшебный мир), в состав которого входили духи всех явлений природы.
Человек, умевший общаться с чужим миром, – непобедимый человек: ведь ему оказывают покровительство те, против которых бесполезно сражаться, ибо они несравнимо сильнее.
Следующий период древности (земледельческий) связан с тем, что человек начинает питаться не только за счёт охоты, но и за счёт того, что он научился обрабатывать землю – сажать и сеять, научился приручать животных. Зависимость от погодных условий (стихий) у него по-прежнему велика, но он уже многое умеет. В этот период ценится уже не просто физическая сила человека, но его наблюдательность и хитрость. Если зверя нельзя победить физически, его можно обхитрить. В этот период у человека появляется много всяких инструментов, орудий труда.
Чем дальше развивается человек, тем больше возрастает его самостоятельность, его независимость от мира природы, его самоуважение, тем больше начинают цениться его нравственные качества: способность помочь другу в трудную минуту, доброта, бескорыстие, порядочность, великодушие.
Древнейшие фольклорные крупные жанры (сказка о животных и волшебная сказка) и на уровне композиционных структур, и на уровне сюжетов по-своему отражают разные периоды древности.
Что касается сюжетов (мы их будем называть «сказочными историями»), то мы выделили три периода древности, назвав их «самые древние сказки», «просто древние сказки» и «менее древние сказки». К самым древним мы отнесли сказочные сюжеты, объясняющие происхождение, природу и причины всего на земле: природу явлений, особенности внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой. По этому признаку дети без всякого труда отличают самые древние сказочные сюжеты (речь идёт о сказках о животных).
К просто древним сказкам мы относим все сюжеты, где герой – хитрец, он побеждает своих врагов с помощью хитрости, причём хитрость не осуждается как черта характера, а воспринимается как преимущество героя. Так начинает складываться «литературная» лента времени.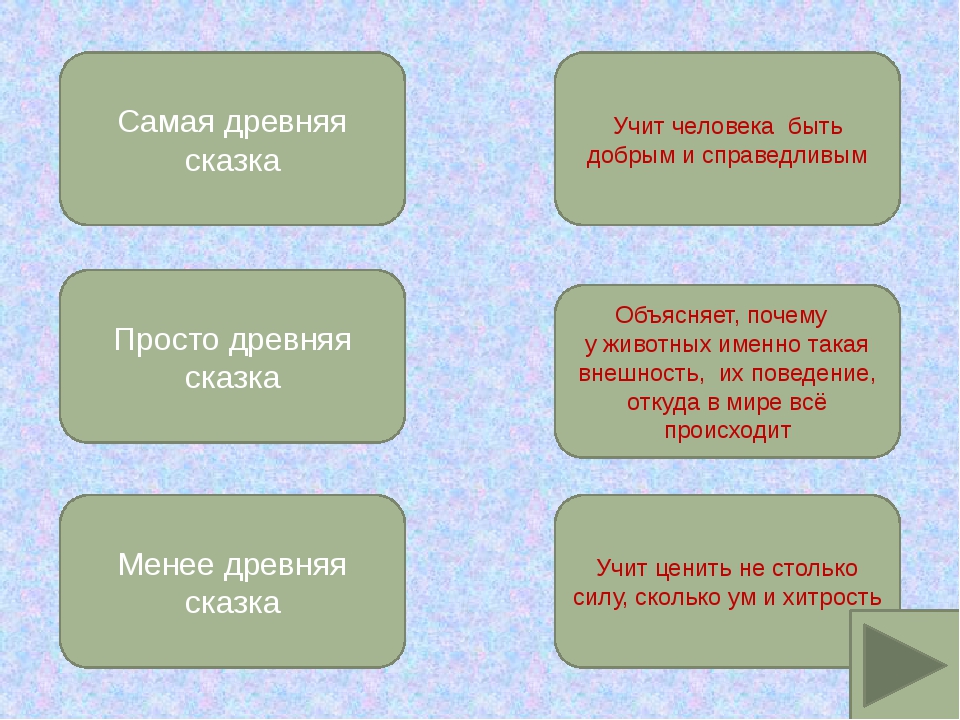
). И вот эти новые ценности начинают проникать в те сказки, которые путешествуют во времени. Древняя сказка начинает обрастать, обогащаться новыми чертами, сохраняя между тем и старые черты. Так, в одной и той же сказке можно обнаружить и черты самой древней сказки (например, в ней может объясняться внешний вид животного), и черты просто древней сказки (в ней может прославляться хитрый герой, который всех обманывает), и черты менее древней сказки (этот же герой или другой герой рядом с ним может обладать благородным и великодушным сердцем, бескорыстным стремлением помогать всем, кто попал в беду).
Кроме формирования исторического сознания на материале сюжетов сказок о животных мы должны дать представление о бродячих сюжетах: наличие одного и того же сюжета, известного у разных народов, не может быть объяснено сходством жизни и мышления этих народов, но может быть объяснено географическим путешествием сказочного сюжета. Помимо этого, в этой же главе удобнее всего сформировать представление о жанровом или тематическом сборнике (только сказки о животных; только самые древние сказки; только просто древние сказки; только сказки народов России и т.
д.).
Ответы к заданиям. Литературное чтение. Учебник. Часть 1. Чуракова Н.А.
Конспект урока литературного чтения и презентация на тему «Самые древние сказочные истории. Проектирование сборника сказок. Формирование умения составлять сборники сказок.» 3 класс ПНШ
Технологическая карта урока
Предмет: литературное чтение
Класс: 3 «а»
Учитель: Екимова Светлана Александровна
Дата проведения: 14 ноября 2017 года
УМК: «Перспективная начальная школа»
Тема: Самые древние сказочные истории. Проектирование сборника сказок. Формирование умения составлять сборники сказок.
Образовательные технологии: системно-деятельностный подход, сотрудничества, развития познавательного интереса, проблемного обучения, игрового обучения, ИКТ, взаимообучения, личностно-ориентированный подход.
Форма проведения урока: мультимедийная презентация
Цель: Систематизировать знания обучающихся о различных видах сказочных сюжетов (самые древние, просто древние, менее древние сказки, а также бродячие сказочные истории).
Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия для составления сборника сказок.
Содержательная цель: анализировать название текста и его содержание с целью выявления принадлежности к временному периоду; продолжить работу над формированием умений и навыков осознанного и выразительного чтения; развивать устную речь детей.
Личностные УУД:
— проявление творческого отношения к процессу обучения;
— проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной проблеме.
Метапредметные УУД
Познавательные УУД:
— умение извлекать информацию из учебника;
— находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
Регулятивные УУД:
— умение прогнозировать предстоящую работу ;
— умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
— умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Коммуникативные УУД:
— умение слушать и понимать других;
— умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;
— умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции.
Предметные УУД:
Распознавать черты сказок о животных и волшебных сказок, уметь определять место сказки на ленте времени, составлять различные сборники сказок.
Форма организации деятельности учащихся: работа в парах, в группах, индивидуальная, фронтальная.
Этапы урока
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Деятельность учителя
-
-
-
-
-
-
-
-
Деятельность учащихся
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Формируемые УУД
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Психологическая установка на урок.
Мотивация к деятельности.
-Сегодняшний урок я хочу начать необычно: послушайте, пожалуйста, мелодию Владимира Дашкевича и дайте ей характеристику: опишите при помощи имён прилагательных, какая она?
— Эта музыкальная заставка подскажет вам тему урока.
А в помощь вот такая пиктограмма. Слайд № 2
Разгадав её, вы назовете тему.
Слайд №3
Слушают мелодию «В гостях у сказки»
— Нежная, мелодичная, волшебная, сказочная.
Появляются картинки:
собака, крокодил, аист, заяц, кенгуру, индюк
-Здесь зашифровано слово СКАЗКИ. Мы будем работать со сказками.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Уметь совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им (Коммуникативные УУД)
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Актуализация знаний и фиксация затруднения в действии.
Со сказками мы работаем не первый урок, поэтому, прежде чем поставить цель сегодняшнего урока, проверим домашнее задание.
— Как вы думаете, использует ли волк хитрость, чтобы обмануть лошадь? Прочитайте строчки, которые вы закрасили голубым карандашом.
А лошадь прибегает к хитрости? Докажите.
-Какая часть сказки позволяет причислить её к самым древним сказкам? Прочитайте.
— Черты какой сказки ещё вы заметили?
Кто встретил затруднения при выполнении задания? Какое самое главное?
ТПО с. 20 № 10
Немецкая сказка «Волк и лошадь».
Дети зачитывают отрывки сказки в соответствии с заданием.
Просто древней сказки.
Трудно определить время создания сказки.
Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других (Коммуникативные УУД)
3.
Сегодня постараемся разрешить эти затруднения.
Посмотрите на доску. Вы видите книги, в которые собраны различные сказки. Такие книги называются сборниками. Их вы можете взять в библиотеке и почитать. Вы ведь очень любите сказки.
Хотите научиться создавать сборники сказок?
Какую же вы ставите перед собой задачу?
Слайд №4 (задачи урока)
Мы стали умнее.
И многое знаем.
Любые мы сказки сравним.
Сегодня же сборники сказок составим
И время создания определим.
Дети рассматривают выставку сборников сказок.
Научиться составлять сборники сказок и продолжить учиться определять время появления сказок
Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя (Регулятивные УУД).
4. Построения проекта входа из затруднения детьми.
Для этого нужно отделить знания от незнания.
Слайд № 5.
— Что нам поможет в разрешении наших затруднений?
Откройте стр. 96. Это страница сборника, который предложил Маше Михаил Потапович.
-Скажите, большая часть этих сказок – сказки о животных или волшебные?
— Подтвердите своё мнение.
-А волшебные сказки здесь есть?
-Назовите их.
Миша сказал, что из этого сборника можно составить ещё один «Самые древние сказки о животных разных народов»
— А вы сумеете по названиям сказок определить какие из них САМЫЕ ДРЕВНИЕ? Поможем Мише?
Фронтальная работа по определению характерных черт самых древних, просто древних и менее древних сказок.
-Учебник «Литературного чтения»
-Сказки о животных.
— В названиях сказок фигурируют названия животных и почему они так выглядят.
-Волшебный беркут, Волшебная берёза.
Уметь оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД)
5.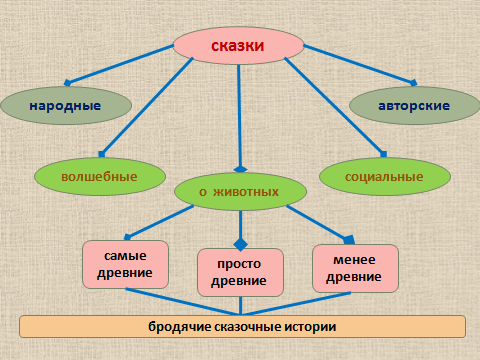
Слайд №6
— Что это за правила?
— Сейчас вы разделитесь на группы и выберете главного. Попрошу командиров подойти ко мне, я им выдам задания.
Отметьте значком V самые древние сказки о животных разных народов.
Слайд №7
Проверка по эталону.
Это правила работы в группе.
Обучающиеся работают по группам.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Уметь совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им (Коммуникативные УУД)
-
-
-
-
-
-
-
-
Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки (Регулятивные УУД).
6.Самостоятельная работа с самопроверкой (взаимопроверкой) по эталону.
Обратимся к нашему помощнику- учебнику с. 97.
Что предлагает нам сделать Костя Погодин?
Воспользуйтесь подсказкой летучей мыши.
Эту работу вы будете выполнять в парах на выданных вам листах.
Но сначала вспомним Правила работы в парах.
Слайд № 8
Сказки каких народов войдут в Костин сборник?
— Какие из этих сказок сказки о животных? Какие — волшебные?
ТЕПЕРЬ ВЫ УМЕЕТЕ СОСТАВЛЯТЬ СБОРНИКИ?
А КАКИЕ СБОРНИКИ СОСТАВИЛИ БЫ ВЫ?
Дети читают задание: «Из сборника «Сказки народов мира» можно составить сборник «Сказки народов России».
Но для этого надо смотреть не на названия сказок, а на……..
— КАКОМУ НАРОДУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТА СКАЗКА.
Работа в парах.
Проверка по эталону Слайд №9
Дети зачитывают названия сказок.
Сборник бирманских сказок, Сказки народов Африки, Сборник австралийских сказок
Уметь работать самостоятельно
(Регулятивные УУД).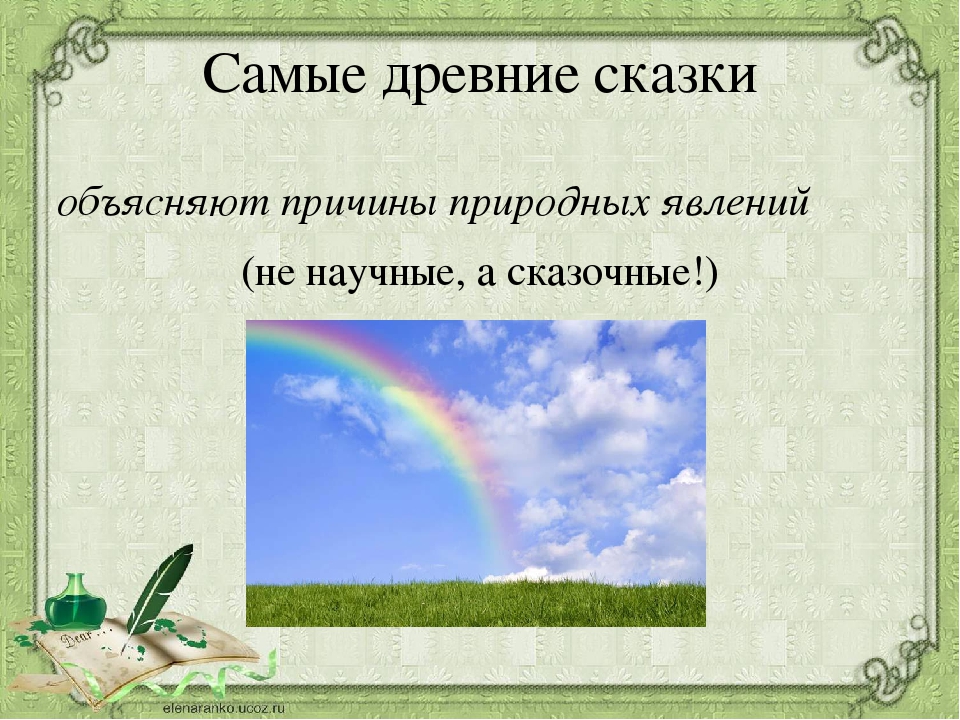
Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки (Регулятивные УУД).
Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков (Логические УУД)
7. Включение в систему знаний и повторение.
Сегодня мы познакомимся со сказкой «Снег и заяц».
ВОПРОСЫ:
-Это сказка о животных или волшебная?
— Найди место этой истории на ленте времени
(слайд №10)
— В какой бы сборник вы включили эту сказку?
Ученик читает. Остальные следят.
— Это сказка волшебная, т.к. герою помогает волшебный помощник – хозяин леса.
— Эта история относится к самым древним сказкам, так как объясняет, почему заяц именно так выглядит.
«Сказки народов России» или «Самые древние сказки о животных»
Уметь работать самостоятельно
(Регулятивные УУД).
8. Рефлексия деятельности (итог урока).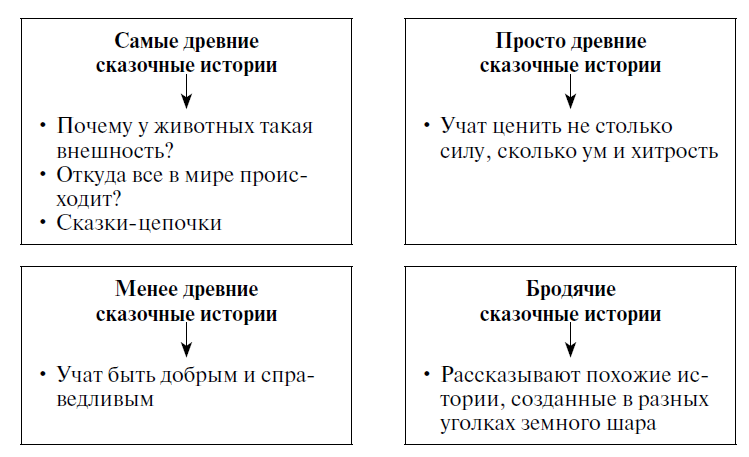
Пришло время подводить итоги. Вы сами должны оценить свою деятельность на уроке. Поиграем?
1. Игра «Да- Нет»
— Самые древние сказки учат человека хитростью побеждать врага.
+В бродячих историях сходны характеры героев и построение самих сказок.
+ Самые древние сказки объясняли, почему у животных именно такая внешность.
+Самые древние сказки изменялись и стали учить людей правильному поведению.
— Менее древние сказки учат ценить ум и хитрость.
2. Проверка по эталону. Слайд № 11
Какую задачу ставили на урок?
Удалось ли её решить?
Каким способом?
Где мы можем применить знания?
3. Оцените свою деятельность.
Слайд №12.
Поставьте себя на лесенке знаний. Слайд № 13
Дети работают в оценочных листах.
Проверяют заполнение таблицы.
4-5 человек отвечают на данные вопросы.
4-5 человек.
Ставят человечка на «Лесенке знаний».
Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки (Регулятивные УУД).
Уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности (Личностные УУД).
9. Домашнее задание.
Учебник с. 99-101, прочитать, ответить на вопросы 1, 2,3.
Дети записывают задание в дневник.
Проверочная работа по литературному чтению «Постигаем секреты сравнения» 3 класс, «ПНШ»
Фамилия, имя ____________________________________________
Проверочная работа по литературному чтению
«Постигаем секреты сравнения»
3 класс, «ПНШ»
1 вариант
1. Выбери, о каких сказках идёт речь:
Эти сказки появились в глубокой древности и объясняли самое важное: почему у животных такая внешность, почему они так себя ведут, как и откуда всё в мире происходит.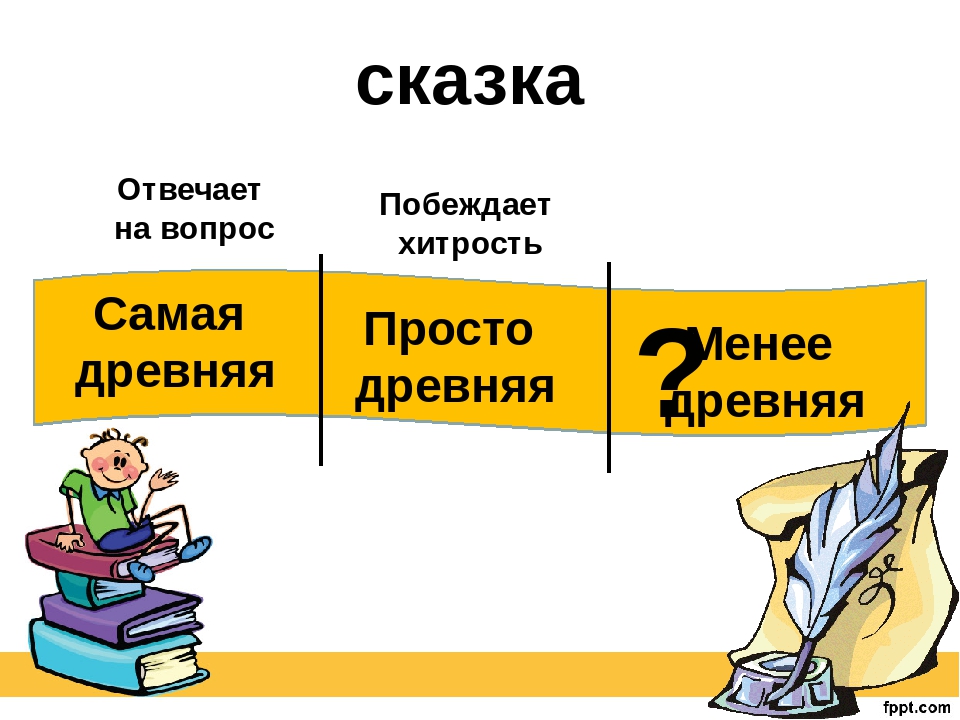
а) самые древние;
б) просто древние;
в) бродячие истории;
г) менее древние.
2. Выбери, о каких сказках идёт речь:
Сказка учит человека быть добрым, благородным и справедливым.
а) самые древние;
б) просто древние;
в) бродячие истории;
г) менее древние.
3. В сказке «Снег и заяц» заяц пришёл с просьбой:
а) к снегу;
б) к хозяину леса;
в) к солнцу.
4 . В каждой строчке подчеркни лишнего героя.
Гиена, черепаха, куница, леопард.
Черепаха, кролик, лиса, удав-маха.
Собака, кошка, медведь, обезьяна.
5.В сказке индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства» люди получили лекарства от:
а) от растений;
б) от животных;
в) от людей.
6. Вспомни африканскую сказку «Гиена и черепаха». Найди сказку со сходным сюжетом:
а) «Нарядный бурундук»;
б) «Хитрый шакал»;
в) «Два жадных медвежонка».
7. Герой сказки «Хитрый шакал» тигр —
а) хитрый;
б) сильный;
в) неблагодарный;
г) злой.
8. Что ценилось в просто древней сказке? Нужное подчеркни.
Жадность, зависть, хитрость, глупость, ум, трудолюбие.
9. Прочитай пословицы и подчеркни ту из них, которую можно использовать в качестве вывода к корейской сказке «Как барсук и куница судились»:
а). Один в поле не воин.
б). Один про Фому, другой про Ерёму.
в). Жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.
10. Отметь место корейской сказки «Как барсук и куница судились» на ленте времени.
Фамилия, имя ____________________________________________
Проверочная работа по литературному чтению
«Постигаем секреты сравнения»
3 класс, «ПНШ»
2 вариант
1. Выбери, о каких сказках идёт речь:
Сказочные истории учат ценить не столько силу, сколько ум и хитрость.
а) самые древние;
б) просто древние;
в) бродячие истории;
г) менее древние.
2. Выбери, о каких сказках идёт речь:
В сказках разных народов рассказываются похожие истории, у героев похожи характеры и сказки одинаково построены.
а) самые древние;
б) просто древние;
в) бродячие истории;
г) менее древние.
3. У кого из птиц в сказке по описанию хвост длинный и шарф на шее:
а) у галки;
б) у журавля;
в) у кулика;
г) у орла.
4. Самые древние сказки строятся по принципу:
а) кольца;
б) цепочки;
в) спирали.
5 . В каждой строчке подчеркни лишнего героя.
Тигр, человек, медведь, шакал.
Гиена, черепаха, куница, леопард.
Барсук, куница, кошка, лиса.
6. Прочитай пословицы и подчеркни ту из них, которую можно использовать в качестве вывода к корейской сказке «Как барсук и куница судились»:
а).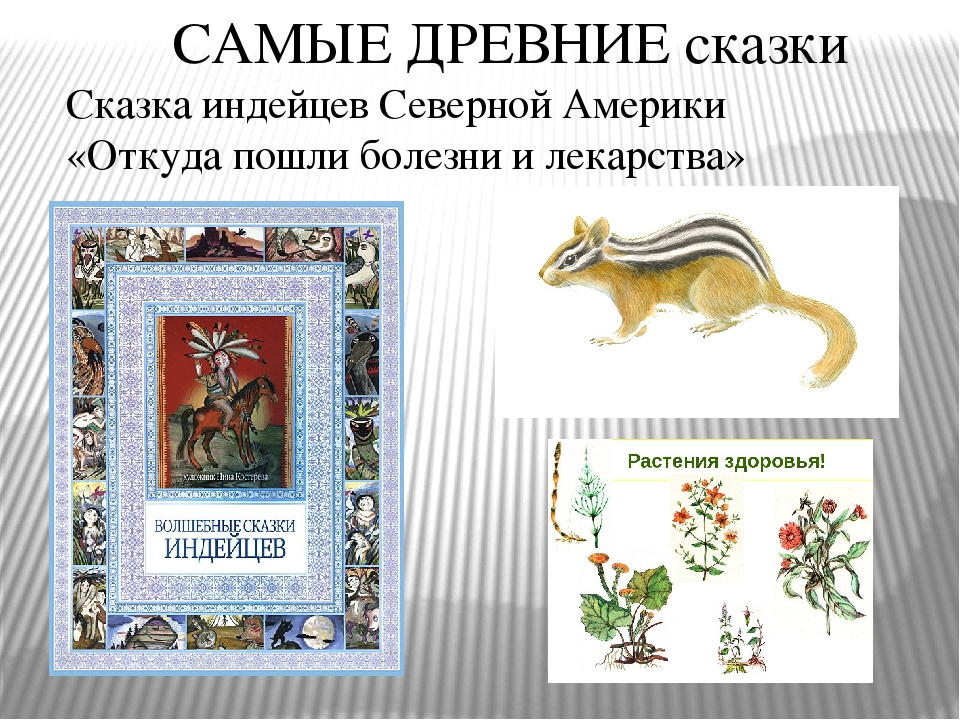
б). Один про Фому, другой про Ерёму.
в). Жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.
7. Вспомни корейскую сказку «Как барсук и куница судились». Найди сказку со сходным сюжетом:
а) «Нарядный бурундук»;
б) «Хитрый шакал»;
в) «Два жадных медвежонка».
8. Что ценилось в менее древней сказке? Нужное подчеркни.
Жадность, зависть, хитрость, глупость, справедливость.
9. Герой сказки «Черепаха, кролик и удав-маха» удав —
а) хитрый;
б) сильный;
в) неблагодарный;
г) злой.
10. Отметь место алтайской сказки «Нарядный бурундук» на ленте времени.
Постигаем секреты сравнения «Сказка гиена и черепаха» | Методическая разработка по чтению (3 класс) по теме:
Конспект урока литературного чтения, проведенного в 3 «В» классе МБОУ КСОШ № 1 студенткой 4«К» курса, специальность 050719.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Хныкиной Валентиной Сергеевной
Тема: Постигаем секреты сравнения.
«Сказка гиена и черепаха»
Цель:
Учить детей отличать самые древние сказочные сюжеты особенности внешнего вида животных, причины их поведения и взаимоотношений между собой.
Задачи:
1.Познакомить с африканской сказкой «Гиена и черепаха»;
2. Содействовать развитию внимания, устной речи, правильного, выразительного чтения;
3. учить детей пересказывать главные события сказки, отвечая
на вопросы учебника;
План:
I. Организационный момент
II. Речевая разминка
III. Проверка домашнего задания
1.Чтения сказки «Откуда пошли болезни и лекарства»
IV. Изучение нового
1.Работа до чтения.
2. Чтение подготовленными детьми
3. Повторное чтение
V. Итог урока
VI. Домашнее задание
Ход урока
I. Организационный момент.
Начинается урок,
Он пойдет ребятам впрок,
Постарайтесь все понять,
Интересное узнать.
Здравствуйте ребята! Сегодняшний урок чтения у вас проведу я, зовут меня Валентина Сергеевна.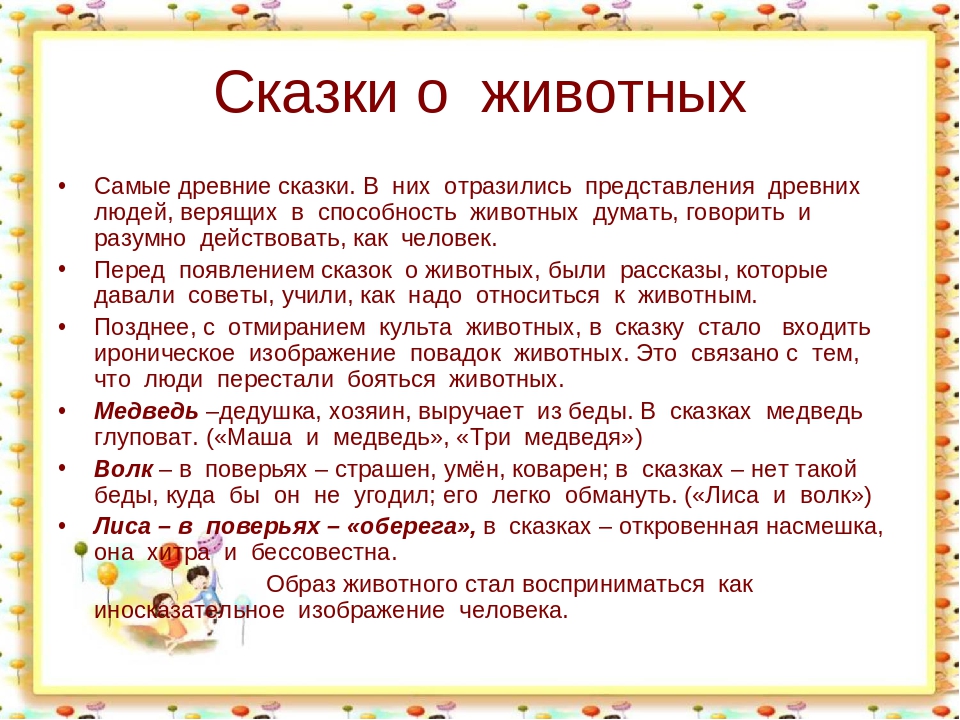
II. Речевая разминка.
Прежде чем начать урок мы проведём речевую разминку.
Упражнения для дыхания:
Представьте, что у вас День Рождения и у вас на столе стоит торт со свечками. Давайте все вместе задуем свечки.
Дикционные упражнения
Две сороки тараторки, тараторили на горке.
III. Проверка домашнего задания
Молодцы ребята с речевой разминкой мы справились. Теперь нам нужно отгадать загадку.
Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос.
(Медведь)
Он других не обижает.
Ест траву, в лесу гуляет,
Но ветвистыми рогами
Может справиться с волками!
(Олень)
На лугу по кочкам
Прыгают листочки!
Выпуклые глазки
И кривые лапки.
Только где же ушки?!
Что это? — (Лягушки.)
Чем-то схож я с белкой, детки.
Также я на ветку с ветки
Ловко прыгаю, играя.
Шубка есть, да не такая:
Спинка в чёрную полоску
Придаёт мне только лоску.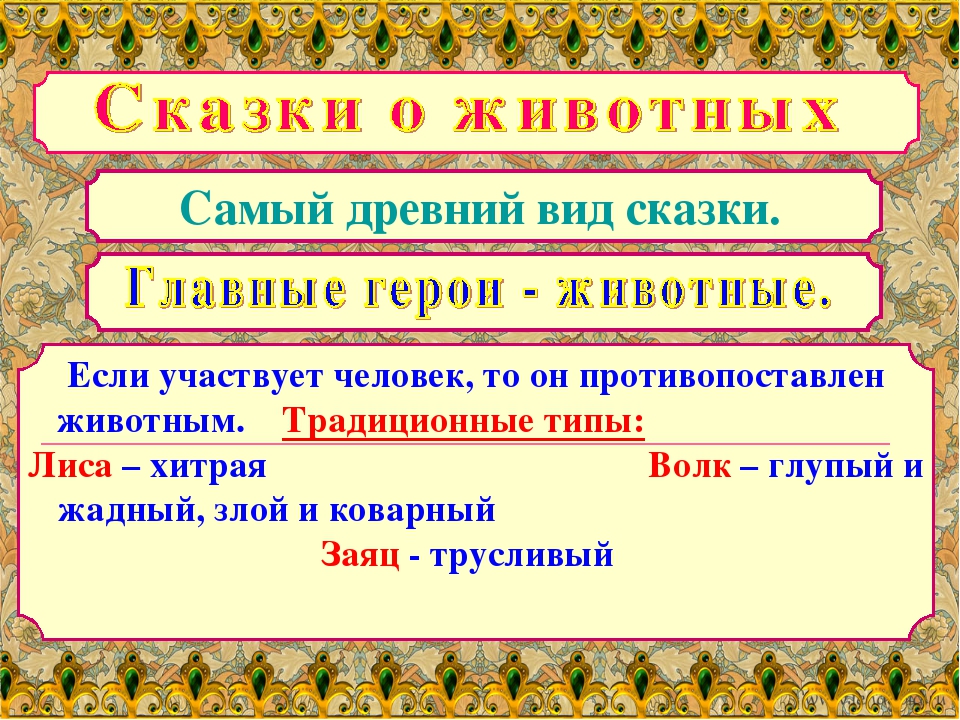
Хвост поменьше, лапки, ушки.
Обитаю на опушке.
Только та в дупле на ёлке,
Я же сплю в подземной норке.
И в неё я без помехи
Семена несу, орехи.
Ягод полон уж сундук.
Знаешь, кто я? ( Бурундук.)
Кто был внимательным и может сказать, в какой сказке вы встречали этих зверей? (Откуда пошли болезни и лекарства)
-Какой народ написал эту сказку?
1. Чтения сказки «Откуда пошли болезни и лекарства»
(Чтения по абзацем 2 раза)
-Какая главная мысль в этой сказки?
-Назовите действующих лиц.
-Прочитайте после текста, какие сказки называют, самые древни.
-Что объясняют самые древние сказки?
-Как сказка индейцев объясняет причины происхождения болезни и лекарства?
-Внешний вид, каких двух животных объясняется в сказки?
IV. Изучение нового
1.Работа до чтения.
Сегодня мы с вами познакомимся ещё с одной сказкой.
Откройте учебник на странице 67.
-Прочитайте названия сказки.
-Чья это сказка?
-Как вы думаете кто будит главные героем этой сказки?
-Кто из вас видел черепаху или гиену?
-Что вы знаете о черепахе? (рассмотрения картинки черепахи)
-Что вы знаете о гиене? (рассмотрения картинки гиены)
2.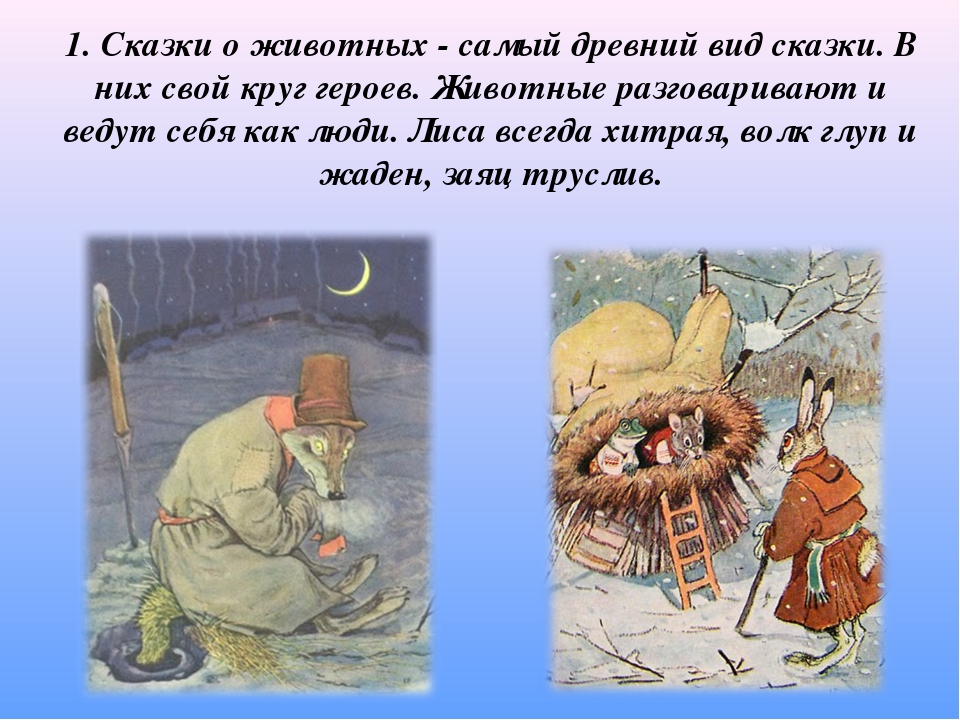
(дети выразительно читают по абзацем.)
Вопросы после чтения:
— Какие слова были не понятны?
— Назовите действующих лиц.
-Как мы можем охарактеризовать в этой сказки леопарда?
-Как мы можем охарактеризовать в этой сказки гиену?
3. Повторное чтение
(дети выразительно читают по абзацем.)
Вопросы после чтения:
-Чему учит эта сказка?
-Похожа или нет эта сказка и с предыдущий?
Да правильно шло время и самые древни сказки изменялись. Они не только объясняли причины природных явлений. Рассказывая о животных, они учили людей правильному поведению.
V. Итог урока
Наш урок подошел к концу.
-Сказками, каких стран мы с вами познакомились?
-Какие сказки называются, самые древни?
-Как мы можем заметить изменения самых древних сказок?
-Чему учит африканская сказка?
VI. Домашнее задание
Африканская сказка «гиена и черепаха» страница 67-68, читать выразительно.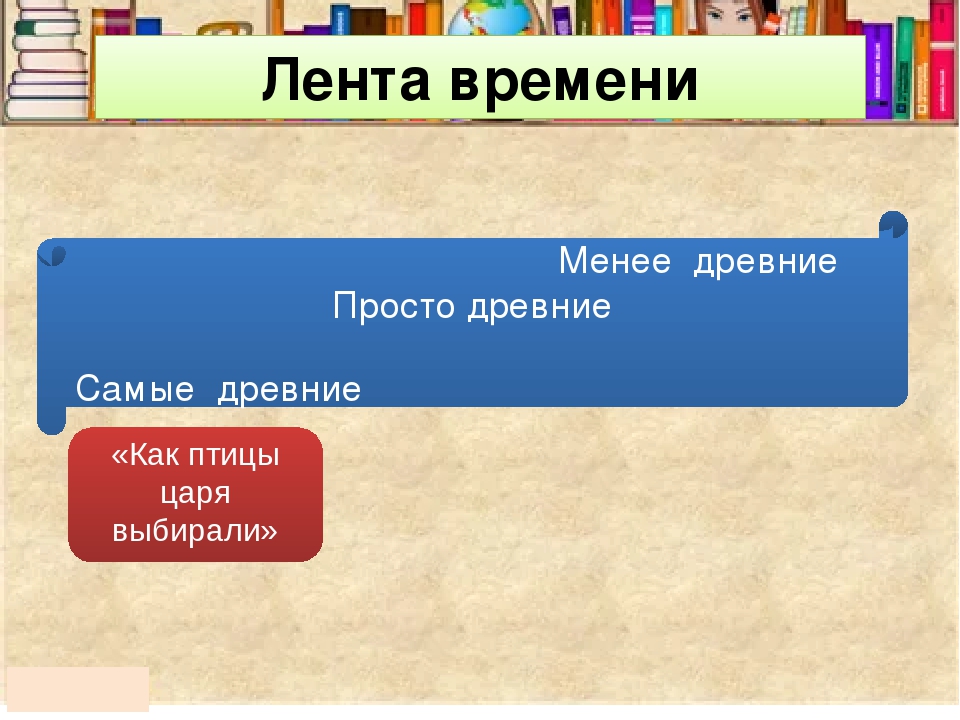
Русские сказки – самые древние в мире? | Восстание редуцированных
Все языки мира, как «известно» некоторым нашим читателям, произошли от русского языка (на самом деле это не так). А что насчет русских сказок? Было бы «логично» предположить, что и они древнее самых древних текстов человечества.
Правда в том, что русские волшебные сказки и впрямь настолько древние, насколько это можно себе представить.
С другой стороны, это относится к волшебным сказкам и других народов мира. И наша «Баба-яга», и их «Красная шапочка» являются отражением древнейшего обряда инициации, пережившим множественные наслоения различных эпох, литературную обработку и т.д. Например, подросток, которого собирались принять в мужское общество, должен был быть ритуально «съеден» и «возрожден» вновь. А баба-яга (или сожравший Красную Шапочку волк) – это сохранившаяся в сказках память об «инициаторе».
Нет смысла разговаривать о сказках с человеком, который не читал классических работ Владимира Яковлевича Проппа – «Морфология сказки», «Исторические корни волшебной сказки».
Про инициацию – это оттуда.
Древнее Зевса и Кришны
Любителям тезиса «чем древнее, тем лучше» наверняка понравится и следующая мысль великого ученого. Он считал, что русская традиционная культура сохранила обряды, которые «по своей идеологии и по своим формам архаичнее, чем восточные и античные культы».
Сожжение Масленицы, поедание яиц на Пасху, прыжки через костер на Ивана Купалу – это все те же ритуальные умирание и воскрешение.
Всё это рудименты аграрных культов, настолько древних, что еще не было придумано языческих богов. Адресатами ритуалов были некие «силы» природы, которым следовало посредством обрядов иногда помогать. Большая часть населения России еще в XIX веке являлась носителем магической культуры, сопоставимой по уровню развития с культами аборигенов Африки и Океании. Местами она сохранилась у нас и до сего дня. Но к сказкам это напрямую не относится.
Так какая же сказка самая древняя?
Не так давно западные ученые предложили интересный механизм поиска самой древний сказки.
Иллюстрация к сказке, которая не является самой древней (вроде бы)
Антрополог из английского Университета Дарема Джейми Теграни и фольклорист Сара Граса да Силва из Нового университета Лиссабона составили схему, аналогичную филогенетическому анализу в биологии, посмотрев, насколько различные типовые сюжеты волшебных сказок распространены в индоевропейских языках.
Допустим, язык А, язык Б и язык В происходят из праязыка Д. Если аналогичные сказочные сюжеты находятся в языках А, Б и В, следовательно, история была известна предкам носителей этих языков еще на этапе Д. Поскольку известно, что языки А, Б и В выделились из Д примерно Х тысяч лет назад, значит, возраст сказки – не менее Х тысяч лет.
Исследовав таким образом 76 базовых сюжетов индоевропейских волшебных сказок, ученые пришли к выводу, что самым старым подобным фольклорным произведением является сказка под условным названием «Кузнец и черт» (варианты – «Кузнец и смерть», «Кузнец и джинн»).
Этой сказке не менее 6000 лет. Разумеется, она старше всех известных письменных произведений.
Чуть «моложе» такие сюжеты, как «Красавица и чудовище» (4000 лет) и «Джек и бобовый стебель» (5000).
О лингвистических «древностях» и современности читайте в моем инстаграме @istoki_slova.
сказки народов мира • Arzamas
Если вы читали народные сказки, то наверняка замечали, что многие из них очень похожи: лисы в сказках обычно хитрые, бедные крестьяне — добрые и находчивые, а если у короля есть сыновья, то их непременно трое. Но как так получилось? И почему похожи сказки даже таких разных стран, как Япония, Россия и Италия? Слушаем старые пластинки «Фирмы Мелодия» и разбираемся
Подготовила Марина Гистер
Исследователи начали изучать сказочные сюжеты, их сходство и различие в начале ХХ века.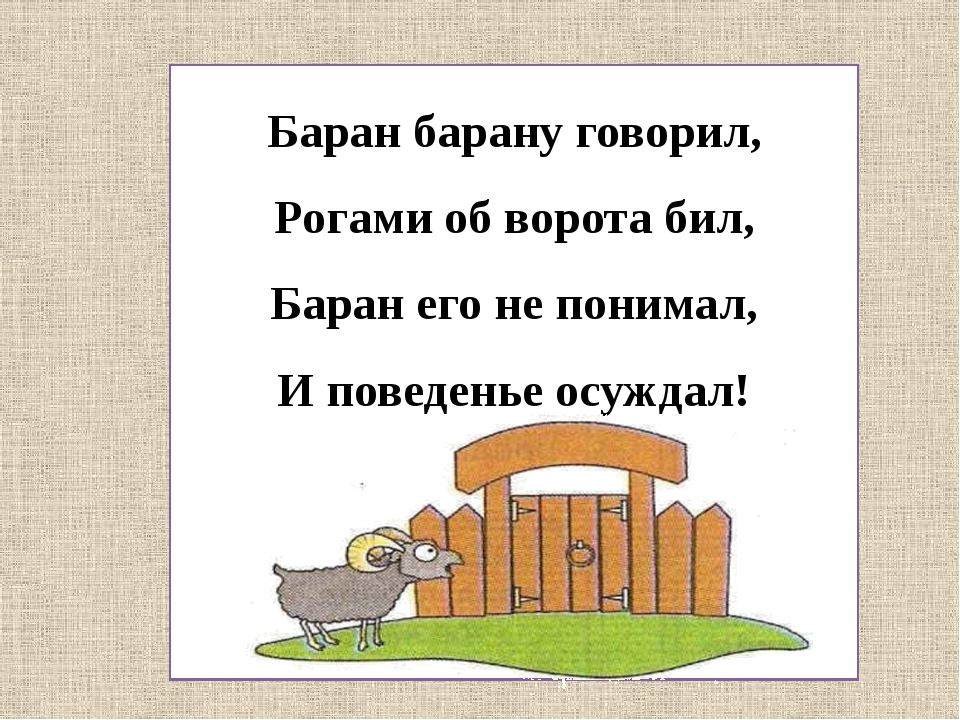
• «сказки о животных» — сказки-басни, где фигурируют животные;
• «собственно сказки» — волшебные сказки с магией и превращениями;
• «сказки-анекдоты» — смешные рассказы, например, о не слишком умных молодых людях.
Эти разделы делятся на подразделы (к примеру, внутри «сказок о животных» есть подраздел «сказки о хитрой лисе», внутри волшебных сказок есть «сказки о чудесном помощнике», а в «сказках-анекдотах» — «сказки о клириках» Клирик — служитель Церкви.). А каждый из подразделов, в свою очередь, делится на сказочные типы — в российской научной традиции их принято называть сказочными сюжетами.
Для каждого сказочного типа указывается ареал его распространения, то есть места, где такой сюжет встречается чаще всего. И оказывается, что сказки, принадлежащие к одному сказочному типу, встречаются у самых разных народов.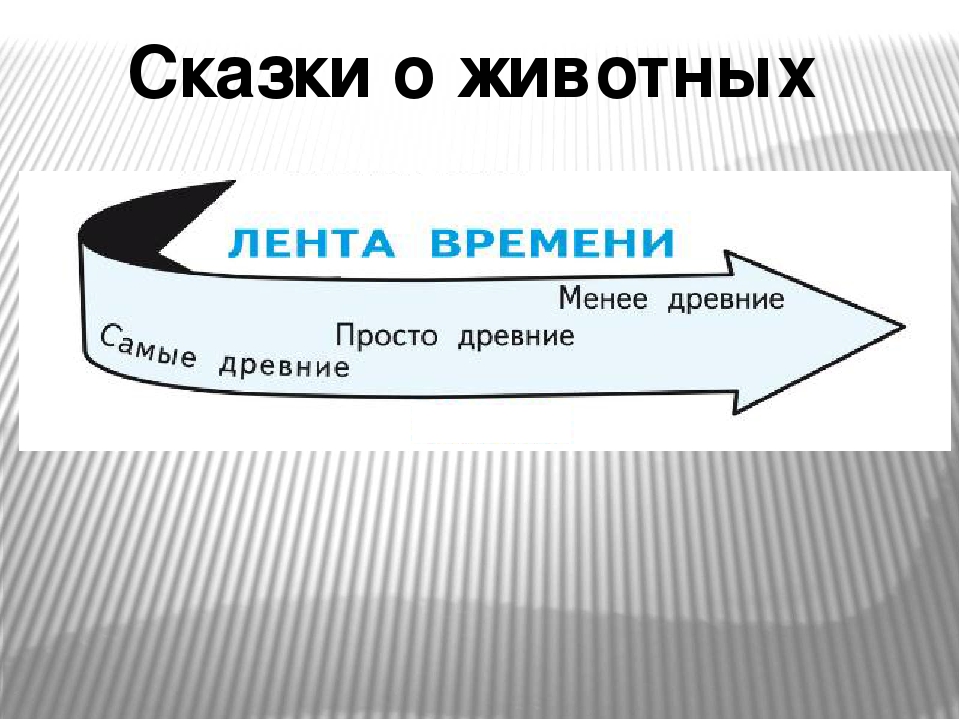
А как получается, что люди начинают сочинять сказки про одни и те же сюжеты? Ответ простой: дело в том, что люди, вне зависимости от национальности, похожи и мыслят похожим образом. Как доказал российский филолог Владимир Пропп В. Я. Пропп. «Исторические корни волшебной сказки»., корни волшебной сказки — в обряде, а обряды у разных народов тоже довольно близки. К примеру, у всех народов есть или были обряды перехода: свадьба (жених и невеста становятся женатыми людьми), похороны (переход из нашего мира в иной) или инициация (мальчик получает статус мужчины, а девочка — статус женщины). Вспомните, например, сказку про Ивана-царевича — инициацией для него оказывается разговор с Бабой-ягой в избушке на курьих ножках.
Мы выбрали и прокомментировали двенадцать очень разных сказок из очень разных стран — от Японии до Италии.
«Настоятель и служка». Японская сказка
Роли исполняют Всеволод Абдулов, Михаил Лебедев, Александр Пожаров, Алексей Борзунов, Сергей Колесников. Автор инсценировки Алексей Гесслер. 1985 год
«Сказки о клириках» — один из подразделов «сказок-анекдотов». В их число входят любые сказки о жадном, глупом или трусливом священнослужителе и его хитром слуге. Например, российскому читателю хорошо известна пушкинская вариация на тему этих сказок — «Сказка о попе и работнике его Балде». В японской же сказке речь идет о настоятеле буддистского храма: он заставляет слугу работать, а тому не хочется, настоятель прячет от слуги мед или другие лакомства, а тот все равно находит способ до них добраться.
«Массаро Правда». Итальянская сказка
Роли исполняют Алексей Борзунов, Борис Толмазов, Виктор Зозулин, Вячеслав Дугин, Инна Алабина.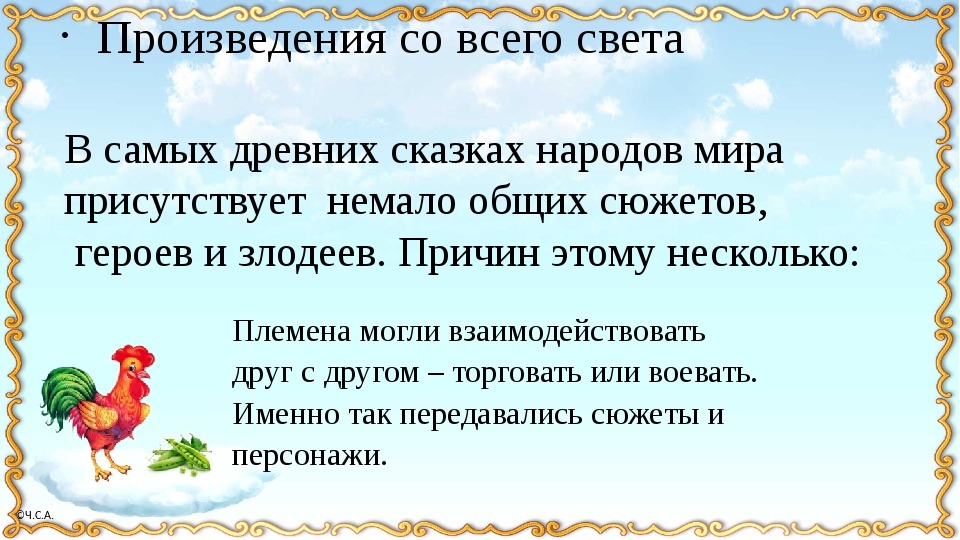
Еще один очень популярный тип сказок — про верного слугу. Этот сказочный сюжет распространен в Западной, Центральной и Восточной Европе, Азии, Латинской Америке. В таких сказках речь идет о слуге, которого соблазняет прекрасная женщина: заставляет его убить или отдать любимого коня государя. Слуга пытается придумать, как скрыть свой проступок, но ни одна ложь не кажется ему правдоподобной, поэтому он говорит государю правду, и тот, вместо того чтобы покарать слугу, награждает его за честность.
Сказка с таким сюжетом есть в сборнике литературных сказок фольклорного происхождения «История персидской султанши и сорока визирей», созданном французским писателем Франсуа Пети де ла Круа (1653–1713). Она называется «История Садика, придворного конюшего» (автор делает примечание, что это имя переводится как «Говорящий правду»). Подобная же история есть во французском полнометражном мультфильме Мишеля Осело «Сказки на ночь».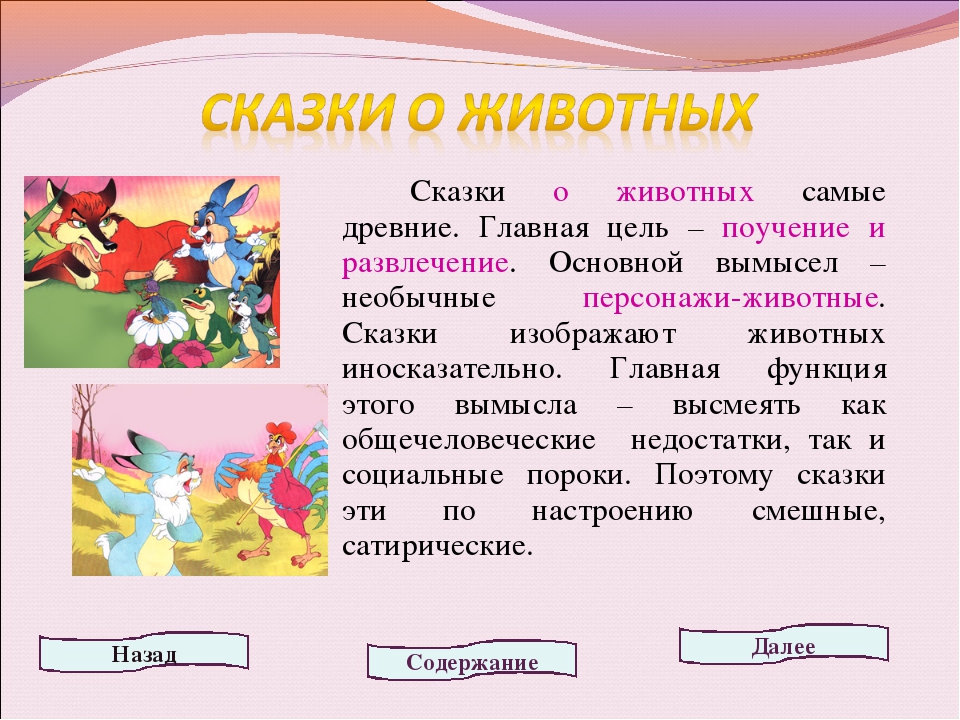
«Братец Иванушка и сестрица Аленушка». Русская сказка
Читает Нина Марушина. До 1965 года
Сказка про Аленушку и Иванушку относится к типу «братец и сестрица». Эта история с детства известна русским читателям, но, как и многие другие русские народные сказки, встречается не только в России и Восточной Европе, но и по всему миру. Может показаться, что это нравоучительная история, призванная объяснить детям, что нужно слушаться старших: Иванушка вот ослушался, выпил из козлиного копытца и превратился в козленочка. Однако нарушение запрета здесь нужно не чтобы чему-то научить, а чтобы состоялась сама сказка. Без какого-нибудь несчастья в начале (а нарушение запрета среди таких несчастий — одно из самых распространенных) не бывает волшебного конца.
«Находчивая девушка». Итальянская сказка
Роли исполняют Валентина Игнатьева, Виктор Корешков, Лариса Иванова, Юрий Никулин. Автор инсценировки Ирэна Дубровская.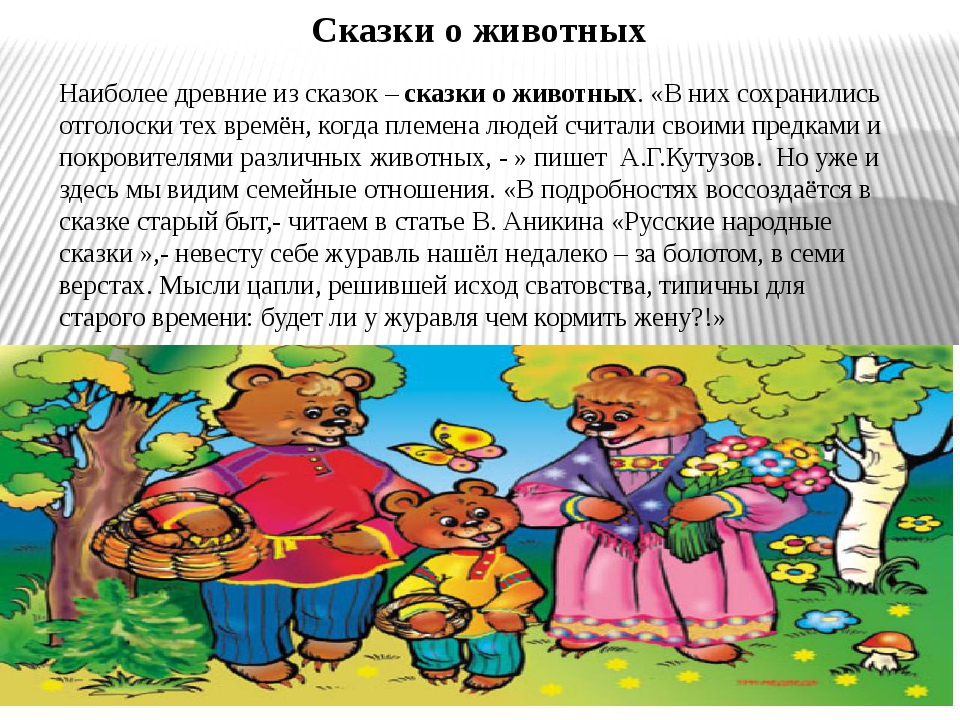
Мудрая крестьянская девушка, которая выходит замуж за принца или очаровывает короля, — очень распространенный во всем мире сюжет, и встречается он не только в сказках, но и в литературных повестях.
В этой итальянской сказке король задает девушке трудную задачу — приготовить салат под названием «Ой-ой». Та кладет в салат иголки, а король ойкает, уколовшись. В аналогичной русской сказке царь велит героине соткать полотенце из одной нити, а та в ответ просит его сделать ей ткацкий станок из одного прутика (похожий сюжет есть и в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»). И итальянской, и русской, и многим другим героиням приходится явиться во дворец «не одетой и не раздетой… не пешком и не на лошадке» — девушки выполняют все эти кажущиеся невозможными условия.
«Спорники». Цыганская сказка
Роли исполняют Владимир Воронцов, Константин Кужалиев, Людмила Давыдова, Зоя Пыльнова, Ирина Сарычева и другие.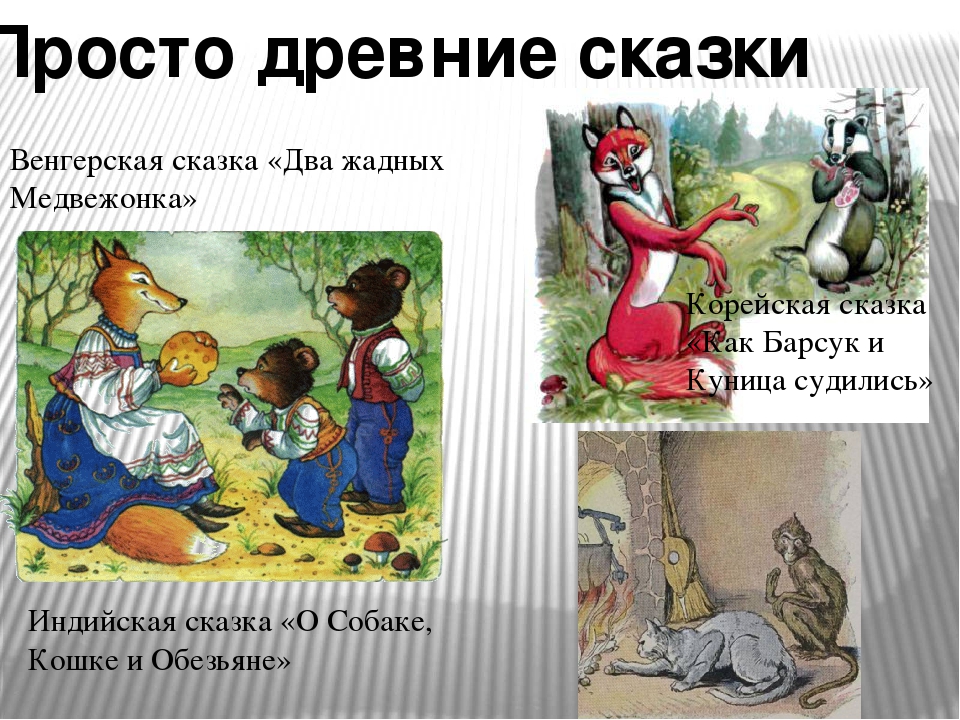
Это сказка русских цыган, но подобные истории распространены и в странах Балтии, Скандинавии, Индии, Китае, Корее, Латинской Америке и в других местах. Ученые называют такой тип сказок «дары маленького народца» — обычно в них действуют небольшие существа, которые помогают человеку в его домашних делах и приключениях. Похожий сюжет есть и в сказке братьев Гримм «Маленькие человечки» о том, как маленькие человечки помогали сапожнику шить сапоги, а тот вместе с женой сшил им за это одежки и маленькие сапожки. Отголоски сюжета о незаметных помощниках можно увидеть и в повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», и даже в мультфильме «Фиксики».
Само слово «спорники» происходит от слов «спорый, спориться». У русских цыган оно обозначало маленьких сказочных человечков с детскими лицами, ведущих свой род от ангелов. В доме, где завелись спорники, дело спорится.
«По щучьему велению».
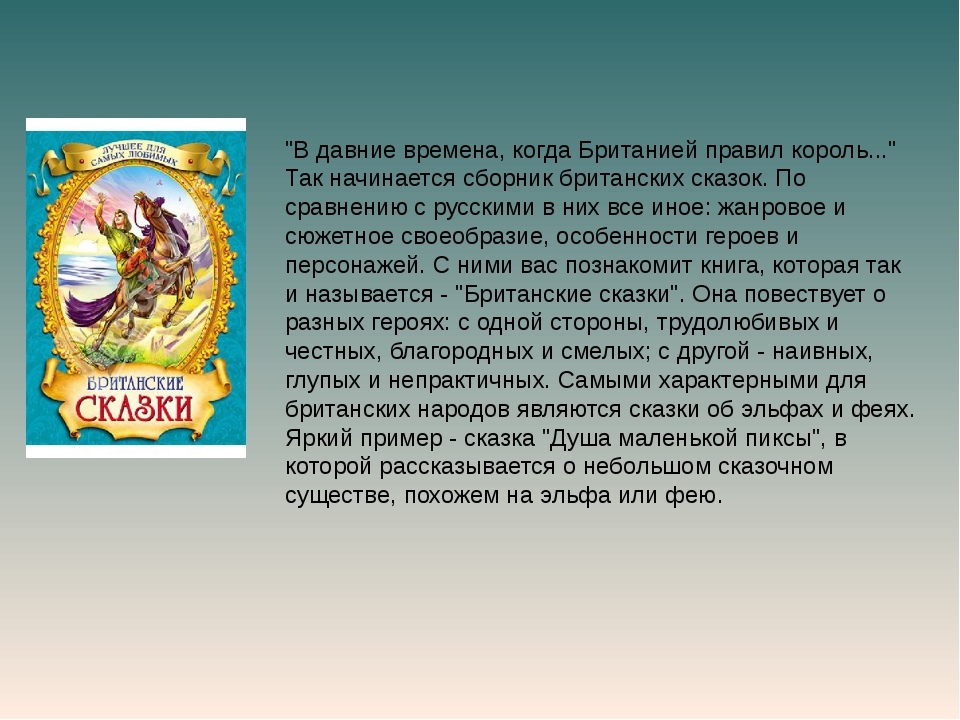
Роли исполняют Вячеслав Невинный, Николай Литвинов, Наталья Львова, Ирина Потоцкая, Виктор Хохряков и другие. Авторы инсценировки Владимир Глоцер, Кира Алемасова. До 1970 года
«Мудрая рыба помогает лодырю» — это тоже отдельный и довольно распространенный тип сказок. По воле волшебной рыбы, которую пощадил или спас герой, все его желания сбываются. Героя русской сказки — Емелю-дурака — принято считать типичным персонажем русского фольклора: это мужик-сидень, не желающий ни работать, ни отвечать за свои действия, надеющийся лишь на магическую присказку «по щучьему велению». Однако такой сказочный тип распространен и в Западной Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. К примеру, во французской литературной версии этой сказки — «Дельфине» мадам д’Онуа — главного героя зовут Алидор. Это некрасивый юноша королевского происхождения, по сюжету он помогает волшебному дельфину и взамен получает способность исполнять свои желания.
Тем не менее можно говорить об одной национально-специфической черте русской сказки — это печка, на которой ездит Емеля, настолько ленивый, что не хочет даже ходить пешком.
«Как достать живую обезьяну». Японская сказка
Роли исполняют артисты Московского театра драмы и комедии на Таганке. Авторы инсценировки Владимир Глоцер, Александр Вилькин. До 1972 года
Сказка из раздела «сказки о животных», причем принадлежит она к подразделу с очень точным названием — «сердце обезьяны как лекарство». Сказки с подобным сюжетом есть в Японии, на Филиппинах, в Корее и многих других странах: морской царь или его дочь больны, а излечить больного может только какой-нибудь орган неожиданного животного. В японской версии заболела дочь морского дракона, и медуза отправляется за печенью живой обезьяны. Но вообще обезьяну в таких сказках может заменить заяц, медузу — черепаха, а вместо печени иногда ищут сердце. Очень часто за этим сюжетом кроется объяснение, почему такое-то животное выглядит так-то (и делает то-то).
«Похлебка из камней». Итальянская сказка
Роли исполняют Алексей Борзунов, Вячеслав Дугин, Клара Румянова, Юрий Яковлев и другие. Авторы инсценировки Андрей Баженов, Тамара Котлярова. 1985 год
Этот тип сказки ученые называют «вознагражденное гостеприимство». Однажды добрая Виттория отдала свой обед случайному встречному, а потом, когда ей и ее детям было нечего есть, тот пришел им на помощь. Мотив гостеприимства — один из самых древних и самых распространенных во всем мире. Образ матери, которая души не чает в своем ребенке (такова здесь не только положительная героиня, но даже ее злая сестра), тоже очень древний, в то же время он вполне соответствует стереотипу об итальянской матери, нежной и помешанной на детях.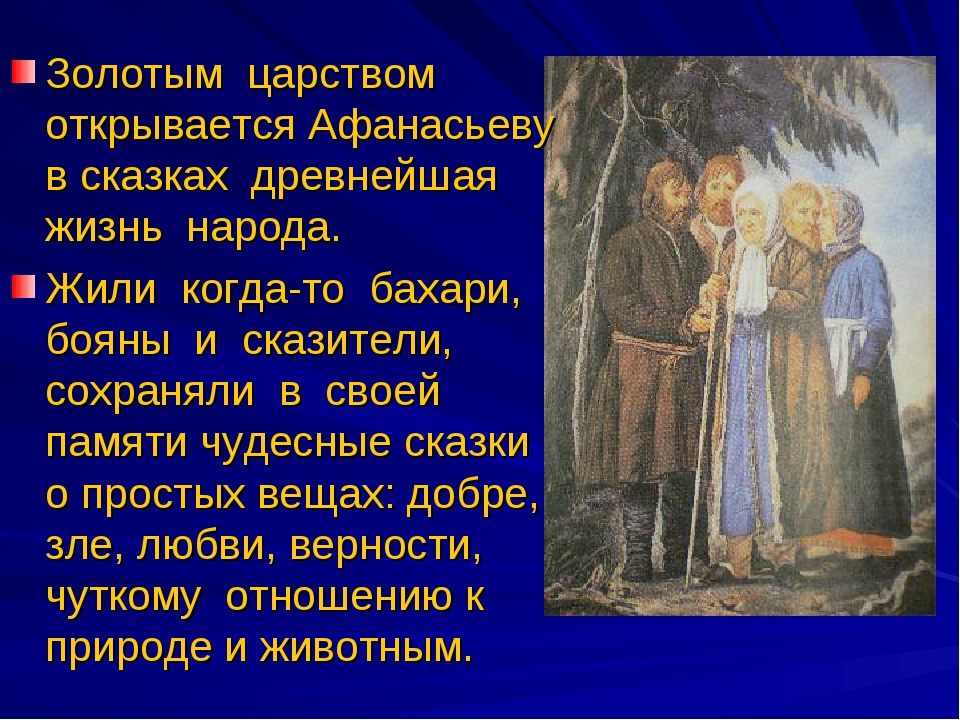
«Царевна-лягушка». Русская сказка
Роли исполняют Анастасия Зуева, Владимир Федосеев. Авторы инсценировки Кира Алемасова, Николай Речменский. До 1961 года
Эта сказка объединяет в себе два фольклорных сюжета: «Сердце людоеда (дьявола) в яйце» и «Необыкновенная супруга».
Прекрасная Дама в таких сказках может быть заколдована в лягушку, мышку, кошку или какое-нибудь другое животное, а главный герой должен ее расколдовать. Основной конфликт сказки крутится вокруг звериной шкурки: с ней связаны либо запрет (шкурку сжигать нельзя, иначе с героиней случится беда), либо предписание (чтобы расколдовать героиню, шкурку, наоборот, надо сжечь).
Сюжет широко распространен во всем мире и имеет легендарный вариант во французском фольклоре — легенду о Мелюзине, фее, жене графа де Лузиньяна, по субботам превращавшейся в змею. Как-то раз за ее перевоплощением подсмотрел супруг, Мелюзина улетела и с тех пор появляется над замком в виде женщины с одним или двумя змеиными хвостами, когда кому-то из ее потомков грозит беда. В «Царевне-лягушке» кроме заколдованной Василисы Премудрой и ее жениха Ивана-царевича есть хорошо знакомые герои — Кащей и Баба-яга, причем если Кащей здесь отрицательный персонаж, Баба-яга — положительный, именно она советует Ивану-царевичу, как одолеть Кащея.
«Волшебная лампа Аладдина». Арабская сказка
Роли исполняют Александр Леньков, Александр Очеретянский, Армен Джигарханян, Евгений Вестник, Елена Романова, Нина Тер-Осипян, Ростислав Плятт и другие. Авторы инсценировки Владимир Глоцер, Михаил Салье, Михаил Либин. 1983 год
Оригинал этой сказки входит в собрание «Тысяча и одна ночь.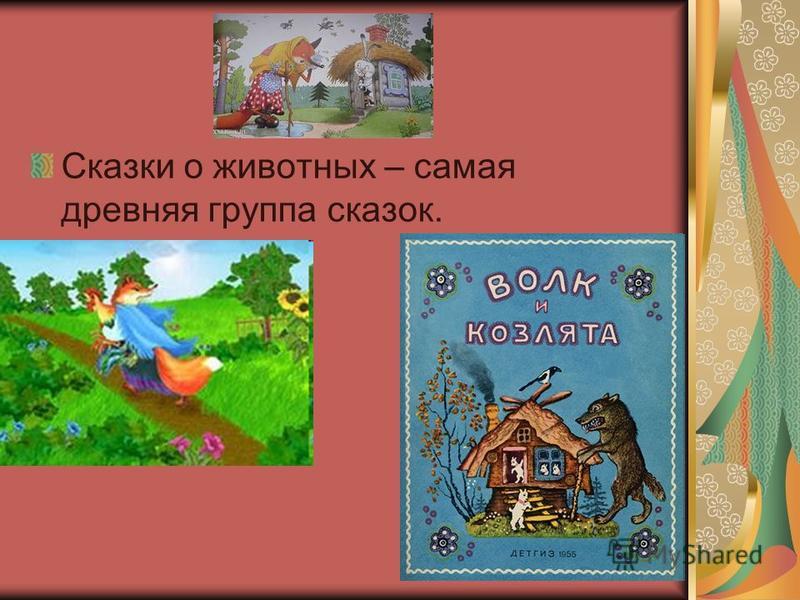
Сказка «Волшебная лампа Аладдина» принадлежит к подразделу «Сказки о чудесном предмете». Действие ее происходит в Персии. Главный противник честного сына портного Аладдина — магрибинец, то есть выходец из Северной Африки. В арабских странах магрибинцев боялись и считали колдунами. Бороться с ним Аладдину помогает волшебная лампа, в которой обитает исполняющий желания джинн. Эта сказка известна по многочисленным экранизациями и мультипликационным версиям: самая известная из них — полнометражный диснеевский мультфильм «Аладдин».
«Сказание о Вёлунде». Скандинавская сказка
Роли исполняют Анатолий Горохов, Вадим Макаровский, Леонид Зверинцев, Евгений Перов, Ростислав Дубинский, Татьяна Осмоловская и другие.
«Сказание о Вёлунде» не совсем сказка. Перед нами обработка героического эпоса — «Песни о Вёлунде» из «Старшей Эдды», собрания древнеисландских песен о богах и героях. Вёлунд входил в число древних альвов («альвы» — так произносят слово «эльфы» в некоторых германо-скандинавских языках) и был искусным кузнецом. Его пленил конунг (король) Нидуд, завладел его мечом и отдал кольцо его жены своей дочери Бёдвильд. Вёлунд крайне жестоко отомстил Нидуду и всей его семье. Обработка довольно далека от текста оригинала и адаптирована для детей.
«Чудесный мальчик». Русская сказка
Роли исполняют Роман Ткачук, Тамара Мурина, Лилия Шарапова, Александр Диденко, Борис Кумаритов. Автор сказки Андрей Платонов. Автор инсценировки Сергей Василевский. 1982 год
Эта сказка авторская, но Андрей Платонов в ней объединяет сразу несколько фольклорных сюжетов.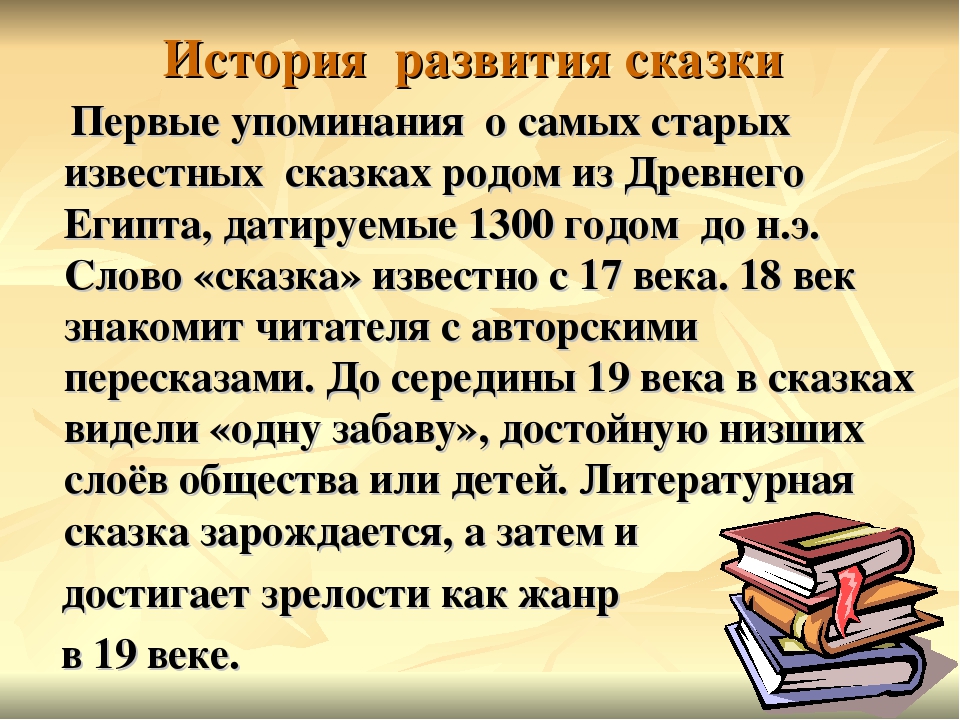
Детская комната
Спецпроект
Детская комната Arzamas
Гиена и черепаха африканская сказка рисунки
Презентация «Гиена и черепаха» 3 класс
Урок литературного чтения
в 3 классе
Девиз урока
С книгой жить-
век не тужить
Раздел №2
Постигаем секреты сравнения
Проверка домашнего задания
??????
Тема урока
Гиена и черепаха
Цель урока
Гиена и черепаха
Познакомиться со сказкой…
Словарная работа
Гиена – хищное животное.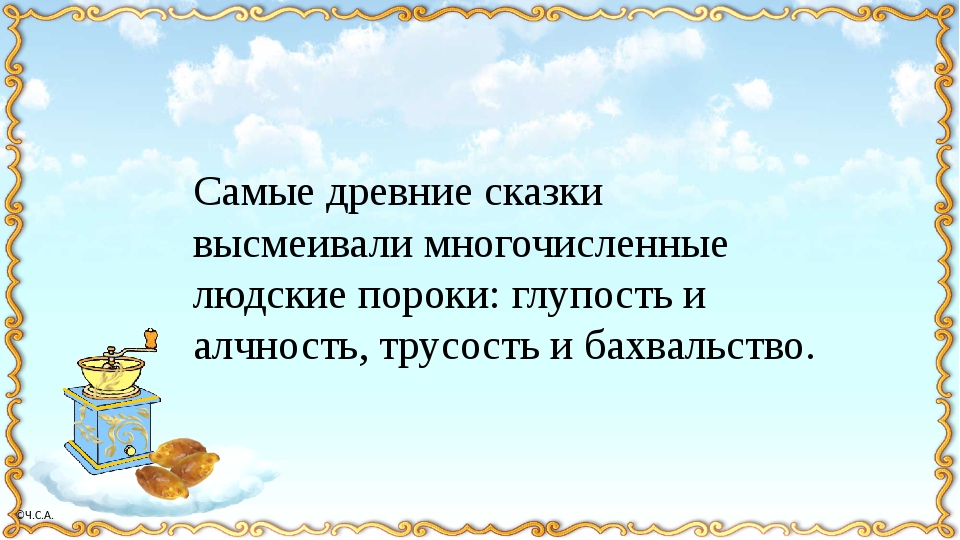
Визуально животное похоже на собаку или волка, однако имеет отличительную черту- окраску. Длина тела составляет от 50 до 150 сантиметров. Вес у взрослых особей достигает 80 килограмм.
Питается гиена мясом. Это может быть, как и падаль, так и свежая пища. Гиены не особо требовательны и употребляют практически любые животные останки, поэтому способны выживать в трудные времена. Они не утрудняются, охотясь и добывая пищу, а просто доедают убитых другими хищниками животных.
Гиена считается ночным животным. Живут они группами, что помогает отбиваться от врага. Метят территорию и упорно ее охраняют от посягательства других животных.
Словарная работа
Случился — …
произошёл, свершился
Черепаха
Черепаха – древнее животное из отряда пресмыкающихся.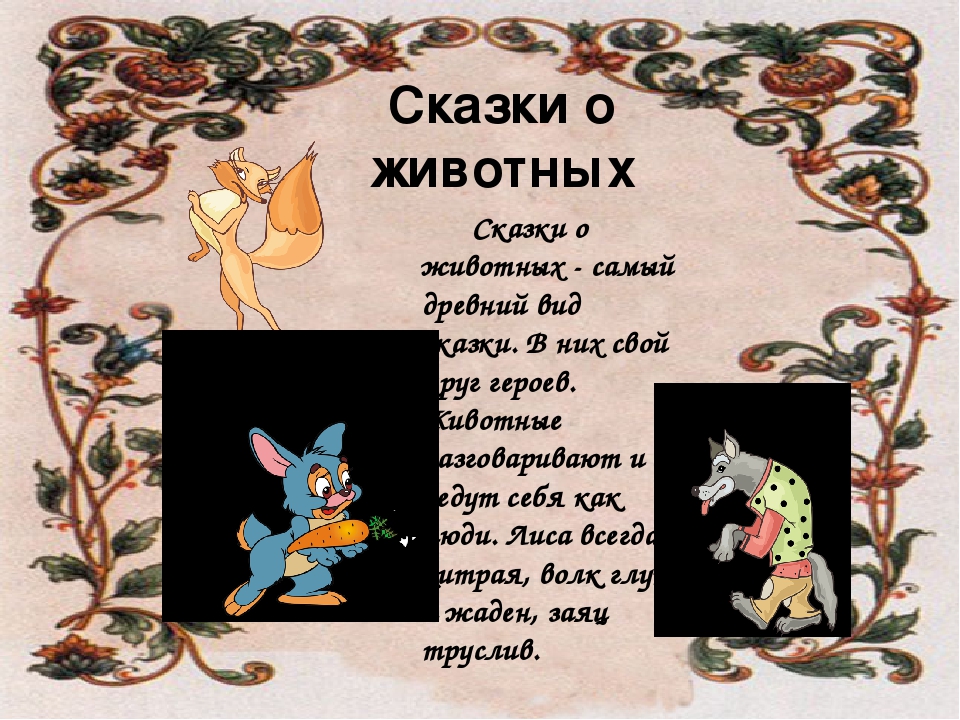
Существует более 300 видов различных черепах. Часть из них ведет сухопутный образ жизни, а часть – приспособилась жить и в воде
Черепахи сильно отличаются по своим размерам: сухопутная паучья черепаха в длину не превышает 10 см и весит около 100 г, а морская кожистая черепаха – достигает двух с половиной метров и имеет вес более полутоны. Гигантом среди сухопутных черепах является галапагосская слоновья черепаха. Длина ее панциря превышает один метр, а вес может равняться четырем центнерам.
Прогнозирование по названию и иллюстрациям
Домашнее задание
С.67-68, пересказ, найти информацию про черепаху или гиену (желающим)
Физминутка
Потянулись, как леопард,
Тихо побежали, как гиена.
Покажите, как плетется черепаха.
А теперь превратитесь в учеников!
Придумайте уточняющие вопросы
Правильно ли я понимаю, что…»
«Почему?» — один из лучших уточняющих вопросов
«То есть, вы говорите, что…. »
«Если я вас правильно понял, то…»
«Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали….»
«Вы хотите сказать…»
«Вы имеете в виду, что …»
Дайте характеристику
Восстанови план
Спасение черепахи
Красивая шкура леопарда
Пожар в лесу
Наказание гиены
???????
Можно ли отнести эту сказку к самым древним? Почему?
А что ещё об этой сказке мог сказать Михаил Потапович?
Какая пословица подходит
к сказке?
Без беды друга не узнаешь
Век живи-век учись
Терпение и труд всё перетрут
Какая пословица подходит
к сказке?
Друзья познаются в беде
Без труда не выловишь и рыбку из пруда
Кто много читает,
тот много знает
Какая пословица подходит
к сказке?
Дружба заботой, да подмогой крепка
7 раз отмерь, 1 раз отрежь
Где родился, там и пригодился
Итог урока
-С какой сказкой сегодня познакомились?
-Чему она учит?
Литературное чтение 3 класс Тема: Африканская сказка «Гиена и черепаха», алтайская сказка «Нарядный бурундук» — сравнительный анализ.
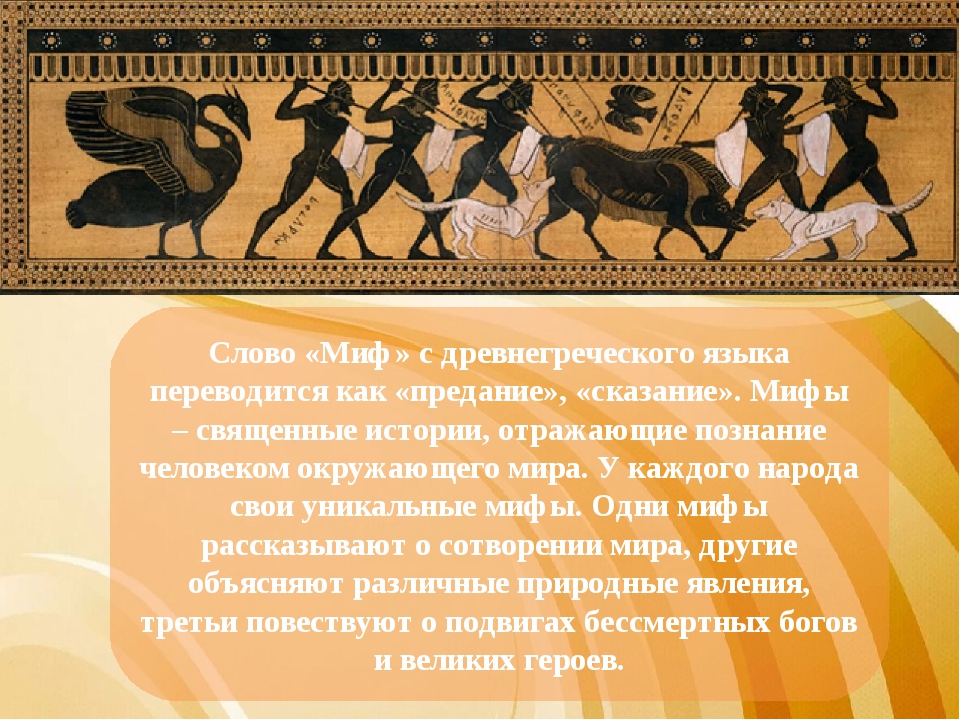
Хисаметдинова Юндуз Рамилевна
Учитель начальных классов
Гимназия им. Т.Кусимова
с. Аскарово
Абзелиловский район
Республика Башкортостан
Литературное чтение 3 класс
Тема: Африканская сказка «Гиена и черепаха», алтайская сказка «Нарядный бурундук» — сравнительный анализ.
Цели урока
Заострить внимание детей на важнейшей типологической особенности сказочных сюжетов: в сказках, созданных разными народами, отражаются общие проблемы, задаются одни и те же вопросы, объясняются одни и те же явления природы, но. по-разному.
На материале сравнительного анализа двух сказок «Гиена и черепаха» и «Нарядный бурундук».
- выяснить вместе с детьми, что в сказке «Гиена и черепаха» сохраняются черты, присущие самым древним сказкам (объясняются причины внешнего вида еще двух животных) и появляются черты более позднего времени: эта сказка уже учит благородному поведению и объясняет, что такое поведение обязательно будет вознаграждено;
- сравнить две сказки, где объясняется внешний вид бурундука, — африканскую и алтайскую и подвести детей к выводу: обе сказки стремятся сделать одно и то же (объяснить, почему у бурундука полоски на шкурке), но объясняют это по-разному;
- побудить детей к обобщению о том, что людей в разных уголках земного шара волновало, как и почему выглядят все животные, что представители всех народов стремились найти объяснение разным природным явлениям;
Учащиеся научатся:
— работать с Толковым словарём;
— определять , чему учит сказочная история;
Находить сходство и различие самых древних сказок.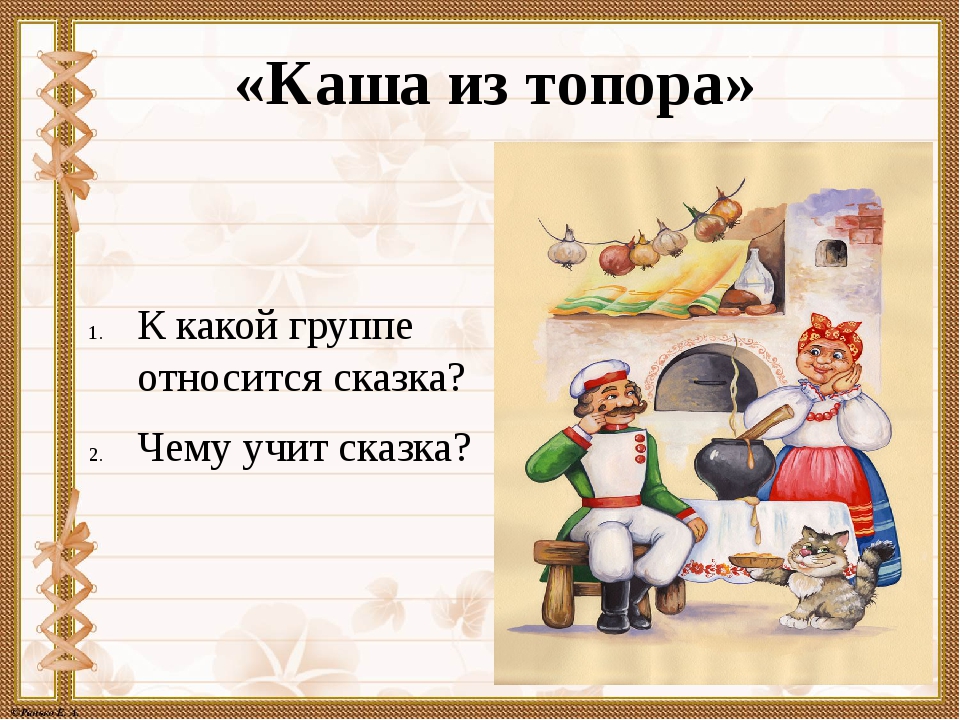
Ход урока.
1. Мобилизующий этап.
У. Добрый день, дорогие друзья!
Чтобы наш урок был наполнен улыбками, радостью, подарим друг другу улыбки. Улыбнитесь друг другу. (Садятся).
А я буду дарить в течение урока вам чудесные улыбки. Там будут ваши оценки.
Не волнуйтесь, вы все способные, умные, находчивые.
Вам прислали письмо члены клуба «Ключ и заря».
На экране читаем письмо.
Здравствуйте, учащиеся 3 в класса!
Вы начали изучать главу «Постигаем секреты сравнения». Выполните наши задания.
- Внимательно читайте сказки. Найдите их сходство и различие.
- Напишите нам, что для вас было интересным открытием.
С уважением, члены клуба «Ключ и заря» Анишит Йокоповна, Михаил Потапович, Миша и Маша.
2. Самоопределение на основе антиципации.
— Какую сказку вы уже прочитали? (Откуда пошли болезни и лекарства)
— Как называются сказки, которые объясняют причины природных явлений? (самые древние).
— Еще раз прочитайте задание клуба «Ключ и заря».
— Чему будем учиться на уроке? (сравнивать разные сказки).
— Чтобы узнать, какую сказку будем читать, послушаем отрывок из музыкального произведения. Внимательно слушайте, какого народа эта мелодия?
Музыка – слушание.
(африканская).
— Где находится Африка? Покажите на карте. Молодец1 Дать улыбки с оценкой участникам по ходу урока.
3. Осознание недостаточности ранее полученных знаний.
Откройте в учебнике литературного чтения содержание.
Найдите 2 –ую главу «Постигаем секреты сравнения».
Найдите африканскую сказку. Прочитайте название.
Откройте нужную страницу.
— Что обозначает знак в левом верхнем углу (Толковый словарь)
-Найдите в тексте слова, отмеченные звёздочкой. Прочитайте.
— Какое слово найдем сначала? Почему? (Гиена. Алфавитный порядок).
— 2 часть учебника «Русский язык».
— 1 ученик читает объяснение. Ставьте ударение правильно.
Посмотрите на картинку гиены. Найдите следующее слово. (Случился). В словаре слова в начальной форме ( случиться). Читайте правильно. Случился.
Работа над текстом.
— Предположите, кто герои сказки? (гиена и черепаха) Слайд черепаха.
— Чтобы узнать, кто третий герой, внимательно послушайте сказку.
Чтение учителя.
— Кто третий герой? (Леопард) Слайд леопард.
-Прочитайте про себя и скажите, как объяснили внешний вид гиены и леопарда? Читают про себя.
— Можно ли отнести эту сказку к самым древним? Почему? ( Потому что она объясняет, почему леопард и гиена стали такими).
— А вот как думает Михаил Потапович. Внимательно слушайте.
Учитель читает авторский текст на с. 69.
— Вы понимаете, чему учит эта африканская сказка? (Помогать друг другу, быть дружными, благодарить друзей за помощь).
— Кто здесь герои: волшебники или животные? Значит, как еще можно назвать такие сказки? (Сказки о животных).
Поэтому превращаемся в животных, встаем из-за парт.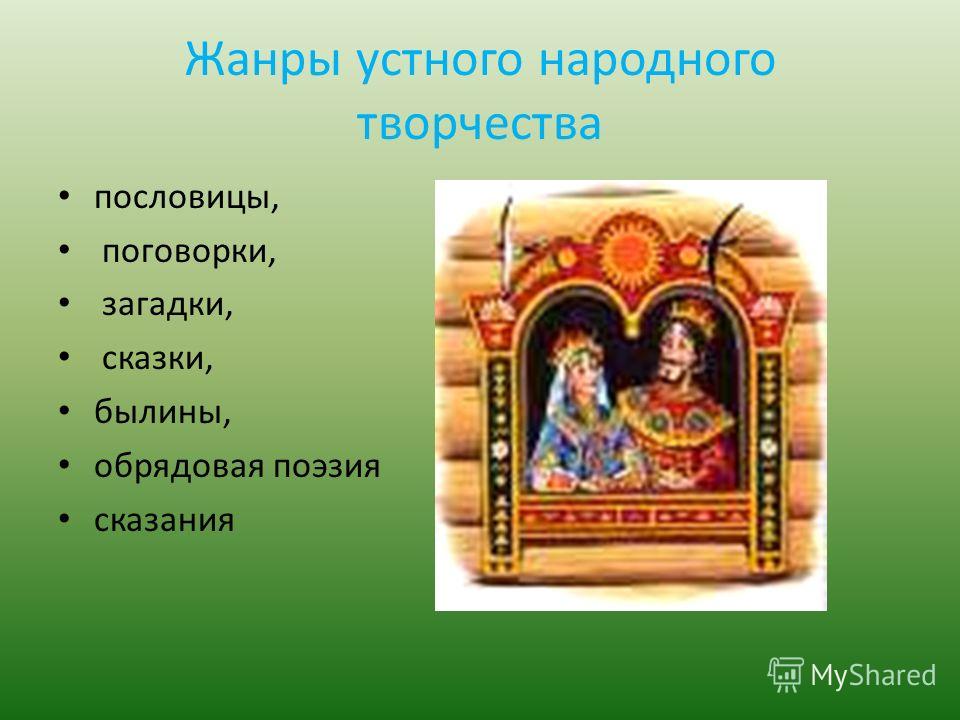
4.Динамическая минутка.
1. Потянулись, как леопард,
2. Тихо побежали, как гиена.
3. Посмотрели вдаль, как черепаха,
На кончик своего носа попробуйте посмотреть.
Вдаль, близко.
- Тихо спрятались, как бурундук.
— Посмотрите, в минутке отдыха я упомянула каких животных? В какой сказке они были? А кто лишний? (Бурундук). Слайд бурундук.
-Этот герой встретится во второй самой древней сказке, которую предлагает прочитать Михаил Потапович.
Прочитайте название сказки. (Нарядный бурундук).
— Какого народа эта сказка? (Алтайского).
— Друзья, я вам подскажу — Алтайский край находится в России. Очень красивая природа, похожа на природу Башкортостана. (Работа по карте)
— Прочитайте сказку про себя внимательно до разделительной линии.
— Какие герои есть в этой сказке?
-В конце стоят 3 точки. Что они обозначают? (Сказка не закончена).
— Дальше послушайте, что говорит Михаил Потапович.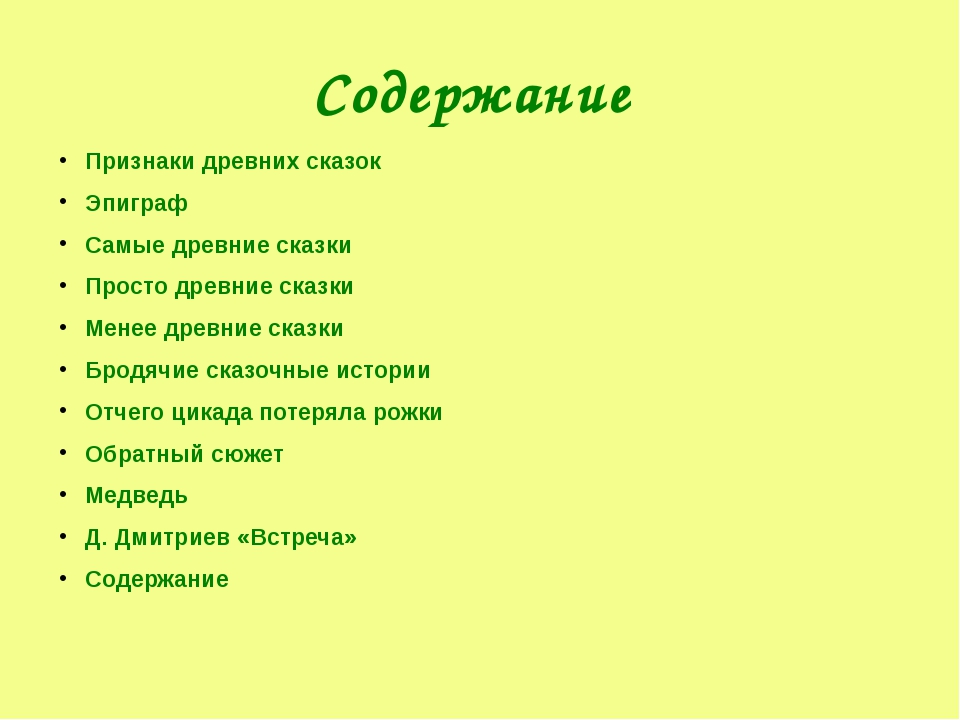
— Чтение авторского текста на с.69.
— Перед тем, как прочитать сказку до конца, о чем предупреждает знак в левом верхнем углу? (Толковый словарь).
Какое слово должны найти? (Закрома). Говорите правильно. Закрома.
— Читаем по цепочке. Внимательно следите. 3 ученика читают. Улыбки – оценки.
— Что объясняет эта сказка? (Происхождение полосок на спине бурундука).
Посмотрите знак внизу рисунка. (Вспомни пройденное).
— Вспомните, в какой сказке еще объяснили, почему у бурундука на спине полоски? (Откуда пошли болезни и лекарства. Сказка индейцев Северной Америки).
Работа с картой.
Найдите на карте Северную Америку, выделяем (Интер. доска). Найдите Африку, Алтай. Они находятся близко?
Вот и Миша очень удивлен, он не может ответить на вопрос – почему в разных местах людей волновало, как выглядят животные?
— А вы сможете? (Нет). Некоторые дети могут попытаться ответить на этот вопрос. Кто поможет ответить на такой сложный вопрос?
(Михаил Потапович).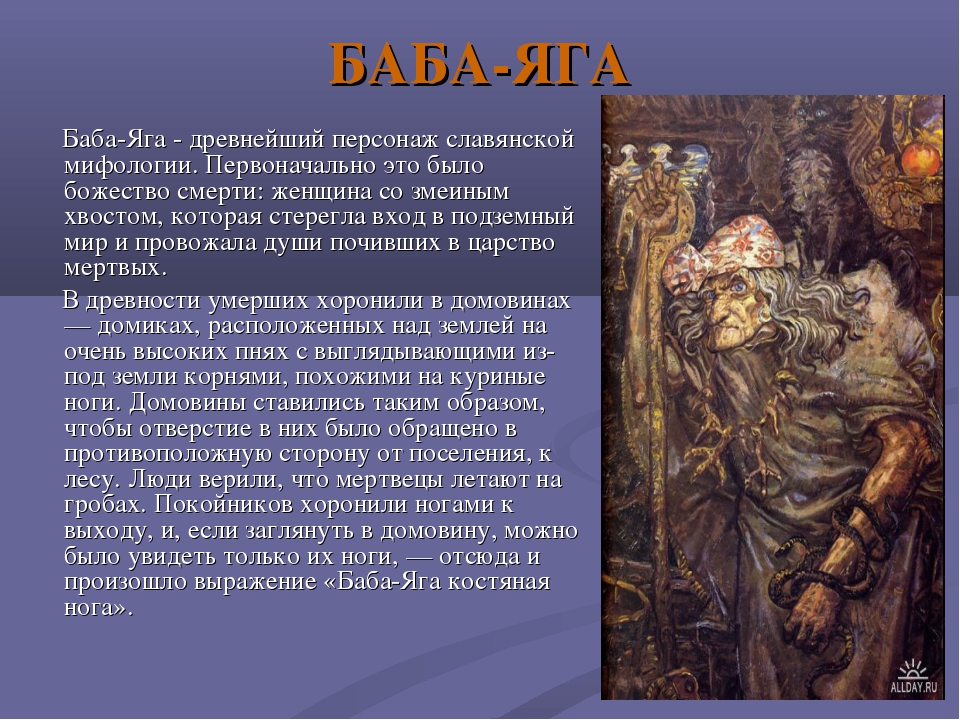
-Внимательно слушайте, что он объясняет.
— Теперь Миша сможет ответить, а вы? Значит, почему в разных местах родились похожие истории?(Потому что у них была похожая жизнь)
-Чтобы это было лучше видно, заполним небольшую таблицу.
Сравним сказки
|
Сказки |
Самая древняя |
Герои |
Объяснение внешнего вида |
Чему учит? |
|
Гиена и черепаха |
||||
|
Нарядный бурундук |
1 столбик – Эти сказки самые древние? (да) Ставим плюс.
2 столбик. – Герои похожи? (Нет) минус
3 столбик – Как объясняют внешний вид животных? (Похоже)
4 столбик – Чему учат сказки? (Дружбе, помогать).
— Больше сходства или различия? (Улыбки – оценки)
5. Закрепление пройденного.
Работа в группах.
Члены клуба «Ключ и заря» приготовили для вас еще одно задание.
1 группа – собираемся около капитана __________
2 группа – собираемся около капитана ___________
3 группа – собираемся около капитана ___________.
Читайте задание.
1. Кто ест скоро, тот и работает споро.
2. Друг познается в беде.
3.Кто не ходит, тот и не падает.
1. Без беды друга не узнаешь.
2. С книгою жить – век не тужить.
3.Семеро одного не ждут.
1. Порядок время бережет.
2.Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
3. Назвался другом — помогай в беде.
Группы выбрали, садитесь. Слушаем капитанов. Какая пословица подходит? Почему? Оценки- улыбки.
— Спасибо за ваши ответы.
6.Рефлексия.
— Вы работали очень дружно. Продолжите предложения.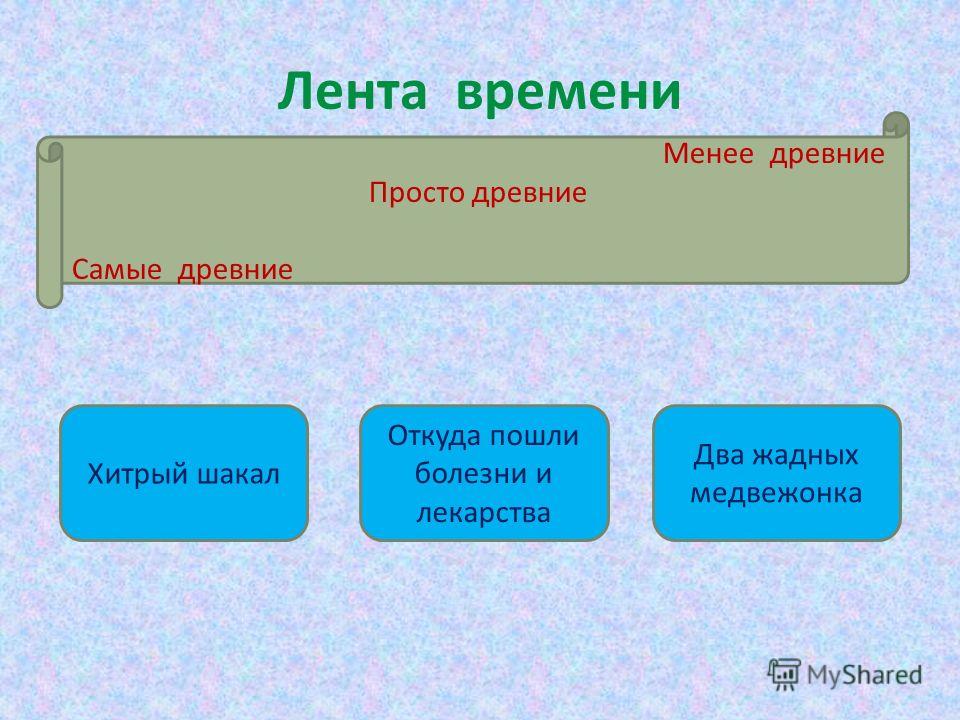
-Я не знал, теперь я знаю… (что 2 сказки объясняют внешний вид животных, самые древние сказки учат нас помогать, как сравнивать сказки).
— Благодарю! Вы очень активные, общительные, весёлые. Оценки я вам за работу поставила на улыбках, которые дарила во время урока. Учитель поставит в дневники и журнал.
На следующих уроках вы продолжите работу по сравнению сказок. Поэтому домашнее задание члены клуба «Ключ и заря» предлагают вам выбрать по желанию.
Посмотрите на экран.
Домашнее задание.
- Читать по ролям и подготовить пересказ понравившейся сказки.
«Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук.» Можно нарисовать рисунок.
- Найти 2-3 пословицы о дружбе и взаимопомощи.
- Взять в библиотеке сборники сказок и принести на урок.
Они написали их в письме и отдают каждому. Дома подумайте и сами выберите задание.
— Герои сегодняшних сказок научили меня тоже быть благодарной, у вас я многому научилась. Дарите друг другу улыбки всегда.
Отчего у гиены задние ноги короткие
Сказка готтентотов
Встретились однажды шакал и гиена, и, пока они разговаривали, поднялось над ними большое белое облако.
Увидел это шакал, и захотелось ему попробовать облако, потому что было оно белое, как сало. Влез шакал на облако и стал есть его. Когда он наелся, захотелось ему спуститься вниз, а облако тем временем поднялось высоко.
Тогда шакал крикнул гиене:
— Сестрица, я хочу поделиться с тобой! Поддержи меня, я спущусь!
Прыгнул шакал, а гиена поддержала его и не дала ему упасть. Потом и гиена полезла на облако, забралась на самую вершину и стала кусать его.
Насытившись, она крикнула шакалу:
— Эй, серый брат, держи теперь ты меня, да покрепче! Хитрый шакал ответил:
— Не бойся, сестрица, спускайся, я поддержу тебя! -Поднял он вверх лапы, а гиена стала слезать с облака. Она
спустилась на самый край и была уже близко от земли, как вдруг шакал отпрыгнул в сторону и закричал жалобно:
— Ой, сестрица, не сердись! Ах, как мне больно! Мне в ногу вонзился острый шип, он страшно колет меня!
Но гиена уже не могла удержаться и, упав со всего размаха на землю, отшибла себе задние ноги.
Вот и сказке Отчего у гиены задние ноги короткие конец, а кто слушал — молодец!>Сказки народов Африки, Австралии и Океании.
Сказки народов Африки, Австралии и Океании, стр. 6
А в это время мимо проползала улитка. Увидел ее кот, обрадовался:
— Улитка, отвяжи меня!
— А ты меня не убьешь, когда я освобожу тебя? — спросила улитка.
— Нет, нет, — заверил кот, — ничего худого тебе не сделаю.
Освободила улитка кота.
Пришел кот домой и сказал зверям, которые жили по соседству с ним:
— Через пять дней оповестите всех, что я умер и вы собираетесь меня хоронить.
Ничего звери не поняли, но согласились выполнить просьбу кота.
Вот прошло пять дней. Кот улегся на землю, вытянулся и притворился мертвым.
Звери приходят и видят: кот-то мертвый.
А среди зверей была и обезьяна.
Подошла она поближе — проститься с котом, а он как вскочит! Как бросится на нее!
Обезьяна наутек! Только тем и спаслась от кота, что на дерево вспрыгнула.
Вот с тех самых пор обезьяна живет на деревьях и не любит ходить по земле. Это потому, что она очень боится лесного кота.
Откуда пошли ослы
Перевод Ф. Никольникова
Сказка манкань
или когда-то на свете лошади, а ослов и в помине не было. Но среди лошадей оказался один на диво забывчивый конь. Однажды пришел он к богу и говорит:
— Сеньор бог! Будьте добры, скажите, как меня зовут?
Посмотрел на него бог и отвечает:
— Тебя зовут Конь!
Не прошло и двух дней, конь снова забыл свое имя. Опять явился он к богу и попросил напомнить ему, как его зовут.
Бог был в хорошем настроении. Улыбнулся он и сказал:
— Тебя зовут Конь. Но не будь таким рассеянным, больше не забывай свое имя и не тревожь меня попусту. У меня и без тебя дел много.
Помотал Конь головой в знак благодарности и ушел.
Еще несколько дней прошло. И вот как-то ночью проснулся Конь и никак не может вспомнить свое имя! Думал, думал, но все без толку.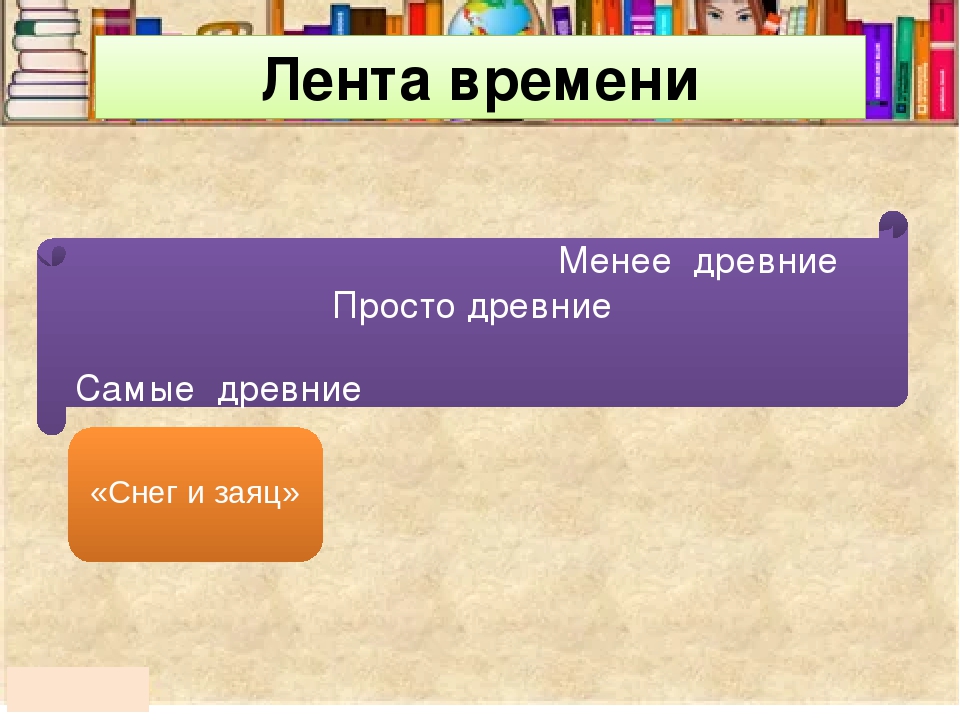
На этот раз бог был в дурном настроении, а когда узнал, зачем явился Конь, совсем рассердился.
— Осел, вот ты кто! — закричал бог в сердцах. — Понял? Осел и Ослом останешься!
И бог приделал коню длинные уши, чтобы тот лучше слышал, что ему говорят.
С тех пор и появились на земле длинноухие ослы.
Отчего у гиены задние ноги короткие
Перевод И. Охотиной
Сказка готтентотов
стретились однажды шакал и гиена, и, пока они разговаривали, поднялось над ними большое белое облако.
Увидел это шакал, и захотелось ему попробовать облако, потому что было оно белое, как сало. Влез шакал на облако и стал есть его. Когда он наелся, захотелось ему спуститься вниз, а облако тем временем поднялось высоко.
Тогда шакал крикнул гиене:
— Сестрица, я хочу поделиться с тобой! Поддержи меня, я спущусь!
Прыгнул шакал, а гиена поддержала его и не дала ему упасть.
Потом и гиена полезла на облако, забралась на самую вершину и стала кусать его.
Насытившись, она крикнула шакалу:
— Эй, серый брат, держи теперь ты меня, да покрепче!
Хитрый шакал ответил:
— Не бойся, сестрица, спускайся, я поддержу тебя!
Поднял он вверх лапы, а гиена стала слезать с облака. Она спустилась на самый край и была уже близко от земли, как вдруг шакал отпрыгнул в сторону и закричал жалобно:
— Ой, сестрица, не сердись! Ах, как мне больно! Мне в ногу вонзился острый шип, он страшно колет меня!
Но гиена уже не могла удержаться и, упав со всего размаха на землю, отшибла себе задние ноги. С той поры, говорят, у гиены задние ноги короче передних.
Откуда у зайца шапочка
Перевод Ф. Никольникова
Сказка манкань
еперь носит заяц на голове шапочку из темного меха. А раньше была у него белая шапочка. Сшил ее зайцу его отец, старый заяц. Да только не долго пришлось зайцу в ней щеголять. Увидел его шакал и отнял шапочку.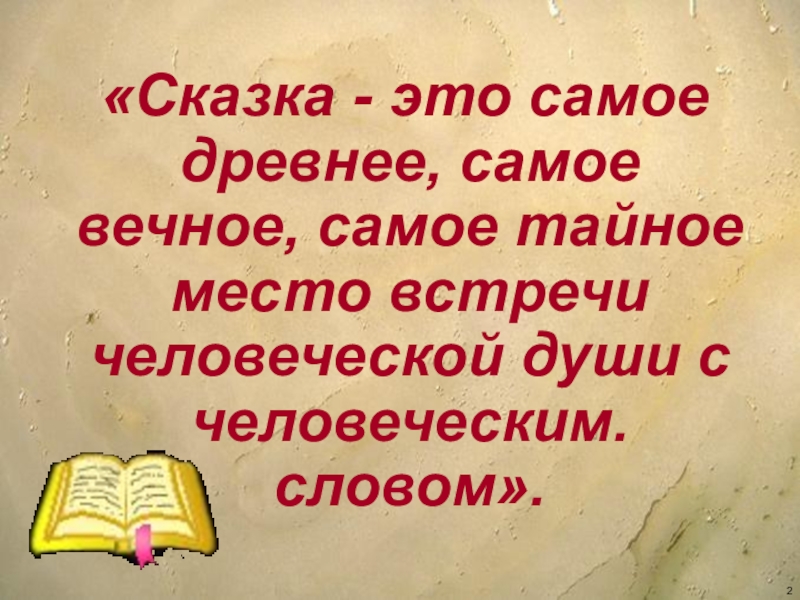
Как-то раз встретил заяц шакала в лесу и говорит:
— Брат шакал! Я знаю тут одно дерево, где живут пчелы. Помоги мне набрать меда! Сам я мал и до дупла не допрыгну.
Услышал шакал про мед и обрадовался:
— Веди меня скорее, показывай, где то дерево с дуплом! Я до меда живо доберусь.
Привел заяц шакала к большому дереву, где в дупле жили пчелы. Начал он прыгать вокруг дерева и жаловаться:
— Видишь, брат шакал, никак мне до дупла не достать! Попробуй сам, может быть, ты допрыгнешь.
Разбежался шакал, прыгнул на дерево и вцепился передними лапами в край дупла. Засунул лапу в дупло, отковырнул кусок сотов с медом, сбросил вниз. Заяц тут же подхватил соты и спрятался за дерево. Быстро высосал мед и закричал шакалу:
— Брат шакал! Зачерпни поглубже, а то здесь меду нет, одна вощина!
Шакал устал держаться лапами за край дупла и решил залезть в него поглубже.
А заяц как закричит испуганным голосом:
— Брат шакал, охотники! Ой-ой-ой, видно, облава! И похоже, идут сюда. Слезай скорее!
Попробовал шакал вытащить голову, а не может. А пчелы жалят еще сильнее!
— Брат заяц! — прохрипел шакал. — Не вытащить мне головы из дупла. Сбегай к питону, попроси его помочь мне, иначе я здесь умру.
— Хорошо, брат шакал, — сказал заяц. — Только достань побольше меда, я его питону снесу, а то ведь он даром и с места не сдвинется.
Набросал шакал соты с медом на землю. Подобрал их заяц, отнес домой. Дома спрятал мед, взял свой большой барабан и бегом к дуплу.
Бежит, бьет в барабан и кричит:
— Брат шакал! Питона нет дома! А облава все ближе.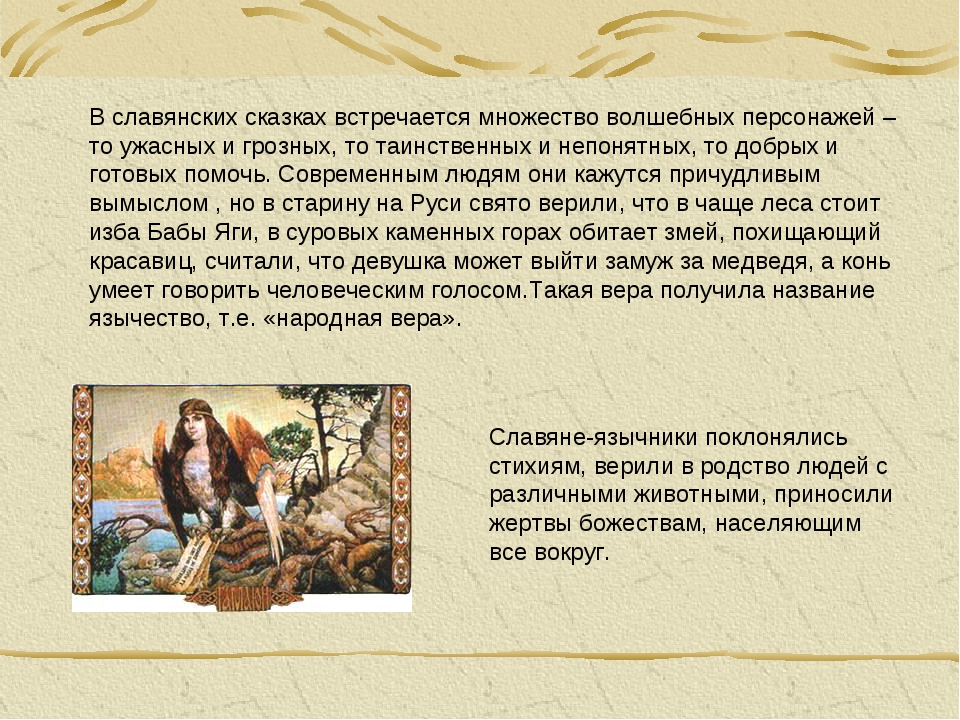
И тут заяц изо всех сил начал бить в барабан.
Услышал шакал барабанный грохот, рванулся и выдернул голову из дупла. Шлепнулся шакал на землю, бросился наутек подальше от того места, где гремел барабан.
Когда он убежал, заяц вылез из кустов. Видит:
висят на дереве клочья темной шакальей шкуры. Допрыгнул до них заяц, снял с дерева. Отнес эти клочки своему отцу и попросил сшить из них шапочку.
Сшил отец зайцу новую шапочку. Надел он ее и пошел щеголять по лесу. Да, на беду, повстречался ему шакал. Увидел он новую шапочку зайца и спрашивает:
— Откуда она у тебя? Что-то мех знакомый — чей бы это?
— Да ведь это клочья от твоей шкуры, шакал!
— А ну давай сюда шапочку, раз она из моей шкуры сшита!
— Как бы не так, брат шакал! Мою белую шапочку ты отнял, но эту темненькую не получишь!
Разъярился шакал, бросился на зайца, но тот прыгнул в сторону и пустился наутек.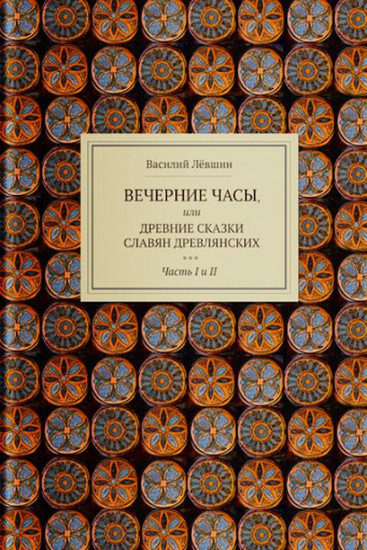
Да разве шакалу зайца поймать?
Вот и бегают зайцы по сей день в темных шапочках.
Почему павиан таращит глаза
Перевод Ф. Никольникова
Сказка манджак
Десять древних историй и геологические события, которые могли их вдохновить |
Наука
Мифы питали воображение и души людей на протяжении тысяч лет. Подавляющее большинство этих сказок — просто истории, которые люди передавали на протяжении веков. Но некоторые из них уходят корнями в реальные геологические события прошлого, предупреждая о потенциальных опасностях и выражая трепет перед мощью планеты.
Эти истории кодируют наблюдения людей, которые были их свидетелями, говорит геофизик Патрик Нанн из Университета Саншайн-Кост в Австралии, изучавший связи между природными опасностями и историями, рассказываемыми в Тихом океане.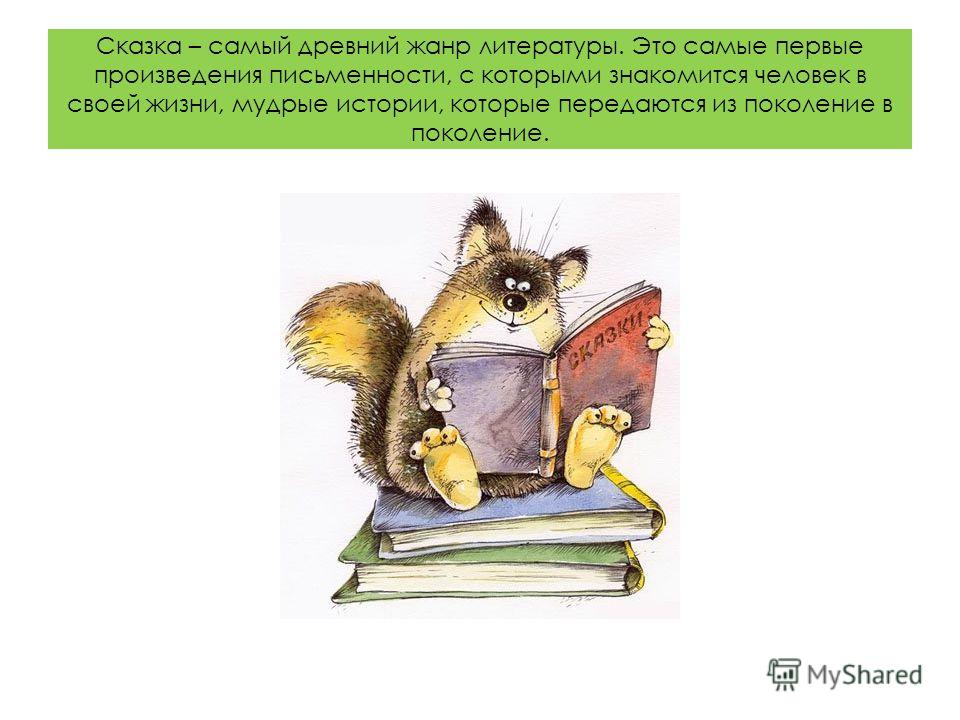
Невозможно сказать, что произошло раньше, катастрофа или история. Но сказки могут дать ключ к разгадке прошлого и даже помочь заполнить пробелы в научных знаниях о давних геологических явлениях.
В индуистском эпосе Рамаяна медведи и обезьяны помогают Раме и его брату Лакшману строить плавучий мост между Индией и Ланкой.(Wikimedia Commons)
Согласно преданиям, гигантский сом по имени Намадзу похоронен под Японией.
(Wikimedia Commons)
По Ликийскому пути современной Турции туристы могут посетить Янарташ, место вечного огня Химеры.(Предоставлено пользователем Flickr Дамлиной)
Кратерное озеро Орегона, по словам народа Кламат, было создано в результате великой битвы между Ллао, правившим Нижним миром, и Скеллом, вождем Верхнего мира.
Жители Соломоновых островов в южной части Тихого океана рассказывают истории о Теониману, исчезнувшем острове.(Фото Организации Объединенных Наций / Эскиндер Дебебе)
Небесная мыльная опера с участием Пеле, богини Килауэа, на самом деле описывает деятельность гавайского вулкана.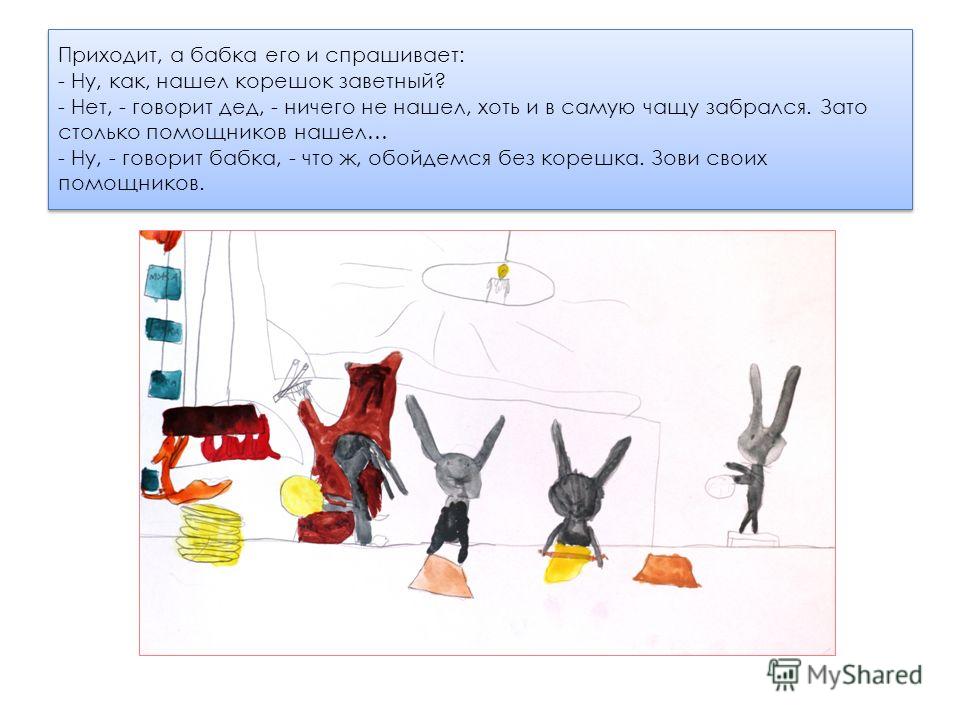
Вот десять древних историй со всего мира и геология, которые, возможно, повлияли на них:
Ноев Ковчег
В хорошо известной истории, рассказанной среди христиан, евреев и мусульман (и в кинотеатрах на этой неделе), Бог решил уничтожить Землю великим потопом, но пощадил одного человека, Ноя, и его семью.По повелению Бога Ной построил огромную лодку, ковчег, и наполнил его по два каждого животного. Бог покрыл Землю водой, затопив всех и вся, что когда-то бродило по земле. Ной, его семья и животные в ковчеге выжили и заселили планету заново.
Наука : Подобные истории о наводнении рассказывают во многих культурах, но глобального потопа никогда не было. Во-первых, в системе Земли просто недостаточно воды, чтобы покрыть всю сушу. Но, как говорит Нанн, «вполне может быть, что Ноев наводнение — это воспоминание о большой волне, которая на несколько недель затопила определенный участок земли, и на этом участке земли негде было сухо, чтобы жить.Некоторые геологи полагают, что история Ноя могла быть вызвана катастрофическим наводнением в Черном море около 5000 г. до н. Э.
У людей есть естественная тенденция преувеличивать свои воспоминания, превращать плохое событие в гораздо худшее. И глобальное наводнение — одно из объяснений чего-то вроде открытия ископаемых морских раковин на склоне горы, — говорит Адриенн Майор, историк древней науки из Стэнфордского университета. Однако теперь мы знаем, что тектоника плит ответственна за подъем скал со дна океана на большие высоты.
Оракул в Дельфах
В Древней Греции, в городе Дельфы на склонах горы Парнас, находился храм, посвященный богу Аполлону.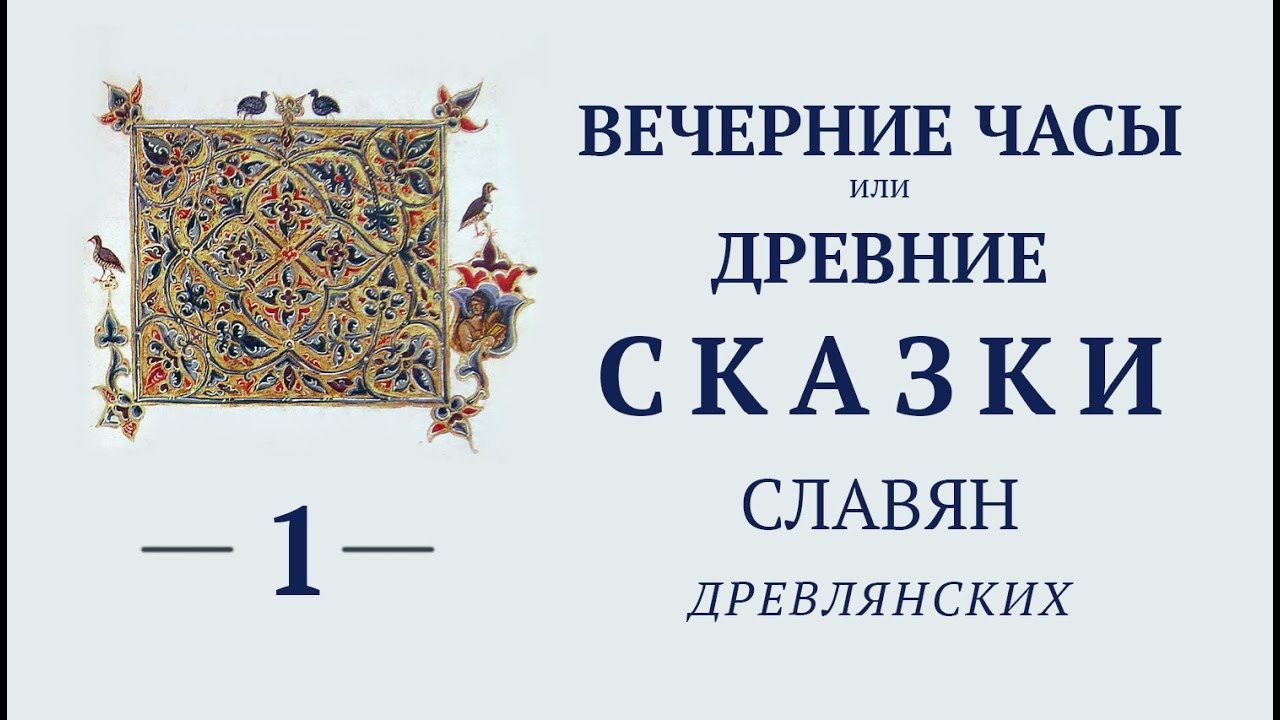
Наука : Храм был настоящим местом, и ученые обнаружили два геологических разлома, протекающие под ним, теперь уже в руинах. Вероятно, газ исходил из этих трещин, когда оракул действовал. Но исследователи спорят о составе газовой смеси, вызывающей эйфорию. Теории включают этилен, бензол или смесь диоксида углерода и метана.
Атлантис
Платон, древнегреческий философ, писал о великой цивилизации под названием Атлантида, основанной расой людей, которые были наполовину богами и наполовину людьми.Они жили в утопии, имевшей большую военно-морскую мощь. Но их дом, расположенный на островах, имеющих форму концентрических кругов, был разрушен во время великого катаклизма.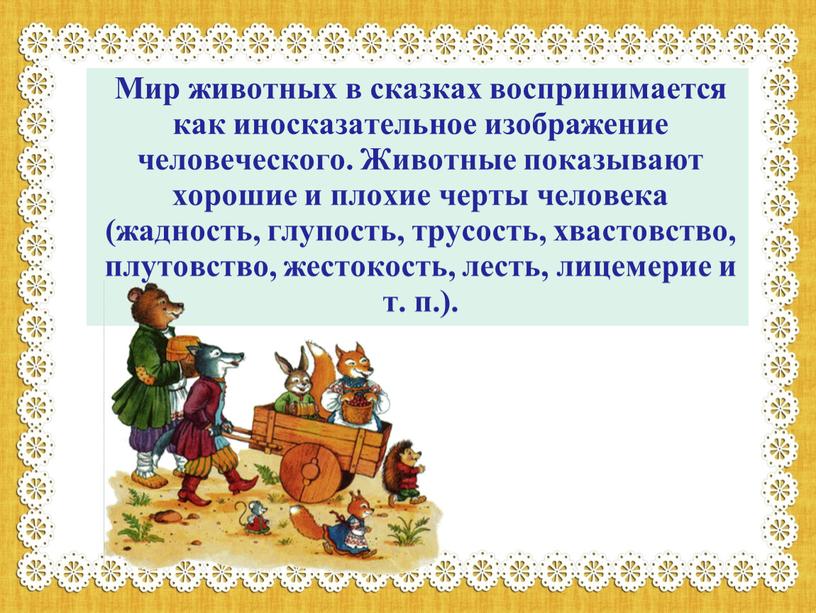
Наука : Атлантида, вероятно, не была настоящим местом, но настоящая островная цивилизация, возможно, вдохновила эту историю. Среди претендентов — Санторини в Греции. Сейчас Санторини представляет собой архипелаг, но тысячи лет назад это был единственный остров — вулкан Тера. Около 3500 лет назад вулкан взорвался в результате одного из крупнейших извержений в истории человечества, разрушив остров, вызвав цунами и выбросив тонны двуокиси серы в атмосферу, где он сохранялся годами и, вероятно, вызвал много холодных и влажных летних сезонов.Эти условия испортили урожай в регионе и, как считается, способствовали быстрому упадку минойцев, которые доминировали в Средиземном море с близлежащего Крита.
Город Хелике в Греции также был предложен как источник вдохновения для Атлантиды. Древний мегаполис был стерт с лица земли землетрясением и цунами в декабре 373 года до нашей эры.
Пеле, богиня Килауэа
Пеле приехала на Гавайи со своими сестрами и другими родственниками.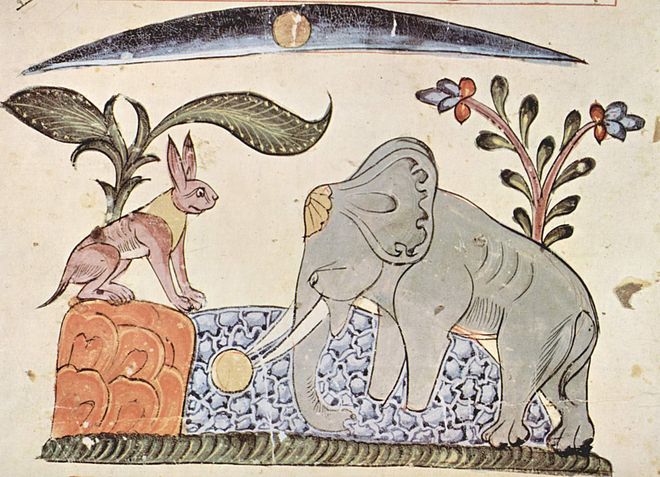
Наука : То, что кажется небесной мыльной оперой, на самом деле описывает вулканическую активность в Килауэа, говорят ученые. Горящий лес, вероятно, был потоком лавы, крупнейшим на острове с момента его заселения полинезийцами.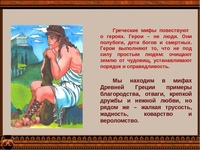
Мост Рамы
В индуистском эпосе « Рамаяна » Сита, жена бога Рамы, похищается и отправляется в Королевство Демонов на острове Ланка.Медведи и обезьяны помогают Раме и его брату Лакшману строить плавучий мост между Индией и Ланкой. Рама возглавляет армию обезьяноподобных мужчин и спасает свою жену.
Наука : Спутниковые изображения показывают 29-километровую линию известняковых отмелей, протянувшуюся между Индией и Шри-Ланкой, которые были бы затоплены, когда уровень моря поднялся после последнего ледникового периода.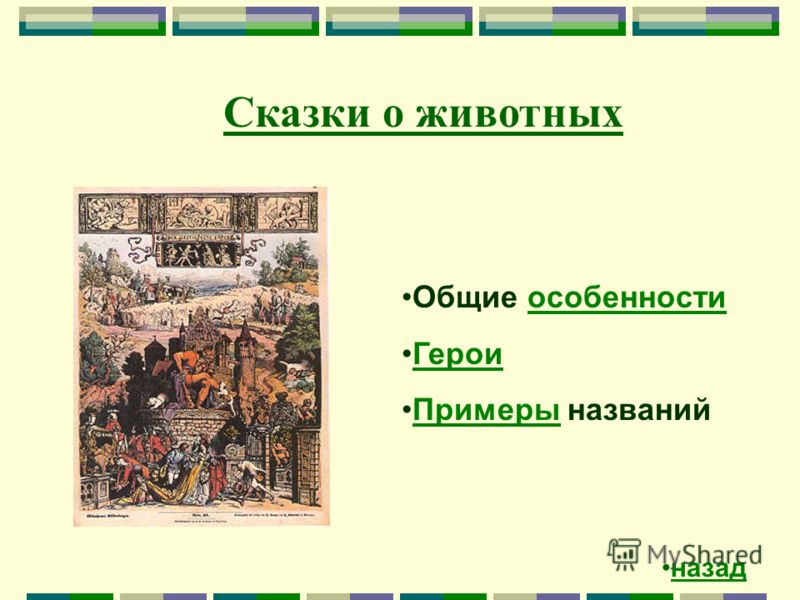
Более недавнее природное событие, цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 года, раскрыло правду о легенде о Махабалипураме, портовом городе на северо-восточном побережье Индии, в котором, как утверждается, располагалось семь пагод. Сегодня существует только одна пагода — Береговой храм. Но великое цунами удалило многовековые осадочные породы со дна океана недалеко от побережья, обнажив несколько затопленных храмов.
Взрывающееся озеро
Народ Ком в Камеруне недолго прожил на земле Бамесси.Лидер, или Фон, Ком раскрыл заговор Бамесси Фон с целью убить всех молодых людей в его королевстве, и Ком Фон поклялся отомстить. Он сказал сестре, что повесится, и из его тела образуется озеро. Ком не должны были приближаться к озеру — они должны были оставить рыбу Бамесси и подготовиться к тому, чтобы покинуть этот регион в день, установленный для ловли рыбы.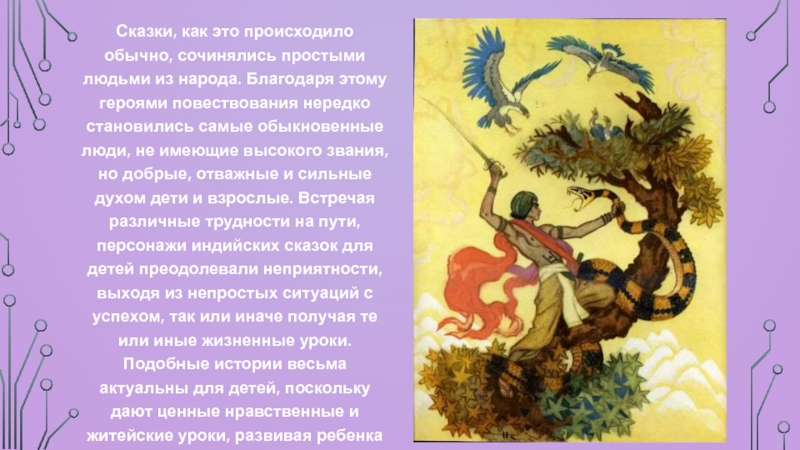
Наука : Ночью 21 августа 1986 года озеро Ниос, вулканическое озеро в Камеруне, выпустило смертоносное облако углекислого газа, убив 1700 человек, спящих в близлежащих деревнях. Небольшое событие дегазации на озере Монун двумя годами ранее привело к гибели 37 человек. Углекислый газ может накапливаться в водах на дне вулканических озер, таких как эти, где он остается растворенным под давлением воды в озере выше. Но сейсмическая активность может вызвать внезапный выброс газа, который распространится по земле и задушит любого, кто окажется в облаке.Такие события могли быть причиной взрыва озера в легенде Ком.
Мэр отмечает, что Африка — не единственное место, где есть поучительные рассказы о смертоносных озерах. У греков и римлян также были истории, предупреждающие о долинах или водоемах, которые убивали пролетающих над ними птиц. Они также могут описывать реальные места.
Намазу, Землетрясение
Под Японией погребен гигантский сом по имени Намадзу. Бог Кашима удерживает Намазу неподвижно с помощью гигантского камня, помещенного на голову рыбы.Но когда Кашима поскользнулся, Намазу может двигать своими щупальцами или хвостом, заставляя двигаться землю наверху.
Наука : Япония, которая расположена на стыке нескольких тектонических плит, является домом для вулканов и пересечена сейсмическими разломами, что делает ее страной номер один для землетрясений — в гигантских сомах нет необходимости. Сом также фигурирует в японском мифе и по-другому: рыбы предположительно способны предсказывать землетрясения. Однако десятилетия исследований не смогли найти никакой связи между поведением сома и землетрясениями, и теперь страна полагается на сложную систему раннего предупреждения, которая обнаруживает сейсмические волны и отправляет сообщения людям, чтобы они могли принять меры, такие как замедление поездов, до прибывает худшее из тряски.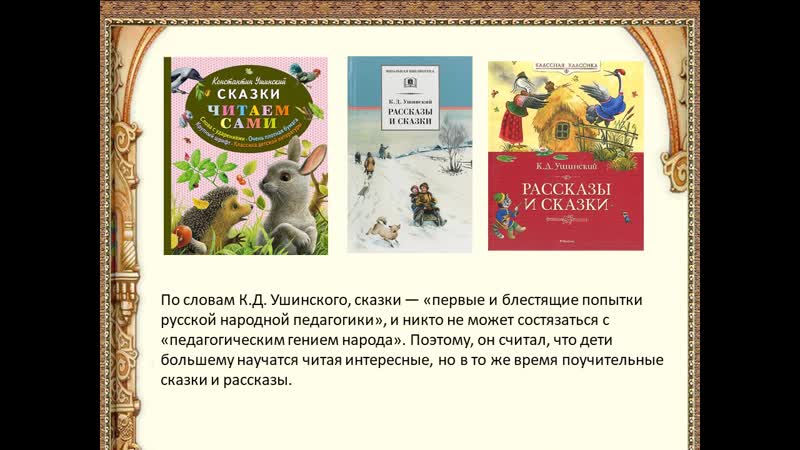
Химера
В «Иллиаде » Гомер описывает существо «бессмертного вида, не человека, с львом лицом и змеей позади, козлом посередине и фыркающим дыхание ужасного пламени яркого огня». Это Химера, дочь полуженщины-полузмеи Ехидны и убитая героем Беллерофонте. Но ее пылающий язык остался гореть в ее берлоге.
Наука : По Ликийскому пути современной Турции туристы могут посетить Янарташ, место вечного огня Химеры.Там метан выходит из десятков трещин в земле. Горящий газ, вероятно, горит на протяжении тысячелетий, и моряки уже давно используют его как естественный маяк. Миф, вероятно, предшествовал грекам и римлянам, начиная с хеттов, говорит Майор. У хеттской химеры было три головы: основная человеческая голова, голова льва, обращенная вперед, и голова змеи на конце ее хвоста.
Создание кратерного озера
Когда первые европейцы прибыли на Тихоокеанский Северо-Запад, они услышали от народа Кламат рассказ о создании Кратерного озера.
Наука : Сказание, которое услышали исследователи, было недалеко от правды, хотя это были не разгневанные боги, а вулкан Гора Мазама, извергнувшийся 7700 лет назад. «В устных преданиях действительно содержатся подробности взрыва», — отмечает мэр. Ученые теперь признают, что сказки Кламатов описывают реальное событие. Раскаленные камни действительно разлетаются по небу во время извержения вулкана. Гора действительно рухнула, образовав вулканическую кальдеру, залитую дождевой водой.
Что необычно в этой истории, так это то, что она рассказывалась 7000 лет и передавалась из поколения в поколение.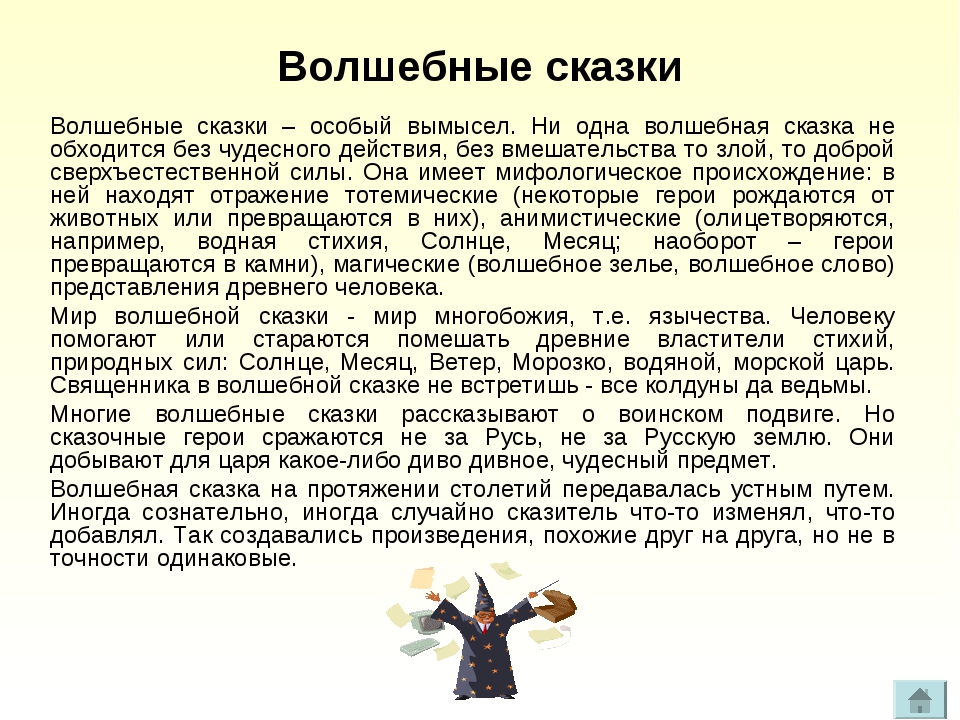
Исчезнувший остров
Жители Соломоновых островов в южной части Тихого океана рассказывают истории о Теониману, исчезнувшем острове. Рапуанат взял женщину с острова в жены, но брат взял ее обратно.Итак, Rapuanate обратилась к колдовству в качестве мести. Ему было дано три растения таро: два для посадки на Теониману и одно для сохранения. Когда на его растении проросли новые листья, это было признаком того, что остров вот-вот затонет. Однако люди получили уведомление о необходимости покинуть остров — он стал соленым, когда вода в океане поднялась. Они бежали на лодках, плотах или цепляясь за деревья, смытые с земли.
Science : Lark Shoal находится на восточной окраине Соломоновых островов, в части хребта, примыкающего к желобу мыса Джонсона глубиной 5000 метров.По словам Нанн, землетрясение могло спровоцировать оползень, в результате которого остров упал в траншею.
В отличие от библейских или греческих мифов, которые служат источником вдохновения для многих современных сказок, истории, подобные истории Теониману, малоизвестны и часто даже не записываются, отмечает Нанн. Они хранятся в сознании старшего поколения, передаются от человека к человеку так же, как и сотни или даже тысячи лет.Однако он обеспокоен тем, что с учетом того, что современный образ жизни проникает во все уголки мира, многие из этих историй будут потеряны. «Когда старики, у которых есть эти мифы сегодня, умрут, — говорит он, — многие мифы исчезнут вместе с ними». Как и предупреждения нашего геологического прошлого.
Мифология — Энциклопедия древней истории
Мифология (от греческого мифов для истории о людях и логотипов для слова или речи, то есть устной истории народа) — это изучение и интерпретация часто священных сказки или басни, относящиеся к культуре, известной как мифы, или сборник таких историй, касающихся различных аспектов человеческого существования: добра и зла; смысл страдания; человеческое происхождение; происхождение топонимов, животных, культурных ценностей и традиций; смысл жизни и смерти; загробная жизнь; и боги или бог.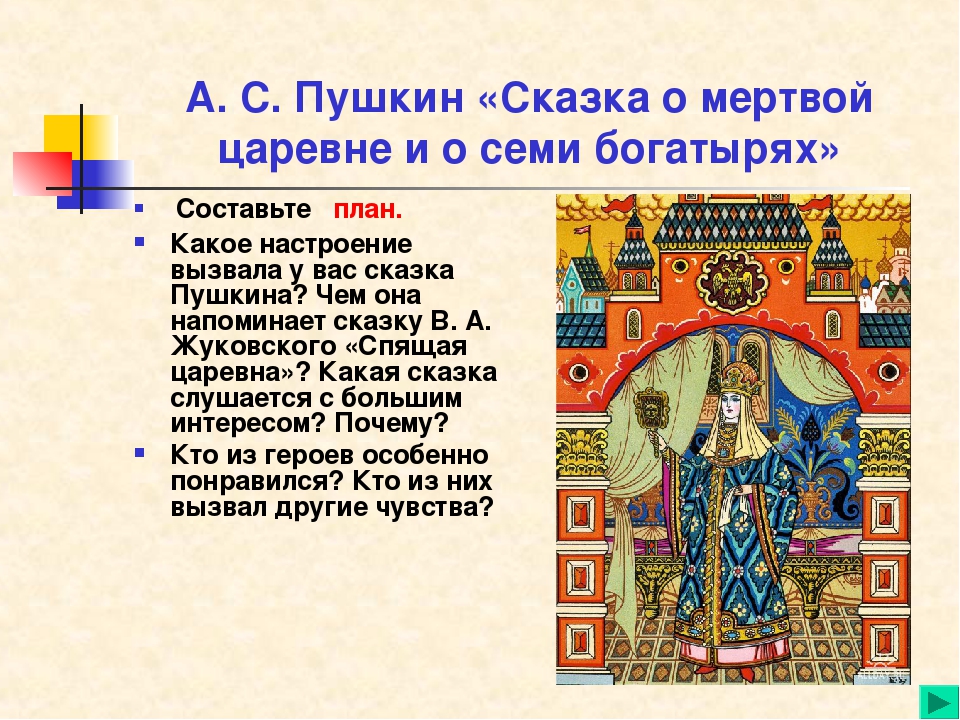
Мифы рассказывают истории о предках и происхождении людей и мира, богах, сверхъестественных существах (сатиры, нимфы, русалки) и героях со сверхчеловеческими, обычно данными богами, силами (как в случае с Гераклом или Персеем). греков). Мифы также описывают происхождение или нюансы давних обычаев или объясняют природные явления, такие как восход и закат, лунный цикл и времена года или грозы и молнии.Ученые Мария Лич и Джером Фрид определяют мифологию следующим образом:
[Миф — это] история, представленная как действительно имевшая место в предыдущую эпоху, объясняющая космологические и сверхъестественные традиции людей, их богов, героев, культурные особенности, религиозные верования и т. Д. Цель мифа — объяснить, и, как сказал сэр Г.Л. Гомм, мифы объясняют вещи в «науке донаучной эпохи». Так, мифы рассказывают о сотворении человека, животных и достопримечательностей; они рассказывают, почему у определенного животного есть свои характеристики (например,грамм.
почему летучая мышь слепа или летает только ночью), почему и как возникли определенные природные явления (например, почему появляется радуга или как созвездие Ориона попало в небо), как и почему начались ритуалы и церемонии и почему они продолжаются. (778)
По мнению психиатра Карла Юнга, миф — это необходимый аспект человеческой психики, которому необходимо найти смысл и порядок в мире.
Мифология играла неотъемлемую роль во всех цивилизациях мира.Доисторические наскальные рисунки, гравюры на камне, гробницы и памятники предполагают, что задолго до того, как люди излагали свои мифы на словах, они уже развили структуру убеждений, соответствующую определению «мифа», данному Личем и Фридом. По словам психиатра Карла Юнга, миф — это необходимый аспект человеческой психики, которому необходимо найти смысл и порядок в мире, который часто представляется хаотичным и бессмысленным. Юнг пишет:
Психика, как отражение мира и человека, представляет собой вещь такой бесконечной сложности, что ее можно наблюдать и изучать с самых разных сторон.
Он сталкивается с той же проблемой, что и мир: поскольку систематическое изучение мира нам не по силам, мы должны довольствоваться простыми практическими правилами и аспектами, которые нас особенно интересуют. Каждый создает для себя свой сегмент мира и строит свою собственную частную систему, часто с герметичными отсеками, так что через некоторое время ему кажется, что он уловил смысл и структуру целого. Но конечное никогда не сможет охватить бесконечное. (23-24)
Бесконечные ссылки Юнга — это нуминозное качество таинственного, святого и могущественного, которое обеспечивает лежащее в основе очарование мифологических сказок и тем, потому что оно придает окончательный смысл человеческому существованию.Представление о чем-то большем и могущественном, чем он сам, дает надежду на направление и защиту в неопределенном мире. Согласно Личу и Фриду, таинственное, святое и могущественное — это «концепция человеческого разума с древнейших времен: основная психологическая реакция на вселенную и окружающую среду, лежащую в основе всей религии» (777).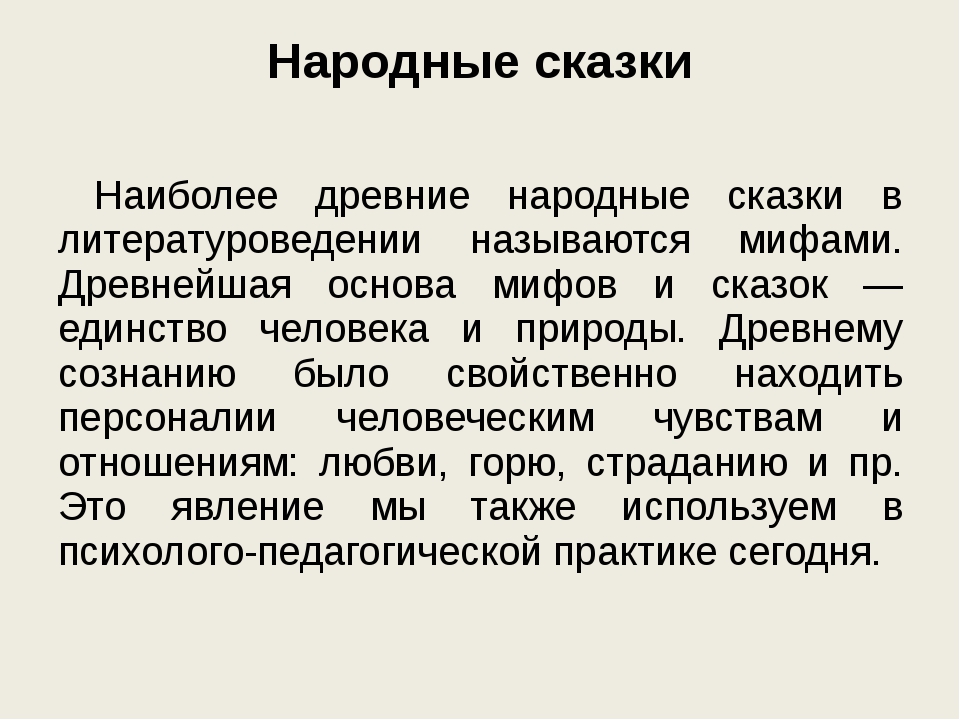
Ра Путешествие по подземному миру
Неизвестный художник (общественное достояние)
Следует помнить, что то, что в наши дни называют «мифологией», было религией древнего прошлого.Истории, составляющие корпус древней мифологии, служили для людей того времени той же цели, что и рассказы из общепринятых писаний для людей сегодня: они объясняли, утешали и направляли аудиторию и, кроме того, давали чувство единства. сплоченность и защита сообщества единомышленников.
История любви?
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку по электронной почте!
Типы мифов
Ученый Джозеф Кэмпбелл отмечает, что мифология является основной формой каждой цивилизации и основой сознания каждого человека.В своей основополагающей работе « Тысячелетний герой » он обсуждает то, что он называет «мономифом», сходство в теме, персонажах, целях и развитии повествования мифов из разных культур, в разное время, по всему миру и на протяжении всей истории.
В чем секрет вневременного видения? Из какой глубины ума он проистекает? Почему мифология везде одинакова, несмотря на разнообразие костюмов? И чему это учит? (4)
Кэмпбелл, в конечном счете, отвечает, что мифы учат значению.Мифология объясняет, укрепляет, стабилизирует и возвышает жизнь верующего от мирской жизни до жизни, наполненной вечным смыслом. На самом базовом уровне миф объясняет явление, традицию, географическое название или геологическое образование, но он также может возвышать прошлое событие до эпического и даже сверхъестественного значения и, что наиболее важно, служить образцом для подражания для индивидуального путешествия по жизни. .
Существует много разных типов мифов, но, по сути, их можно сгруппировать в три:
- Этиологические мифы
- Исторические мифы
- Психологические мифы
Этиологические мифы (от греческого aetion , означающего «разум») объясняют, почему определенная вещь является такой, какая она есть или как она возникла.
Пандора собирается открыть свой ящик
Лоуренс Альма-Тадема (общественное достояние)
Исторические мифы пересказывают событие из прошлого, но возвышают его с большим смыслом, чем реальное событие (если оно вообще произошло). Одним из примеров этого является история битвы на Курукшетре, описанная в индийском эпосе « Махабхарата », в котором братья Пандава символизируют разные ценности и служат образцом для подражания, даже если они иногда бывают ошибочными.
Психологические мифы представляют собой путешествие от известного к неизвестному, которое, по мнению Юнга и Кэмпбелла, представляет психологическую потребность уравновесить внешний мир своим внутренним осознанием этого.Как бы то ни было, история самого мифа обычно вовлекает героя или героиню в путешествие, в котором они обнаруживают свою истинную личность или судьбу и, таким образом, разрешают кризис, а также предоставляют аудитории некоторые важные культурные ценности.
Поддержите нашу некоммерческую организацию
С вашей помощью мы создаем бесплатный контент, который помогает миллионам людей изучать историю во всем мире.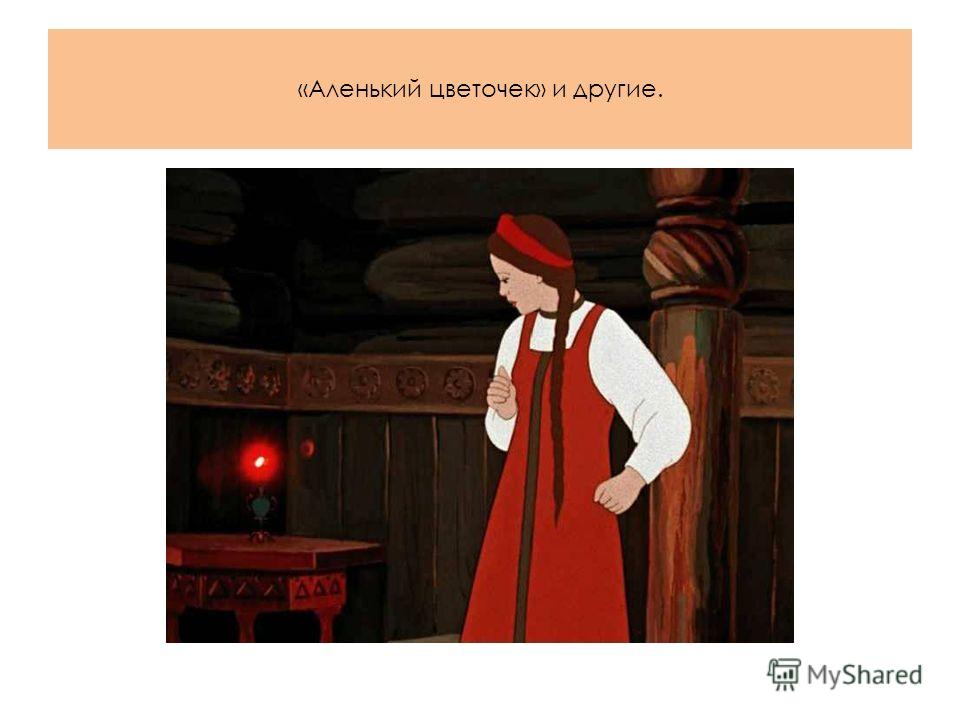
Стать участником
Вероятно, самым известным мифом этого типа является миф об Эдипе-принце, который, стремясь избежать предсказания, что он вырастет, чтобы убить своего отца, оставляет свою жизнь, чтобы отправиться в другой регион, где он, не осознавая этого, убивает человека. который был его настоящим отцом, который бросил его при рождении, пытаясь обойти это предсказание.
Эдип и сфинкс в Фивах
Кэрол Раддато (CC BY-SA)
Сказка об Эдипе могла бы впечатлить древнегреческую аудиторию своей тщетностью в попытках избежать или изменить свою судьбу, как это было предписано богами, и внушила бы людям страх и трепет перед этими богами, внушив тем самым желаемую культурную ценность. На личном уровне история также может побудить слушателя принять любые испытания, которые он или она пережил в то время, поскольку даже такой королевский персонаж, как Эдип, страдал, и, более того, все, с чем бы он ни имел дело, вероятно, было не так плохо, как убийство отца.
Для древних важнее всего был смысл рассказа, а не буквальная истина в деталях определенной версии сказки.
Известные мифы этих типов
Один из самых известных этиологических мифов пришел из Греции в виде сказки о Деметре, богине зерна и урожая, и ее дочери Персефоне, ставшей королевой мертвых. В этой истории Персефона похищена Аидом, богом подземного мира, и сброшена в свое темное царство. Деметра отчаянно ищет девушку повсюду, но не может ее найти.В это время печали Деметры урожай падает, люди голодают, а богам не воздается должное. Зевс, царь богов, приказывает Аиду вернуть Персефону ее матери, и Аид обязывает, но, поскольку Персефона съела определенное количество зерен граната, находясь в подземном мире, она должна провести полгода под землей, но может наслаждаться другим. наполовину со своей матерью наверху мира.
Эта история объясняет смену времен года в Греции. Когда было тепло и поля были изобильны, Персефона была со своей матерью, а Деметра была счастлива и заставляла мир цвести; в холодное и дождливое время года, когда Персефона находилась под землей, а Аид был его царицей, Деметра оплакивала землю, и земля была бесплодной.
Самый известный исторический миф на западе — это эпическая сказка Гомера 8-го века до н.э. о Илиаде , которая повествует об осаде и падении города Трои. Елена, жена ахейского царя Менелая, убегает с троянским принцем Парисом и Менелаем, клянясь вернуть ее домой, заручается поддержкой своего брата Агамемнона, который затем обращается к королям и князьям различных городов-государств за помощью. и они плывут, чтобы атаковать Трою.Великий ахейский герой Ахилл, непобедимый в битвах, чувствует себя оскорбленным Агамемноном и отказывается продолжать сражаться, что приводит к гибели его возлюбленного Патрокла и многих других ахейцев. Хотя в Илиаде рассказывается много разных историй, эта центральная тема опасностей гордости подчеркивается как культурная ценность.
В Китае эта тема была исследована другим способом в рассказе о Фуси (фу-ши), боге огня.Как бог, у Фуси было много обязанностей, но когда его друг, богиня Нува, попросила его о помощи, он не отказался. Нува создала людей, но обнаружила, что они ничего не умеют делать, и у нее не хватило терпения их учить. Фуси принес людям огонь, научил их управлять им и использовать его для приготовления пищи и обогрева. Затем он научил их плести рыболовные сети и извлекать пищу из моря, а затем дал им искусство гадания, музыки и письма. Считается, что Фуси основан на фактическом историческом короле, который жил c.2953–2736 гг. До н. Э. И, возможно, обеспечил порядок, необходимый для подъема династии Ся (ок. 2070–1600 гг. До н. Э.), Первой исторической династии в Китае. В этой истории Фуси отказывается от своей гордости как бога и смиряется в служении своему другу Нува и человечеству.
Неудивительно, что древнейший миф в мире — это психологический миф, касающийся неизбежности смерти и попытки человека найти смысл в жизни.
Скрижаль из эпоса о Гильгамеше
Усамы Шукира Мухаммеда Амина (CC BY-NC-SA)
Джозеф Кэмпбелл назвал самый известный тип психологического мифа «Путешествием героя», в котором история начинается с героя или героини, обычно королевского происхождения, отделенных от своей истинной личности и живущих в хаотическом мире или королевстве.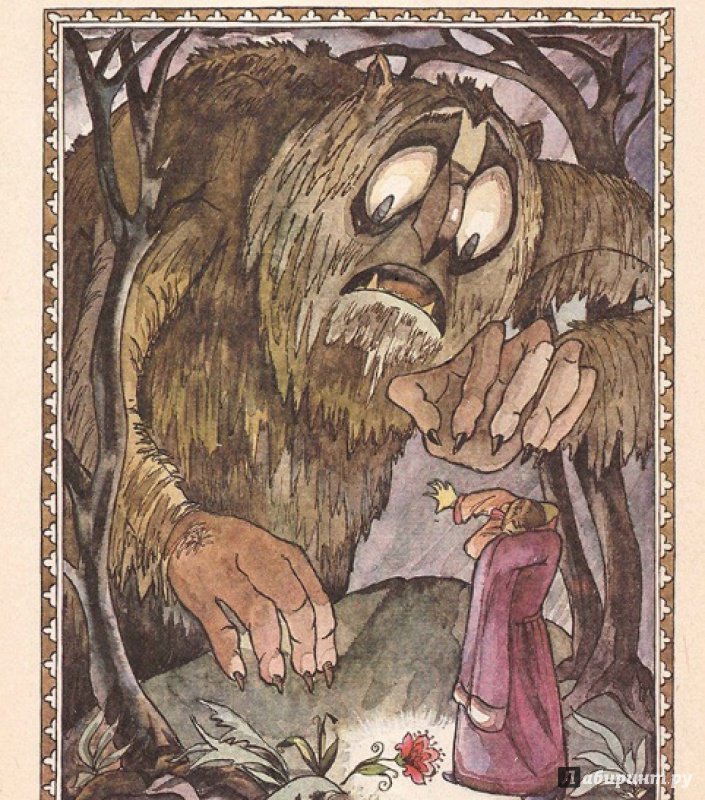
Заключение
В каждой культуре мира была и остается какая-то мифология. Классическая мифология древних греков и римлян наиболее знакома людям на Западе, но мотивы, найденные в этих историях, находят отражение в других по всему миру.Греческая сказка о Прометеях, несущем огонь и учителе человечества, нашла отражение в китайской сказке о Фуси. История Нувы и ее создания людей в Китае перекликается с историей из другого конца света: историей создания из Popol-Vuh майя, в которой созданы люди, которые ничего не могут сделать и оказаться бесполезными, но в истории майя уничтожаются, и боги пытаются снова.
Целью мифа было предоставить слушателю истину, которую аудитория затем интерпретировала для себя в рамках системы ценностей своей культуры.
Одни и те же типы историй, а часто и одна и та же история, можно найти в мифах из разных частей мира. История сотворения, рассказанная, например, в библейской Книге Бытия, где великий бог говорит о существовании творению, очень похожа на истории сотворения из древних Шумеров, Египта, Финикии и Китая.Историю Великого Потопа можно найти в мифологии практически каждой культуры на земле, но ее библейская форма взята из мифа об Атрахасисе в Месопотамии. Фигура Умирающего и Возрождающегося Бога (божество, которое умирает ради блага или искупления грехов своего народа, спускается на землю и снова оживает) восходит к древней Шумерии в сказках. Гильгамеша, стихотворение Сошествие Инанны и др. и египетский миф об Осирисе, греческие рассказы о Дионисе, Адонисе и Персефоне, финикийский цикл Ваала и индуистский Кришна (среди многих других) вплоть до самой известной из этих фигур, Иисуса Христа. В библейской Книге Экклезиаста 1: 9 утверждается, что «нет ничего нового под солнцем», и это относится как к религиозно-мифологическим системам, символам и персонажам, так и ко всему остальному. Заметки Джозефа Кэмпбелла:
В обитаемом мире, во все времена и при любых обстоятельствах процветали мифы о людях; и они были живым источником вдохновения для всего, что могло появиться в деятельности человеческого тела и разума. Не будет преувеличением сказать, что миф — это тайное отверстие, через которое неиссякаемые энергии космоса вливаются в человеческое культурное проявление.Религии, философии, искусства, социальные формы первобытного и исторического человека, важнейшие открытия в науке и технике, те самые сны, которые провоцируют сон, вырастают из основного магического кольца мифа. (3)
Мифология пытается ответить на самые сложные и самые основные вопросы человеческого существования: Кто я? Откуда я взялся? Почему я здесь? Куда я иду? Для древних важнее всего был смысл истории, а не буквальная истина в деталях определенной версии сказки.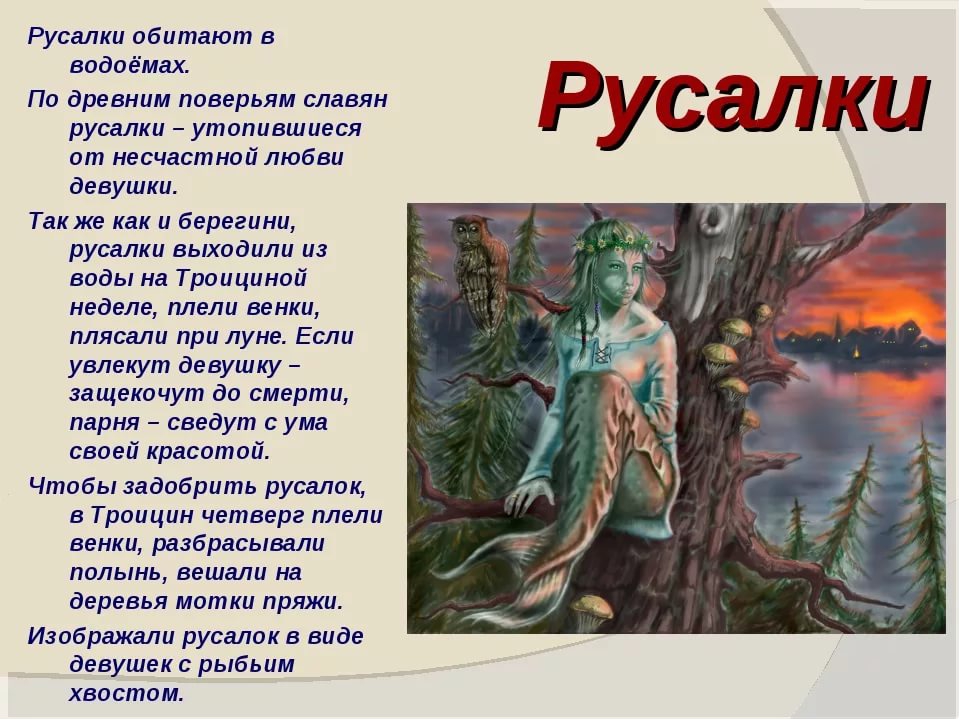
В древнем мире считалось, что цель мифа — предоставить слушателю истину, которую аудитория затем интерпретировала для себя в рамках системы ценностей своей культуры.Понимание реальности было оставлено на усмотрение человека, столкнувшегося с ценностями, выраженными в мифах, вместо того, чтобы интерпретировать эту реальность авторитетным лицом.
Это остается существенным различием между проповедью и индивидуальным опытом религиозной мифологии; В рамках системы культурных убеждений проповедь может только поощрять или укреплять общие убеждения, в то время как миф, хотя и может делать то же самое, обладает потенциалом поднять и трансформировать индивидуальное понимание посредством силы символического ландшафта, характера, образа и темы.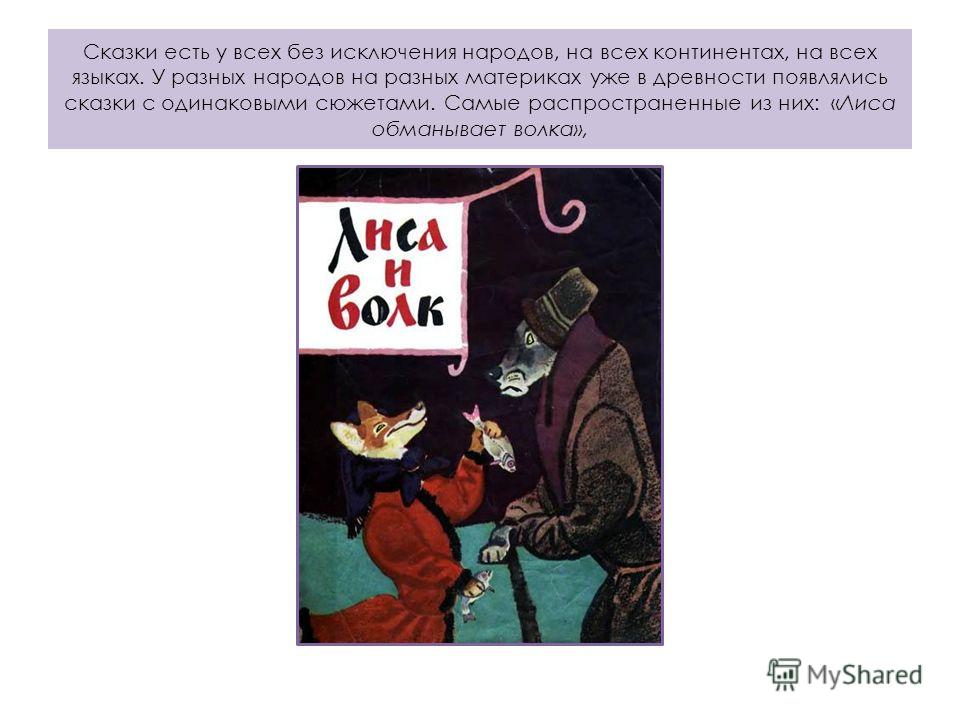
Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.
Пять увлекательных греческих мифов и их значение
Ана Перес Лопес / © Culture Trip
Неудивительно, что Греция обладает сильной культурной и исторической самобытностью, пропитанной мифологией.Эпические рассказы о богах и героях передавались из поколения в поколение и остаются известными сегодня. Вот любимые греческие мифы Culture Trip.
Греческие мифы — прекрасная форма древнего повествования, выходящего за пределы поколений. С первых дней цивилизации греки делились этими обширными рассказами о триумфе и трагедии, любви и потерях, ревности и радости — и, как правило, о большом количестве крови.
Вы когда-нибудь слышали предупреждение: «Не открывайте ящик Пандоры»? Это происходит из этой истории о первой женщине. Пандора была статуей, ожившей Зевсом, богом неба. Другие боги одарили ее умом, грацией и умением. Но некоторые внушали ей хитрость, лживость и беспокойное любопытство. Что может пойти не так?
Пандору послали выйти замуж за титана (в греческой истории сотворения они были раньше богов) по имени Эпиметей. В качестве свадебного подарка Зевс подарил им драгоценную шкатулку с драгоценностями и ключ от нее.Он сказал: «Если вы хотите жить счастливо, никогда не открывайте этот ящик».
Вы можете видеть, к чему все идет…
Прошли счастливые годы для пары, пока беспокойное любопытство Пандоры не взяло верх. Она открыла коробку. Улетели все ужасные бедствия человечества: болезни, голод, боль, отчаяние.
Тем не менее, есть проблеск счастливого конца, поскольку последней, кто покинул ящик, была надежда — утешение человечества, которое останется навсегда, даже в самые мрачные времена.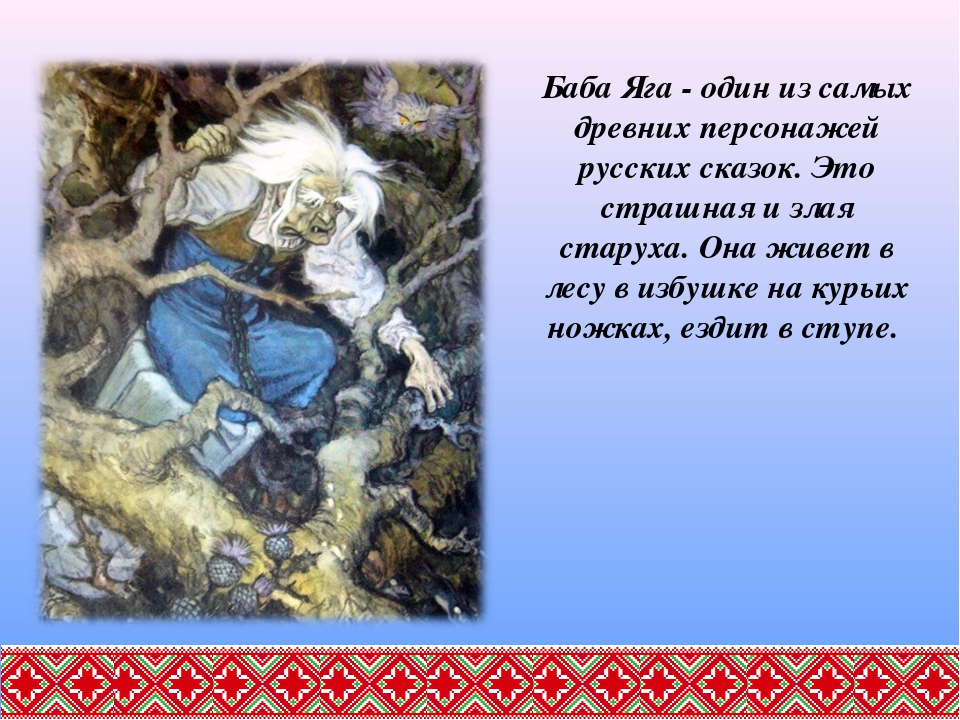
Ана Перес Лопес / © Culture Trip
Познакомьтесь с Тесеем, героем, который совершил много великих дел, прежде чем обратить свое внимание на Минотавра — уродливого получеловека-полубыка, сына Миноса, царя Крита. Минос принес человеческие жертвы Минотавру, который жил в лабиринте. Храбрый Тесей поклялся убить зверя, чтобы положить конец трагедиям.
Он сел на свой корабль на Крит с черными парусами. Его любящий отец передал ему белые паруса и сказал: «Если ты победил, поменяй паруса на белые.Если я увижу черные паруса по возвращении корабля, я буду знать, что вы ушли. Тесей пообещал.
На Крите он встретил Ариадну. Она подарила ему веревку, чтобы он продолжил путь через лабиринт, чтобы он нашел выход.
«Когда ты победишь, — сказала она, — мы можем пожениться». Снова пообещал Тесей. Отважный герой вошел в лабиринт и голыми руками сразил Минотавра. Он последовал за веревкой, схватил свою подругу и радостно отправился в Афины.
Только на этом не закончилось …
Во время путешествия Тесей решил, что ему не нравится Ариадна, и, несмотря на свое обещание, бросил ее на острове и сбежал.Среди волнения и предательства Тесей забыл свое второе обещание. Паруса не менял.
Когда корабль подходил к Афинам, отец Тесея заметил черные паруса и, убитый горем, бросился со скалы.
Мораль — оставаться обоснованным. Не увлекайтесь успехом и славой. Всегда сдерживайте свои обещания. И всегда, Всегда слушай своих родителей…
… что приводит нас к Дедалу, известному художнику, архитектору и изобретателю, сосланному на Крит за свои преступления.
Минос, его похититель, приказал Дедалу построить лабиринт Минотавра. Не любя Миноса, Дедал посоветовал Ариадне отдать веревку Тесею. Видите, как все они связаны?
Минос обнаружил и изгнал Дедала с сыном Икаром в лабиринт. Но умный Дедал построил им крылья из воска и перьев, сказав Икару: «Не летайте слишком низко, поскольку море намочит перья, и не слишком высоко, поскольку солнце растопит воск».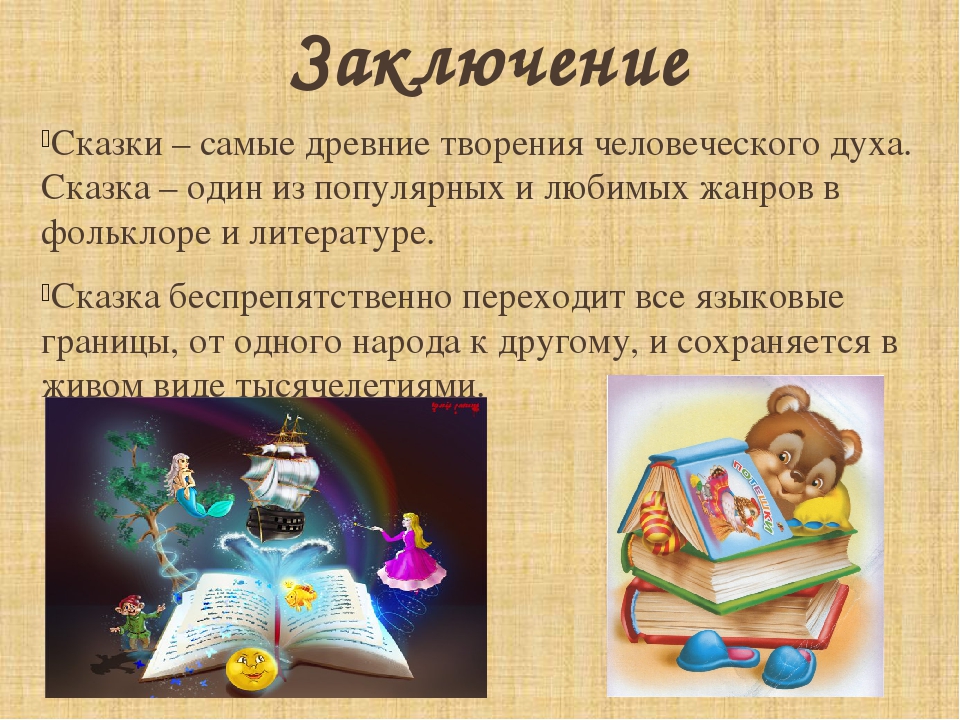
Отец и сын хлопнули крыльями и сбежали, победно пролетев над Критом.Какой красивый образ!
К сожалению, греческие мифы никогда не заканчиваются благополучно. Бедный Икар увлекся. Он летел все выше и выше. Как и предупреждал Дедал, воск на крыльях Икара был растоплен солнцем. Он погрузился в море и утонул.
Трагический финал Икара напоминает нам о том, что в успехе нужно избегать высокомерия.
Ана Перес Лопес / © Культурная поездка
Орфей был очаровательной душой, известной созданием красивой музыки и стихов. Он был влюблен в Эвридику.
Однажды Эвридику укусила смертельная змея.Она отправилась в подземный мир: греческую форму загробной жизни, которой управляет бог Аид.
Орфей был убит горем и не мог смириться с ее смертью. Он отправился в Аид, сыграл ему красивую песню и умолял Эвридику вернуться в мир смертных.
Очарованные, согласился Аид — при одном условии. Орфей должен был идти впереди Эвридики по пути из подземного мира, и Орфей не мог оглянуться назад, пока они не достигли поверхности.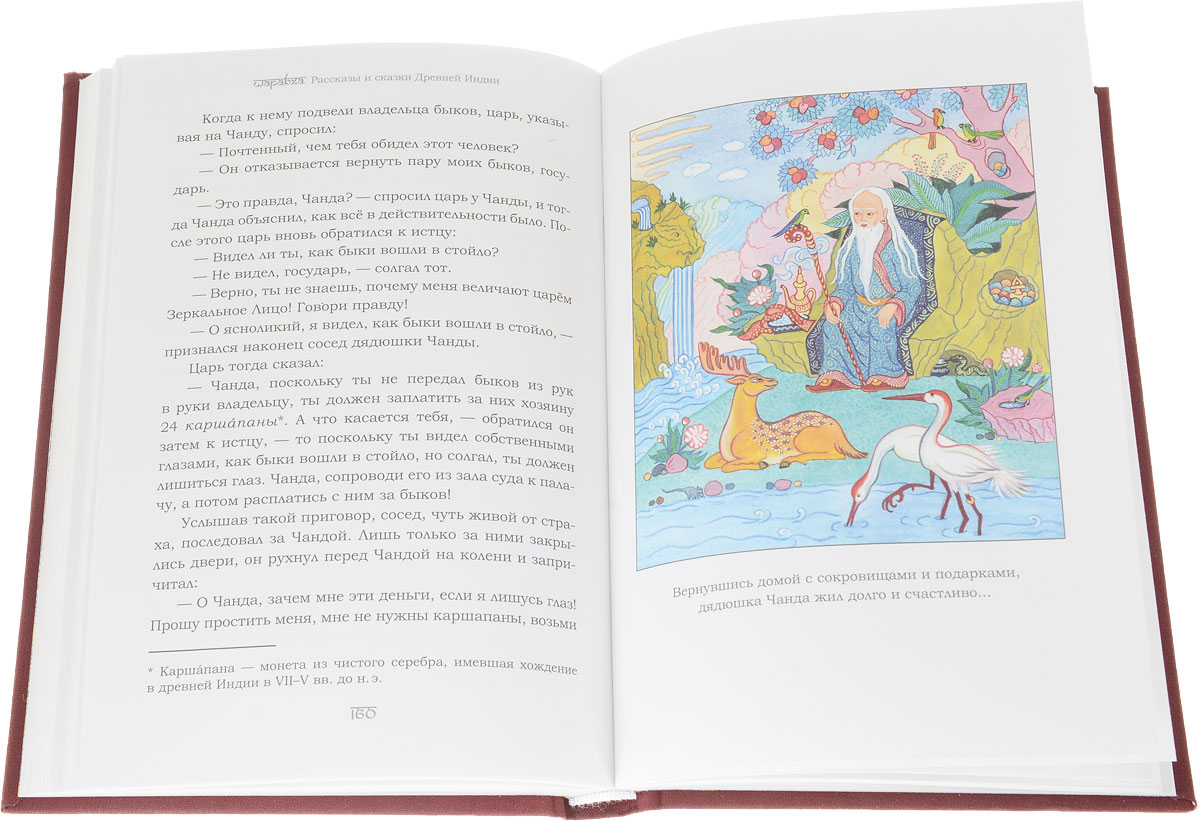
Пара отправилась в путь, но, будучи несчастной душой, Орфей повернулся, чтобы убедиться, что Эвридика в безопасности.Он сломил доверие Аида, и все. Эвридика вернулась в подземный мир навсегда.
Это урок доверия, умения слушать и сопротивляться искушениям.
И наконец Гераклу, самому известному греческому герою тогда и сейчас. Возможно, вы знаете его по римскому имени Геркулес. Но все было не так безупречно чисто, как Дисней мог бы заставить нас поверить…
Геракл был полубогом, сыном Зевса и смертной матерью, после романа.
Гера, богиня, жена Зевса, завидовала Гераклу и его знаменитой силе.
Когда он вырос, она наложила на Геракла временное безумие, и он убил свою жену и детей. Ой!
Трезвый, Геракл опечалился. Он обратился за советом к известному оракулу Дельф, который посоветовал ему искупить его, служа своему кузену, королю Эврисфею.
Но Эврисфей был мстителен и поставил перед Гераклом ряд почти невыполнимых задач.
Так начались знаменитые 12 подвигов Геракла, в том числе борьба со львом, убийство многоголовой змеи, поддержка Земли, чтобы дать отдых Атласу, и укрощение гигантского трехголового сторожевого пса подземного мира Цербера.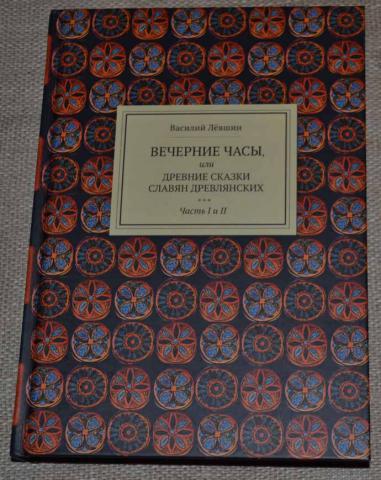
Великий герой справился с любой задачей, закрепив свой легендарный статус.
Но неизбежно (в конце концов, это греческий миф) последовала небольшая часть ужасной трагедии. В конце концов Геракл триумфально взошел на гору Олимп, чтобы жить долго и счастливо с богами.
Миф учит нас, что мстительность не окупается, вы можете преодолеть любое препятствие, и вы будете вознаграждены за добрые дела счастливым концом, даже если вам сначала придется пережить невзгоды.
Краткое изложение мифов
Глава 1: Интерпретация и определение классической мифологии
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИФА
Достичь единого всеобъемлющего определения мифа оказалось невозможным.Ни одно определение не может удовлетворительно охватить все различные виды историй, которые можно законно классифицировать как мифы на основании того или иного критерия.
СМЫСЛ СЛОВА МИФ
«Миф» происходит от греческого слова mythos , которое может означать сказку или историю, и это, по сути, и есть миф: история.Для многих такое общее определение оказывается бесполезным, и некоторые добавляют уточнение, что миф должен быть «традиционной» сказкой или историей, доказавшей такую непреходящую ценность, что ее постоянно пересказывают. какую бы среду ни выбрал художник / рассказчик. Для дальнейшего уточнения часто проводится различие между «мифом», то есть «истинным мифом» или «собственно мифом», и «сагой» или «легендой» и «сказкой».
МИФ, САГА ИЛИ ЛЕГЕНДА И НАРОДНАЯ СКАЗКА
Миф : не исчерпывающий термин для всех историй, а только для тех, кто в первую очередь связан с богами и их отношениями со смертными.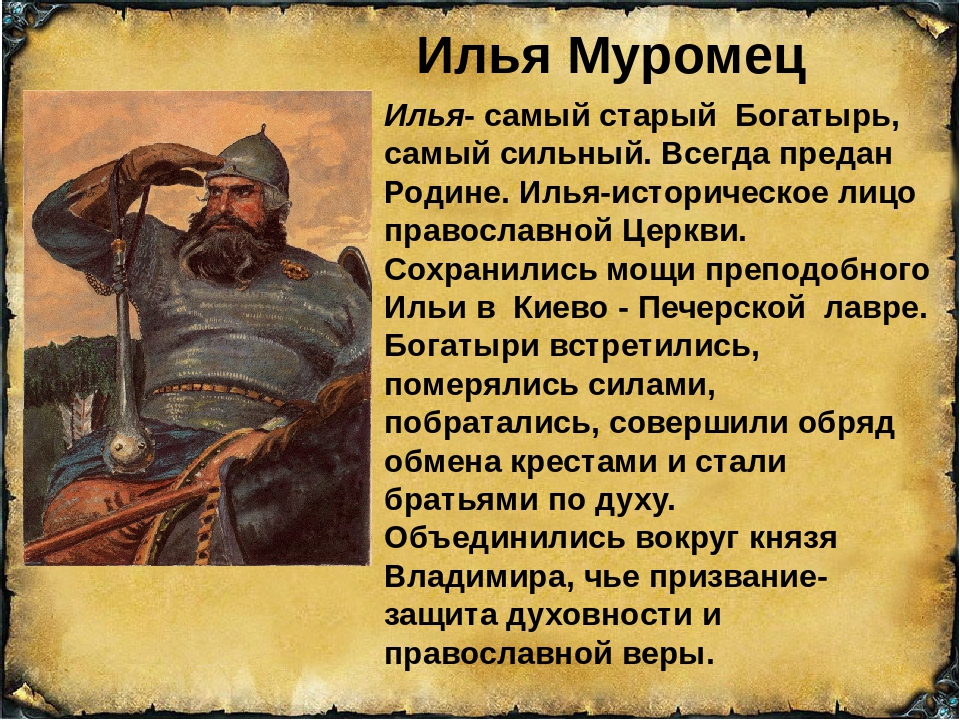
Сага или легенда : история, содержащая зерно исторической правды, несмотря на более поздние вымыслы.
Сказка : рассказ, обычно устного происхождения, содержащий элементы фантастики, часто в образе приключений героя или героини. Его основная функция — развлечение, но оно также может обучать, используя всевозможные идеи. К этой рубрике можно отнести сказки, полные сверхъестественных существ и магии и содержащие более острое нравственное содержание.
Редко, если вообще когда-либо, мы находим в греческой и римской мифологии первозданный, чистый пример любого из этих типов историй.
МИФ И ПРАВДА
Чаще всего слова «миф» и «мифическое» ассоциируются с невероятным и фантастическим. Как часто мы слышим выражение «это миф», которое произносится в уничижительном контрасте с такими похвальными понятиями, как реальность и факты? В отличие от открытий науки, истины которых постоянно меняются, миф, как и искусство, вечен.Миф в некотором смысле — высшая реальность, а бездумное отклонение мифа как вымысла или лжи — самое бесплодное и вводящее в заблуждение определение из всех. Миф служит для интерпретации всего человеческого опыта, и эта интерпретация может быть истинной или вымышленной, ценной или несущественной, независимо от ее исторической достоверности.
МИФ И РЕЛИГИЯ
Изучение мифа не может и не может быть отделено от изучения религии, религиозных верований или религиозных ритуалов.Ни один мифолог не был более красноречивым, чем Мирча Элиаде в своем понимании священности мифа и святого и вневременного мира, который он воплощает.
МИФ И ЭТИОЛОГИЯ
Этиологическая интерпретация мифа требует, чтобы истинный миф давал aitia , или причину, или причину для факта, ритуальной практики или учреждения. При таком узком определении этиология требует слишком ограниченного и жесткого критерия для определения. С другой стороны, если расширить концепцию мифа aitia до любой истории, которая объясняет или раскрывает что-то или что-то еще, этиологический подход предлагает один из самых плодотворных способов интерпретации мифа, хотя он не может его точно определить.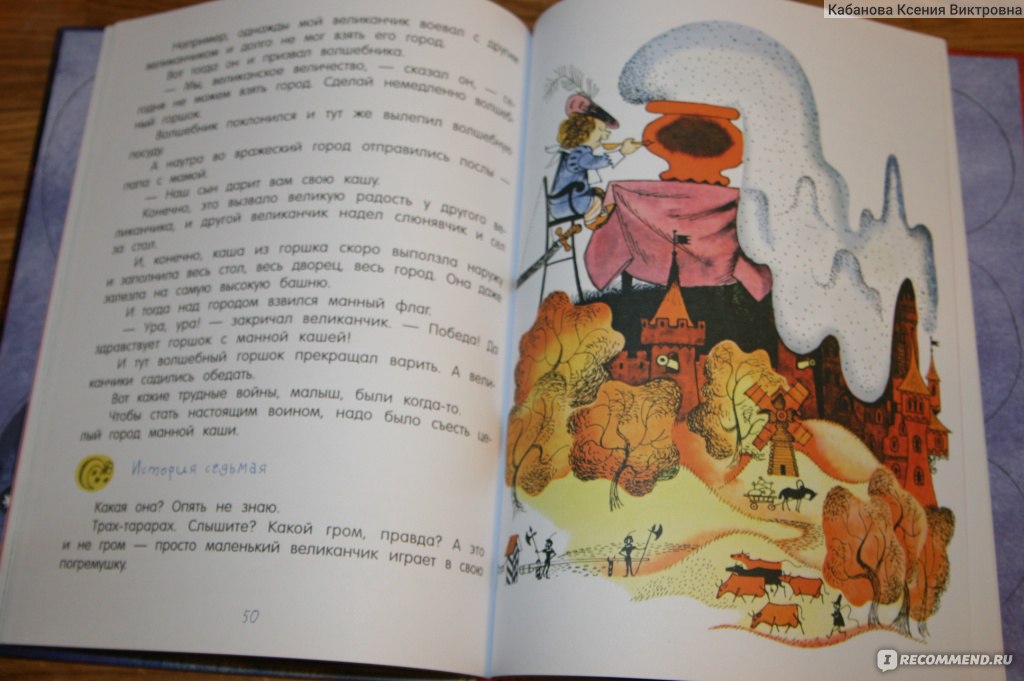
РАЦИОНАЛИЗМ, МЕТАФОРА И АЛЛЕГОРИЯ
Эвгемеризм : попытка рационализировать классическую мифологию, приписываемую Эвгемеру (ок. 300 г. до н. Э.). Он утверждал, что боги были обожествленными великими людьми древности.
Аллегория : устойчивая метафора. Аллегорический подход к мифологии предпочитают антирационалисты, интерпретирующие детали мифа как символы универсальной истины.
Аллегорические мифы о природе : для Макса Мюллера в девятнадцатом веке мифы следует определять как объяснения метеорологических и космологических явлений. Теория Мюллера слишком ограничена. Некоторые греческие и римские мифы, но далеко не все, связаны с природой.
МИФ И ПСИХОЛОГИЯ
Теории Фрейда и Юнга являются фундаментальными и далеко идущими по своему влиянию, и, хотя они постоянно подвергаются сомнению, предоставляют наиболее поисковые инструменты для глубокой интроспективной интерпретации мифологии.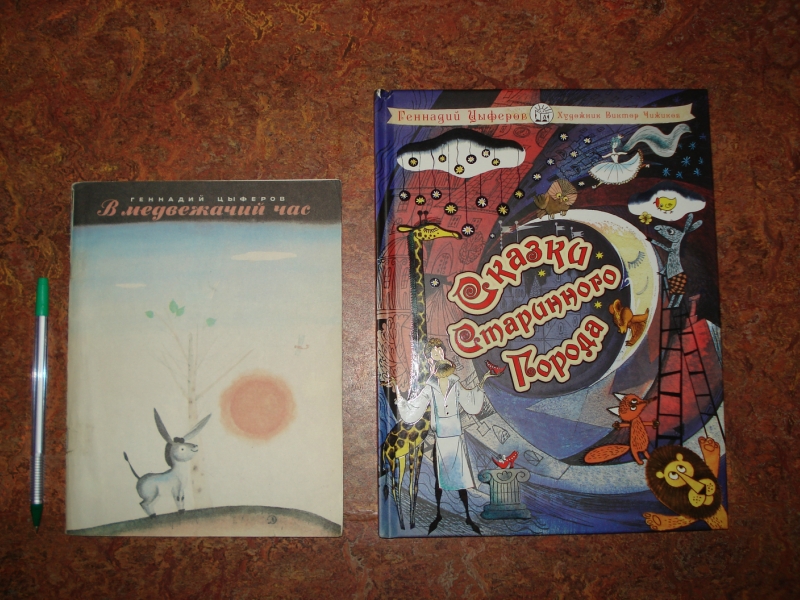
Фрейд.
Наиболее влиятельные идеи Фрейда для интерпретации мифа сосредоточены на психосексуальном развитии, теории бессознательного, толковании снов и Эдиповом комплексе.
Теория Эдипова комплекса, разработанная в работе, которая пытается объяснить особенно непростой и вневременной драматический смысл Софокла Эдип Тираннос , утверждает, что первые сексуальные чувства ребенка мужского пола направлены на мать с сопутствующим возбуждением ревности и ненависть к сопернику за эти чувства, к отцу.Женская версия была определена Карлом Юнгом как комплекс Электры, в котором любовь дочери к отцу связана с ненавистью к матери.
Фрейд видел сны как выражение подавленных или скрытых желаний. «Работа сновидений» во сне выполняет три основные функции: конденсировать элементы; перемещать элементы, изменяя их; и представлять элементы посредством символов. В этом отношении символы снов могут работать примерно так же, как символы мифов.
Карл Юнг
Юнг вышел за рамки связи мифов и сновидений с индивидуумом, чтобы интерпретировать мифы как проекцию того, что он называл «коллективным бессознательным», то есть раскрытие продолжающихся психических тенденций общества.
Мифы содержат образы или «архетипы», согласно Юнгу, традиционные выражения коллективных мечтаний, разработанные на протяжении тысяч лет, символов, от которых стало зависеть общество в целом. Эти архетипы, раскрытые в народных сказках, устанавливают модели поведения, которые могут служить образцами, например, когда мы отмечаем, что в жизнях многих героев и героинь есть замечательное количество схожих черт, которые можно определить как достойные подражания.Точно так же среди множества и разнообразных типов юнгианских архетипов, включенных в наше мифическое наследие, следует классифицировать другие виды концепций, например, великая мать-земля, верховный бог неба, мудрый старик, идеалистичный молодой любовник.
МИФ И ОБЩЕСТВО
Миф и ритуал
- Дж.
Г. Фрейзер и Джейн Харрисон
Сэра Дж. Г. Фрейзера «Золотая ветвь » остается новаторским памятником в попытках связать миф с ритуалом.Точно так же работы Джейн Харрисон имеют основополагающее значение. И Фрейзер, и Харрисон предоставляют множество сравнительных данных, и оба могут быть подвергнуты одним и тем же критическим оговоркам относительно обоснованности их ритуальных интерпретаций и их аналогий между мифами примитивных племен и классическими мифами. Тем не менее, оба установили фундаментальные подходы, действующие по сей день.
Заслуженно известный романист и поэт Роберт Грейвс написал влиятельную трактовку греческих мифов, полную ценной фактической информации, сопровождаемую сомнительными и своеобразными интерпретациями.Он определяет истинный миф как своего рода сокращение в повествовательной форме для ритуальной пантомимы, слишком ограничительно. Он отделяет миф от сказок другого рода, мудро сосредотачиваясь на литературных различиях, которые можно найти в различных рассказах.
МИФ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАВЫ
Работа Бронислава Малиновского в качестве антрополога среди жителей Тробрианских островов (у побережья Новой Гвинеи) привела к его идентификации тесной связи между мифами и социальными институтами. Мифы связаны с практической жизнью и объясняют существующие практики, верования и институты со ссылкой на традиции; они представляют собой «уставы» социальных обычаев и верований.
СТРУКТУРАЛИСТЫ
Структуралист Клод Леви-Стросс рассматривает миф как способ коммуникации, в котором структура или взаимосвязь между частями, а не только отдельные элементы, определяют значение. Вера в то, что человеческое поведение структурировано и что человеческий разум имеет бинарную структуру, Леви-Стросс утверждает, что творения разума, включая, в частности, мифы, имеют бинарную структуру. Одна из основных целей мифа — вести переговоры между бинарными парами или парами противоположностей (например,g., сырое / приготовленное, жизнь / смерть, охотник / добыча, природа / культура, мужчина / женщина, внутри / снаружи), и их решение.
Владимир Пропп, русский фольклорист, разработал структуралистский подход к мифу еще до Леви-Стросса, проанализировав избранную группу сказок с похожими чертами и выделив повторяющуюся линейную структуру, проявляющуюся в них. В этом паттерне Пропп выделил 31 функцию или единицу действия, которые были названы мотивами.Все эти мотивы не обязательно должны присутствовать в одной сказке, но те, которые присутствуют, всегда будут появляться в одном и том же последовательном порядке.
Этот сравнительный подход к мифологии оказался полезным при анализе широкого спектра, казалось бы, непохожих историй в разных культурах, которые соответствуют последовательной схеме, например, рассказы о поисках героя или, в частности, тематические детали, касающиеся его матери и его рождения. , которые Уолтер Буркерт разбил на пять motifemes:
- Девушка уходит из дома.
- Девушка уединенная.
- Она забеременела от Бога.
- Она страдает.
- Она спасена и родила сына.
Понимание классической мифологии может быть облегчено и более целенаправленно, если лежащие в основе структуры воспринимаются и расположены логически. Признание того, что эти закономерности являются общими для историй, рассказываемых во всем мире, также очень полезно для изучения сравнительной мифологии.
Вальтер Буркерт предпринял попытку синтеза различных теорий о природе мифов, наиболее важными из которых были те, которые придерживались структуралистской и исторической точки зрения.Для Буркерта очень важно то, что миф имеет «историческое измерение». В своем развитии миф может включать в себя «последовательные слои» повествования, каждый из которых обращается к конкретным потребностям конкретного рассказчика с определенной аудиторией в определенное время. В поддержку своего синтеза он разработал четыре тезиса:
- Миф принадлежит к более общему классу традиционных сказок.
- Идентичность традиционной сказки следует искать в смысловой структуре самой сказки.
- Сказочные структуры как последовательность мотивов основаны на основных биологических или культурных программах действий.
- Миф — это традиционный рассказ со второстепенными частичными ссылками на нечто, имеющее коллективное значение.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И КЛАССИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ
Устный и литературный миф. Многие настаивают на том, что истинный миф должен быть устным и анонимным. Сказки, рассказываемые в примитивных обществах, — единственные истинные мифы, первозданные, вневременные и глубокие.Письменное слово несет в себе загрязнение и конкретное авторство. Мы не согласны с таким узким определением мифологии. Миф не должен быть просто историей, рассказанной устно. Его можно танцевать, рисовать и разыгрывать, и это, собственно, то, что делают первобытные люди.
Миф — это не меньше литературная, чем устная форма.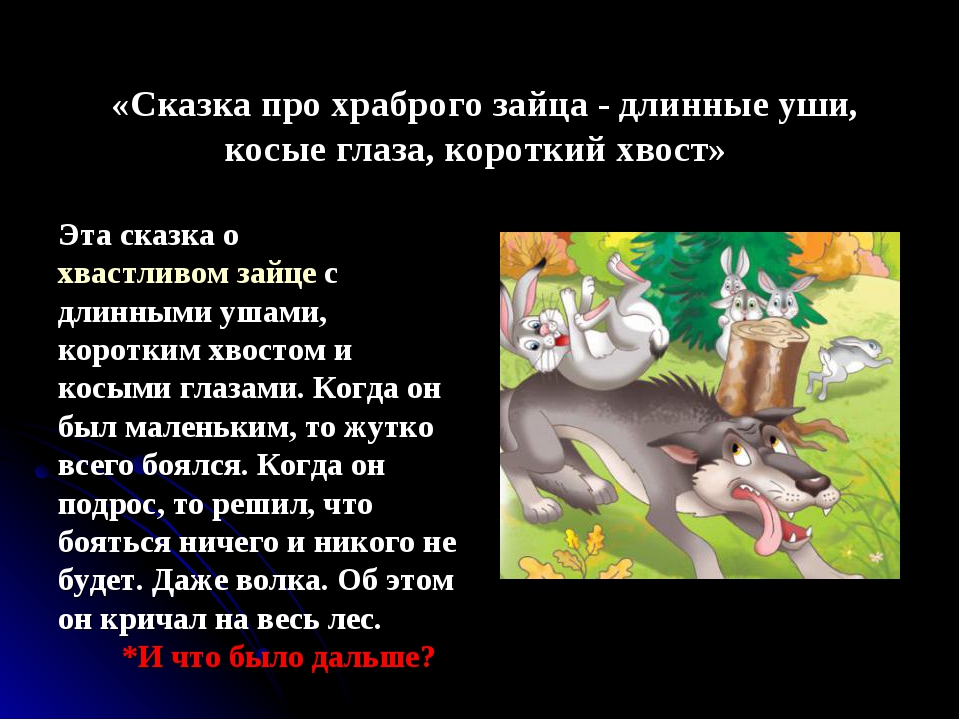
Джозеф Кэмпбелл. Кэмпбелл, специалист по сравнительной мифологии, возможно, наиболее известный благодаря серии интервью PBS с Биллом Мойерсом, сделал многое для популяризации сравнительного подхода к мифологии. Хотя его внимание в основном было уделено мифам из других традиций, многие из его наблюдений, как он сам хорошо знал, могут быть с успехом применены к классической мифологии.
Феминизм, гомосексуализм и мифология
Феминистская критическая теория фокусируется на психологическом и социальном положении женских персонажей с точки зрения бинарной природы человеческих существ, особенно в противостоянии (или дополнительных отношениях) женщины и мужчины.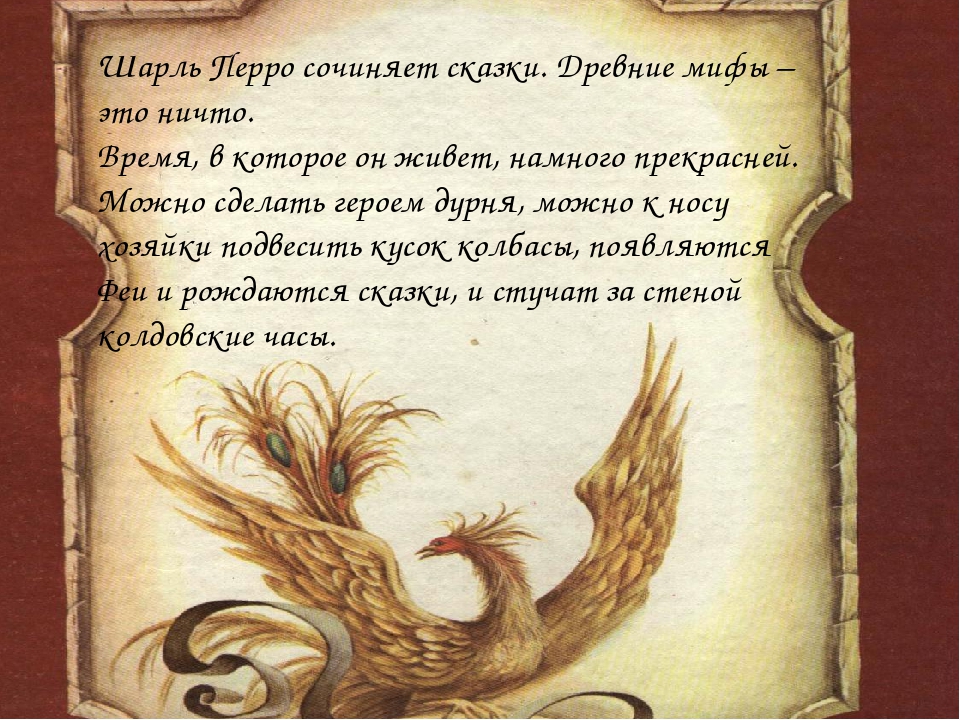
Вот четыре из многих наблюдений, которые можно было бы сделать об обращении с женщинами и их положении в греческом обществе:
- Женщины были гражданами своих общин, в отличие от неграждан и рабов — очень значимое различие.У них не было права голоса. Ни одна женщина нигде не завоевала это демократическое право до 1920 года.
- Роль женщин в религиозных ритуалах была фундаментальной; и они участвовали во многих собственных фестивалях, из которых мужчины были исключены.
- Образование женщины зависело от ее будущей роли в обществе, ее статуса или класса и ее индивидуальных потребностей (как и у мужчины).
- Замкнутые, неграмотные и угнетенные существа, которые часто называются представителями статуса женщин в древности, расходятся со свидетельствами всех источников: литературных, художественных и археологических.
Что мы сегодня должны сделать из классических мифов о страстных поисках и любовных победах? Это истории о любви или все это, в конце концов, ужасающие истории о преследованиях и изнасилованиях?
Греки и римляне были одержимы последствиями ослепляющей страсти, обычно вызываемой Афродитой, Эросом или Дионисом и его сатирами, и столь же навязчивой целомудрие, воплощенной безжалостной Артемидой или одной из ее нимф. Мужчина обычно, но далеко не всегда, определяет похоть, а женщину — целомудрие.Часто нет реальной разницы между любовью, похищением или изнасилованием женщины мужчиной и мужчины женщиной.
Истории о похищениях, столь разные по трактовке и содержанию, имеют много более глубоких значений, например, социальных, психологических и очень часто религиозных.
Эти рассказы от древности до наших дней вызвали такой широкий диапазон откликов, что их не следует подвергать критике, сводящейся к простой речи о плохом обращении с женщинами или мужчинами.Романтические критики в прошлом иногда предпочитали не видеть изнасилование; многие сегодня предпочитают не видеть ничего другого.
Гомосексуализм был принят и приспособлен как часть жизни, определенно в Афинах.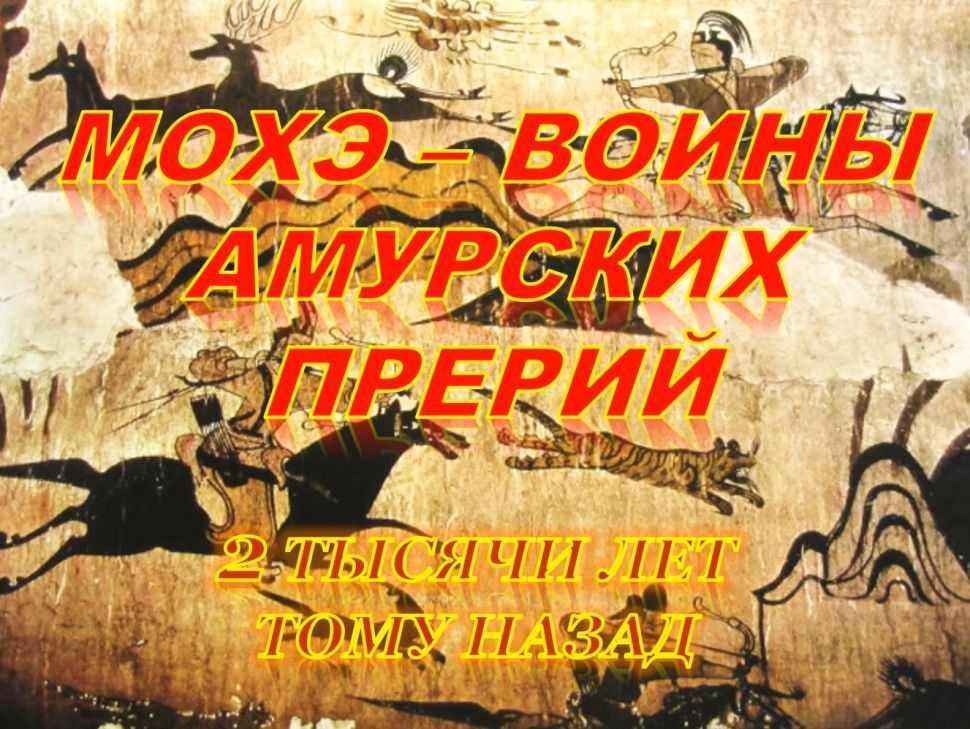
Гомосексуализм может быть главной темой в некоторых рассказах, например.г., Зевс и Ганимед, Посейдон и Пелоп, Аполлон и Гиацинт, Аполлон и Кипарисс, Ахилл и Патрокл, Орест и Пилад, Нис и Эвриал. Таким образом, греческая и римская мифология прекрасно охватывает темы гомосексуализма (и бисексуальности), но в целом она отражает доминирующие проблемы гетеросексуального общества, начиная с олимпийской семьи и ниже.
Женский гомосексуализм в греческом и римском обществе и мифологии — такая же важная тема, как и мужской гомосексуализм, но она не так заметна.Сапфо, лирическая поэтесса с острова Лесбос (шестой век до нашей эры), возможно, предлагает наиболее явное свидетельство.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МИФА
Мы предоставили репрезентативную (и ни в коем случае не исчерпывающую) выборку влиятельных определений и интерпретаций, которые могут быть применены к классической мифологии. Следует помнить, что ни одной теории недостаточно для глубокого осознания силы и влияния всех мифов. Безусловно, панорама классической мифологии требует арсенала критических подходов.
Давайте закончим определением классической мифологии, которое подчеркивает ее вечные качества, которые обеспечили чудесную загробную жизнь. Возможно, внимательное изучение последующего искусства, литературы, драмы, музыки, танца и кино, вдохновленное греческими и римскими темами и созданное гением, предлагает наиболее ценные интерпретирующие идеи из всех.
Классический миф — это история, которая в своей классической форме достигла своего рода бессмертия, потому что присущая ему архетипическая красота, глубина и сила вдохновили сменяющих друг друга поколений на вознаграждающее обновление и преобразование.
Греция: Тайны прошлого
Люди иногда используют слова миф, легенда, сказка и басня как
хоть они и были взаимозаменяемыми, но так ли? Словарь
определение каждого из них следующее:
Миф … обычно традиционный
история якобы исторических событий, которая раскрывает часть
мировоззрения людей или объяснить практику, убеждения или
природное явление
Легенда … история спускается
из прошлого, особенно того, что считается историческим, хотя
не поддается проверке
Сказка … характерно
анонимная, вневременная и бесконечная сказка, устно распространенная среди
человек
Fable … предназначено повествование
для насаждения полезной истины, особенно той, в которой говорят животные
и действовать как люди.
(Webster’s)
Изучив эти определения, легко понять, почему в повседневной
в разговорах эти термины используются неточно. Обзор
некоторые второстепенные определения добавляют путаницы. А
вторичное определение легенды гласит: «a
популярный миф недавнего происхождения ». Даже специалисты по мифологии
открыто расходятся в описаниях и определениях этих терминов.Поиск ученых, которые согласны и не согласны со следующими наблюдениями
не должно быть сложно.
Цель басни — научить
какая-то мораль или принцип поведения. Басни Эзопа предоставляют
ряд таких уроков (например, Заяц и Черепаха = медленный
и уверенно выигрывает гонку). Басни явно вымышлены и часто
содержат элементы сверхъестественного, но ни один опытный читатель не станет
сделать вывод, что это действительно произошло давным-давно.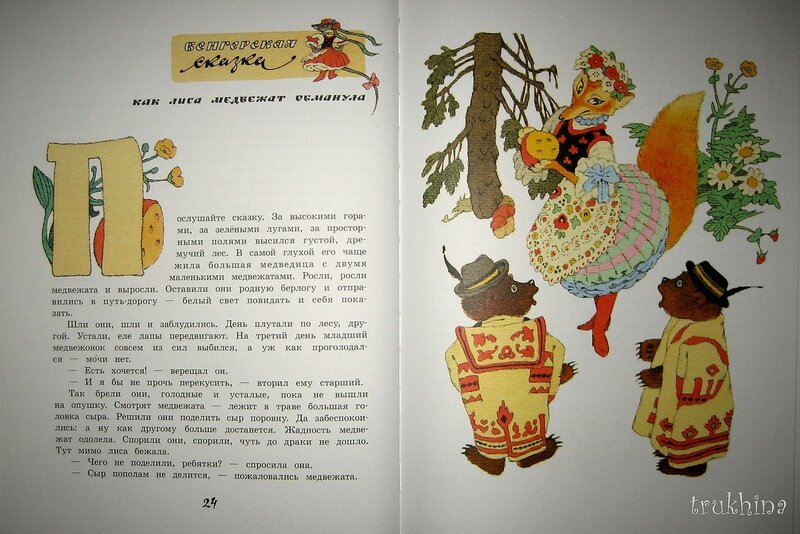
утверждают, что басни развлекали и просвещали детей
всех возрастов и культур на протяжении многих веков.
Народные сказки тоже относятся к сфере художественной литературы. Они
не основаны на конкретном человеке или происшествии. Животные
часто участвуют и часто действуют как люди.
Легенды очень специфичны и сосредоточены на конкретном
индивидуальный или случайный e.грамм. Легенда о Поле Баньяне или Легенда
Сонной Лощины. Эти истории передаются из поколения в поколение
поколению, но нет веских доказательств, подтверждающих их. А потом,
есть миф .
За прошедшие годы было много научных споров по поводу
что составляет миф. Они есть в большинстве культур, и хотя
содержание меняется, характеристики примерно одинаковые.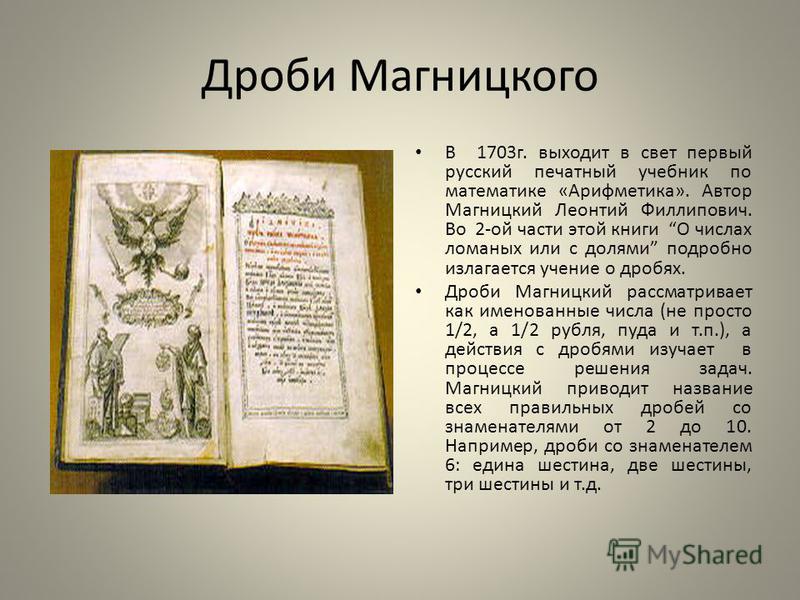
поколений и не прослеживаются до конкретного автора. Во-вторых,
Если вы внимательно посмотрите на миф, то в мифе часто есть зерно истины.
В-третьих, в рассказе часто бывают вариации. (Строка
рассказчики из разных мест на протяжении многих лет склонны добавлять
элементы, которые часто имеют свою локаль.) В-четвертых, «
верные »считают миф правдой и являются важной частью
их системы убеждений. В-пятых, сверхъестественное существо почти
всегда играет роль. В-шестых, миф предлагает ответ на явления
или события в отсутствие более правдоподобных объяснений, например
как появилось человечество, что вызывает освещение, изменение
времен года. Мифы также часто нарушают законы природы — Одиссей
посещает подземный мир, Ахиллес не может быть ранен, кроме как
в пятке все, к чему прикасается Мидас, превращается в золото.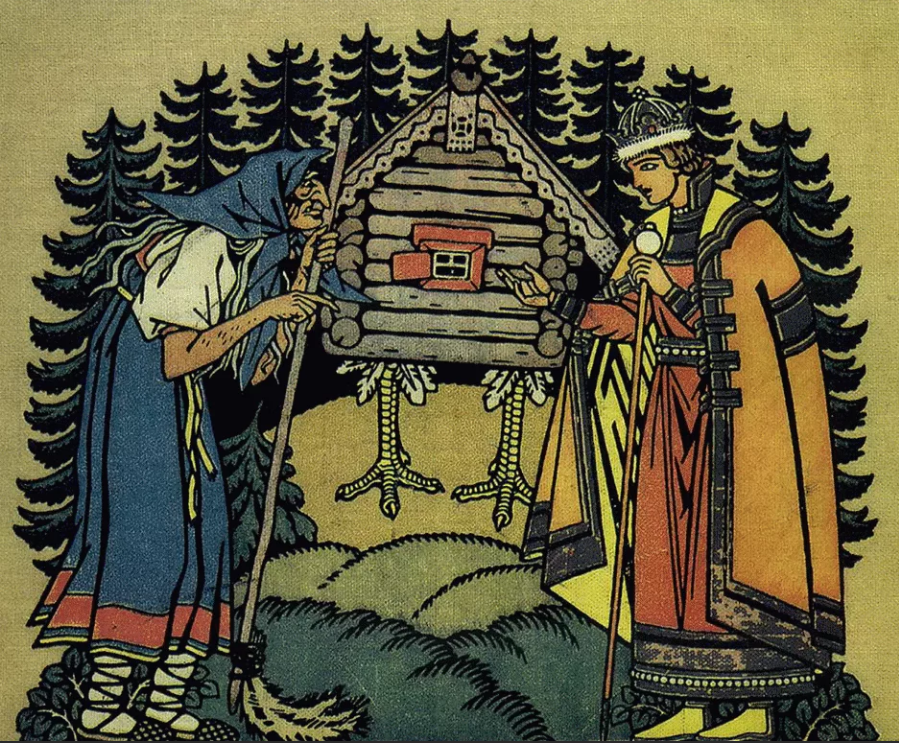
Классическая мифология имеет дело с отношениями между людьми.
а также боги и богини, населяющие владения сверхъестественного.
Историк Майкл Грант говорит, что «мифы, рассказанные
греки и римляне так же важны, как история для нашего понимания
во что верили эти люди, предки нашей цивилизации
и мыслили, и чувствовали, и выражались в письменной форме и изобразительном искусстве.Ибо их мифологии были неразрывно связаны между собой до некоторой степени.
далеко за пределами нашего опыта, со всей тканью
их общественная и частная жизнь ». (Грант- Мифы о
Греки и римляне )
Следует помнить, что греки были очень религиозными
людей и для них их мир был наполнен множеством доброжелательных
и злонамеренные существа, все из которых могут повлиять на их
благополучие.
капризные духи и заручиться поддержкой божеств, которые
быть готовым помочь просителю собрать обильный урожай,
выполнение военного задания или выполнение трудных
задача. Естественно, отсутствие успеха в любой из этих инициатив
можно отнести к богу, который случайно оказался в сварливом
настроение или просто результат неспособности сделать предложение в
в установленном порядке.
Наука находилась в зачаточном состоянии, и ей еще предстояло придумать альтернативу.
теории, чтобы объяснить такие вещи, как чума, землетрясения или
смена времен года. Если вы жили в Древней Греции и
верили в существование божеств Аполлона, Деметры и
Посейдон, что из следующего может показаться более логичным?
— Чума вызывается животными (бактериями), которые слишком малы, чтобы быть
виден человеческим глазом или чума вызвана Аполлоном
стрелять стрелами в обидевших его людей;
-Землетрясения вызваны изменениями между земными
тектонические плиты или землетрясения происходят, когда Посейдон сердито
вбивает свой трезубец в землю.
— Смена времен года вызвана наклоном земли на ее
ось или Деметра оплакивает свою дочь Персефону.
возвращается из подземного мира.
Греческих мифов, какими мы их знаем, пришли к нам из уст
небольшое количество талантливых и влиятельных поэтов. Рассказы, которые
они передаются нам, развивались из поколения в поколение,
прошли испытания перед критической аудиторией и, вероятно,
написанные и исправленные много раз, пока они не были в их настоящем
форма.При внимательном рассмотрении они раскрывают много информации о
древние греки, убедительная информация для тех, кто их
интеллектуальные, политические и артистические наследники. Мы должны поблагодарить,
прежде всего Гомеру, величайшему эпическому поэту,
Гесиодом, чья Теогония была
кто »путеводитель по греческому пантеону.
величайший лирический поэт всех времен), наполнил свои победные оды мифологическими
Рекомендации.Три греческих драматурга трагедии — Эсхил,
Софокл и Еврипид писали почти исключительно на мифологические
испытуемых (один из них быстро признал, что он и его
современники «все обедают крошками с большого стола.
Гомера ».) Геродот, Аристофан, Павсаний и Аполлодор.
завершите список из десяти мужчин, которые вместе ткали ткань
по сути, это греческая мифология.
Классическая мифология стала неотъемлемой частью нашей жизни
хотя сегодня мало кто верит в пантеон богов и богинь
создан и поддерживается плодородным воображением древних
Греки. Загляните в любую художественную галерею или музей, и вы увидите
свидетельства влияния мифологии на выбор сюжетов.
Греческие художники и скульпторы отправились на обширный склад мифологии.
черпать вдохновение в бесчисленных тысячах работ; теперь мы рисуем
вдохновение от своих шедевров.Греческие драматурги полагались
о трагедиях мифологии, чтобы развлечь публику своих
поколения и последующих до наших дней,
Голливудских фильмов, комиксов, телепрограмм и прочего
жанры литературы населяли свои рассказы персонажами
из мифологии или производных от них. Мир рекламы
также свободно заимствовал из мифологии, используя имена и атрибуты
богов и богинь продавать свои товары и услуги.Смотреть
в телефонном справочнике можно увидеть Atlas , символ
прочность, используемая для продажи стали и шин; Apollo , для
музыкальный магазин; Афродита , спа и косметические услуги; Афина, интеллектуал
свойство; Hermes , курьерские службы; Дионис, виноделие
запасы.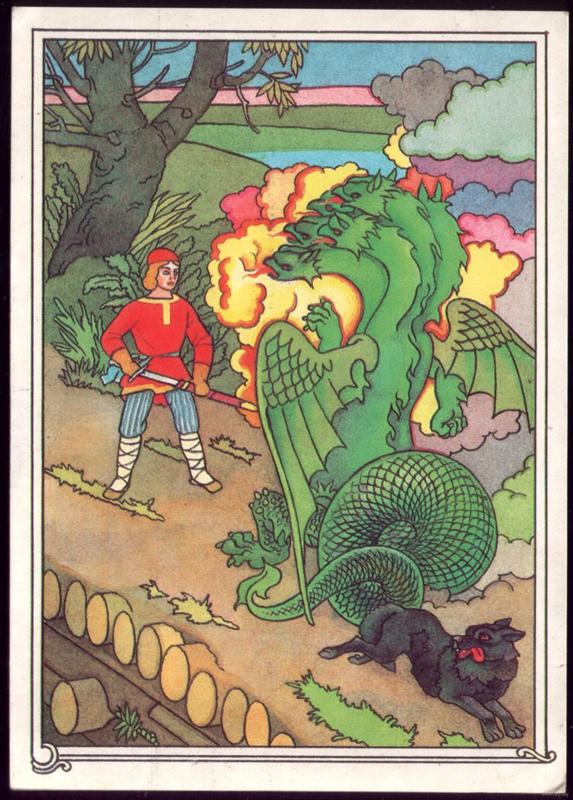
ст век.
Это одна из старейших сказок человечества?
«Кузнец и дьявол» из сказок и народных сказок Питера Кристен Асбьорнсена; проиллюстрировано Отто Синдингом
Хотя мы знаем, что одни и те же сказки меняли форму и пересекались с разными культурами на протяжении всей истории, лингвисты и антропологи также предполагали, что они возникли незадолго до того времени, когда они были впервые записаны. Однако пара исследователей опубликовала статью, в которой они использовали биологические методы, чтобы проследить происхождение сказок не только на сотни, но и на тысячи лет.Один, в частности, «Кузнец и дьявол», возможно, появился еще в бронзовом веке.
Социолог / фольклорист Сара Граса да Силва (из Нового университета Лиссабона) и антрополог Джамшид Теграни (Даремский университет) создали филогенетическое древо, подобное тому, которое используется в биологии для отслеживания эволюции видов, чтобы вместо этого проследить происхождение популярных сказок. сказки. (Эти методы также использовались в недавнем анализе различных культурных практик, от брака до музыки.) Начав со списка из 275 сказок (все основанные на магии, интересно отметить), они сузили его до 76 рассказов, из которых затем составили лингвистические деревья, уходящие корнями в индоевропейские языки. Анализ показал, что некоторые из историй были основаны на индоевропейских языках, которые с тех пор вымерли, и / или некоторые истории (например, «Джек и бобовый стебель») уходят корнями в более старые сказки. Оглядываясь назад на точку разделения западных и восточных индоевропейских языков, исследователи обнаружили, что прослеживают некоторые из этих историй до момента истории 5000 лет назад.Как указывает Phys.org, это означает, что некоторые из этих сказок предшествуют определенным греческим мифам и Библии.
На основе анализа этих 76 историй да Силва и Тегерани реконструировали древние индоевропейские сказки, чтобы показать развитие определенных сказок. Вы можете узнать ATU 425C «Красавица и чудовище» и ATU 500 «Имя сверхъестественного помощника» (который позже стал «Румпельштильцхен»).
Рассказы, выделенные жирным шрифтом, представляют ситуации, «где сказки можно безопасно реконструировать» (70% и более).В таком случае давайте посмотрим на ATU 330, «Кузнец и дьявол», который, кажется, возник в бронзовом веке около 6000 лет назад. История довольно проста: кузнец заключает договор с дьяволом (или Смертью, или джинном, или другим сверхъестественным существом), продавая свою душу в обмен на способность сваривать любые предметы. Затем кузнец использует свою новообретенную силу, чтобы приварить дьявола к поверхности, вынуждая его отказаться от душевной части сделки.
Братья Гримм собрали «Смита и дьявола» в своих детских и домашних сказках (опубликованных в 1812 и 1815 годах), что является иронией, поскольку Вильгельм Гримм был сторонником той же теории устной традиции.
У древних греков тоже были альтернативные факты — они просто более спокойно относились к этому
В эпоху дипфейков и альтернативных фактов выяснить правду бывает непросто. Но убедить других — или даже себя — в том, что правда, не является уникальной задачей современной эпохи.Даже древним грекам приходилось сталкиваться с разными реалиями.
Возьмите историю Эдипа. Это повествование, которое большинство людей думает, что они знают — Эдип ослепил себя, узнав, что убил своего отца и женился на его матери, верно?
Актер Кристофер Пламмер в фильме 1967 года «Царь Эдип».
Фото AP
Но древние греки оставили нам множество различных версий почти каждой древней сказки.
Проблема, с которой я сталкиваюсь при преподавании греческой мифологии, заключается в предположении, что мой курс установит, какая версия истории верна. Студенты хотят знать, какая версия «правильная».
Чтобы помочь им понять, почему это не лучший подход, я использую отрывок из «Теогонии» Гесиода, рассказ поэта Гесиода о происхождении вселенной и богов.Рассказчик утверждает, что музы, вдохновляющие богини искусства, науки и литературы, явились ему и заявили, что «мы знаем, как говорить много лживых вещей (pseudea), похожих на правду (etumoisin), но мы знаем, как говорить правду (alêthea ) когда захотим ».
Итак, это настоящий отказ от ответственности перед тем, как продолжить описание того, как Зевс стал править вселенной! Но греки думали о повествовании и истине иначе, чем мы сегодня.
Истина где-то рядом
Один из таких подходов фокусируется на разнообразии аудитории, слушающей историю.Согласно этой исторической интерпретации, предостережение муз можно рассматривать как способ подготовить аудиторию к историям, которые отличаются от тех, которые рассказываются в их местных общинах.
Теологическая интерпретация могла бы видеть различие между человеческими верованиями и божественным знанием, оставляя способность различать истину только за богами. Этот подход предвосхищает ключевой принцип более поздних философских различий между явлением и реальностью.
Музы также заложили метафизическое основание: правда существует, но ее трудно постичь, и только боги могут по-настоящему знать и понимать ее.Эта формулировка устанавливает «истину» как фундаментальную особенность Вселенной.
Здесь важны значения используемых слов. «Pseudea», используемое для «лжи», является корнем английских словосочетаний, обозначающих что-то ложное — подумайте, псевдоним или псевдонаука.
Итак, для муз — дочерей Зевса и Мнемозины, богини памяти — «истина» является чем-то авторитетным, потому что она «подлинна» по смыслу и «раскрыта» или «незабываема».
«Муз» подразумевают, что истина восходит к древним корням и почему-то неизменна и, в конечном счете, непознаваема для людей.
Действительно, эта формулировка становится краеугольным камнем античной философии, когда такие авторы, как Платон, настаивают на том, что истина и реальность должны быть вечными и неизменными.Подобные предположения об истине также занимают центральное место в абсолютистских подходах к верованиям, говорим ли мы о религии, литературе или политике.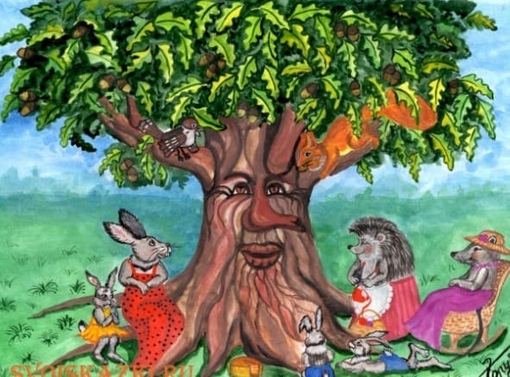
Но что хорошего в знании природы истины, если она в конечном итоге недоступна для смертных умов?
Изучая греческие тексты, я все больше убеждаюсь в том, что рассказчик Теогонии цитирует муз не только для того, чтобы избежать ответственности за рассказывание неизвестной истории или для восхваления мудрости богов. Вместо этого он дает нам совет о том, как интерпретировать миф и повествование в целом: не беспокойтесь о том, что это правда, а что нет.Просто попытайтесь осмыслить историю по мере того, как вы с ней столкнетесь, основываясь на деталях, которые она предоставляет.
Миф и память
Трактовка «истины» в греческом мифе может быть полезной при рассмотрении современных исследований в области когнитивных наук и памяти.
Исследователь памяти Мартин Конвей, изучая, как люди создают истории о мире и себе, утверждал, что нашей памятью управляют две основные тенденции: соответствие и согласованность.
Соответствие указывает на то, насколько хорошо наша память соответствует поддающимся проверке фактам или тому, что произошло на самом деле.
Согласованность — это человеческая склонность выбирать детали, которые соответствуют нашим представлениям о мире и о том, кем мы являемся. Исследования Конвея показывают, что мы склонны отбирать воспоминания о прошлом и делать наблюдения над настоящим, которые подтверждают наше собственное повествование о том, что на самом деле произошло.
Мы уже знаем, что многое из того, что мы понимаем о мире, интерпретируется и «заполняется» нашим творческим и эффективным мозгом, поэтому неудивительно, что мы выборочно отбираем воспоминания, чтобы представить абсолютную истину, даже если мы постоянно ее пересматриваем. .
Как отдельные лица и группы, то, что мы принимаем как «истину», обусловлено нашими предубеждениями и тем, что мы хотим видеть истиной.
Имея это в виду, предупреждение Муз не зацикливаться на том, правдивы ли детали в мифе, кажется уместным, особенно если смысл повествования важнее, чем его «правдивость».
Сцена из «Одиссеи» Гомера усиливает аргументы в пользу применения этих идей к ранней Греции.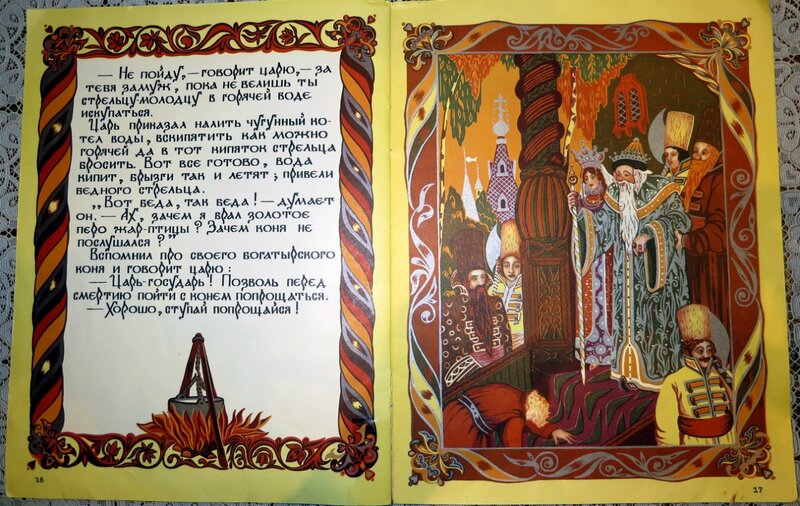
Древнегреческие эпосы возникли из культуры, в которой сотни различных сообществ с разными традициями и верованиями развили общие языки и верования.Подобно сегодняшним Соединенным Штатам, это разнообразие создало среду для выявления и сравнения различий. История Гесиода говорит своим слушателям, что правда где-то рядом, но ее сложно понять.
Чтобы понять это, нам необходимо прислушаться к рассказам людей и подумать о том, как они могут показаться им правдивыми.
Народные сказки. Сказки народов мира
Народные сказки. Сказки разных народов мира
Список сказок народов мира на русском языке. Золотая коллекция.
Абхазские народные сказки
Аварские народные сказки
Австралийские народные сказки
Азербайджанские народные сказки
Американские народные сказки
Английские народные сказки
Армянские народные сказки
Арабские народные сказки
Африканские народные сказки
Башкирские народные сказки
Белорусские народные сказки
Беломорские народные сказки
Боснийские народные сказки
Болгарские народные сказки
Бурятские народные сказки
Былины о русских богатырях
Восточные народные сказки
Венгерские народные сказки
Вьетнамские народные сказки
Греческие народные сказки
Грузинские народные сказки
Еврейские народные сказки
Индейские народные сказки
Индийские народные сказки
Итальянские народные сказки
Казахские народные сказки
Кабардинские народные сказки
Калмыцкие народные сказки
Карельские народные сказки
Киргизские народные сказки
Китайские народные сказки
Корейские народные сказки
Литовские народные сказки
Латышские народные сказки
Македонские народные сказки
Марийские народные сказки
Мансийские народные сказки
Молдавские народные сказки
Мордовские народные сказки
Монгольские народные сказки
Нанайские народные сказки
Немецкие народные сказки
Ненецкие народные сказки
Нивхские народные сказки
Норвежские народные сказки
Осетинские народные сказки
Персидские народные сказки
Польские народные сказки
Русские народные сказки
Словацкие народные сказки
Сказки народов Севера
Таджикские народные сказки
Татарские народные сказки
Тибетские народные сказки
Турецкие народные сказки
Тувинские народные сказки
Узбекские народные сказки
Удмуртские народные сказки
Украинские народные сказки
Французские народные сказки
Финские народные сказки
Хантыйские народные сказки
Хорватские народные сказки
Чеченские народные сказки
Чувашские народные сказки
Чешские народные сказки
Чукотские народные сказки
Шведские народные сказки
Шотландские народные сказки
Эстонские народные сказки
Эфиопские народные сказки
Японские народные сказки
Якутские народные сказки
Сегодня народная сказка — это кладезь мудрости, который необходим маленькому человечку, ведь он только начинает познавать мир. Такие рассказы помогают развить в сознании ребенка моральные ценности, дают ему понять, что такое доброта и какие поступки считаются плохими.
__________________
Народные сказки.
Сказки разных народов
мира. Читаем онлайн
Читать авторские сказки
Авторизация
Войдите через социальные сети
Или воспользуйтесь формой авторизации
Логин или E-mail
Пароль
Забыли пароль?
Нет учетной записи? — Перейдите к Регистрации

Добро пожаловать! Воспользуйтесь
формой авторизации или зарегистрируйтесь.
Содержание статьи
- Русские народные сказки
- Волк и семеро козлят
- Три медведя
- По щучьему велению
- Маша и медведь
- Теремок
- Курочка Ряба
- Гуси-Лебеди
- Снегурочка
- Крошечка-Хаврошечка
- Репка
- Рукавичка
- Вершки и корешки
- Бычок – черный бочок, белые копытца
- Царевна-Лягушка
- Петушок – золотой гребешок
- Курочка, мышка и тетерев
- Кощей бессмертный
- Петушок и бобовое зернышко
- Лиса, заяц и петух
- Жихарка
- Василиса Прекрасная
- Царевна-Несмеяна
- Царевна-змея
- Арысь-поле
- Зимовье зверей
- Горе
- Горшеня
- Иванушка-дурачок
- Колобок
- Кот и лиса
- Никита Кожемяка
- Петушок – золотой гребешок
- Сивка – Бурка
- Хитрая наука
- Белая уточка
- Глупый волк
- Баба-яга и Лутонюшка
- Алеша Попович и Тугарин Змеевич
- Золотой конь
- Финист-Ясный сокол
- Сказка о молодильных яблоках и живой воде
Русские народные сказки
Сказки не только на Руси, но и во всем мире писали для того, чтобы в доступной для детей форме рассказать об опасностях взрослого мира (вспомним знаменитую «Красную шапочку»), научить их дружить и выражать свою любовь, хранить верность своим убеждениям и совершать добрые смелые поступки. Каждый народ выбирал те истории, с которыми сталкиваются их дети, но в сказках, конечно, есть и общечеловеческие ценности, потому что в главном все мы — едины. Мы собрали для вас русские народные сказки, которые можно читать детям перед сном. Русские народные сказки — это лучшее семейное чтение для детей и взрослых. Колобок, Маша и медведь, русалки и богатыри оживают на страницах любимых сказок, которые запомнились нам с детства. Народные сказки в прошлом играли ту же роль, что и средства массовой информации для нас сейчас, поэтому они не только интересны и поучительны, но могут стать небольшим экскурсом в нашу историю. Все самые любимые русские народные сказки в нашей подборке
- О животных;
- О людях;
- О богатырях;
- О сказочных персонажах.
Волк и семеро козлят
Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет — козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет:
— Козлятушки, ребятушки!
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла — молока принесла;
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка по копытечку,
Из копытечка во сыру землю!
Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко.
Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом:
— Вы, детушки!
Вы, козлятушки!
Отопритеся,
Отворитеся,
Ваша мать пришла,
Молока принесла.
Полны копытцы водицы!
Козлята ему отвечают:
— Слышим, слышим — да не матушкин это голосок! Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитает.
Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст.
Вот приходит коза и стучится:
— Козлятушки, ребятушки!
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла — молока принесла;
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка по копытечку,
Из копытечка во сыру землю!
Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть.
Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала:
— Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом да не переберет всего, что я вам причитываю, — дверь не отворяйте, никого не впускайте.
Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом:
— Козлятушки, ребятушки!
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла — молока принесла;
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка по копытечку,
Из копытечка во сыру землю!
Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке.
Приходит коза; сколько ни звала, ни причитывала — никто ей не отвечает. Видит — дверь отворена, вбежала в избушку — там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка.
Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку — начала горевать, горько плакать:
— Ох вы, детушки мои, козлятушки!
На что отпиралися-отворялися,
Злому волку доставалися?
Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе:
— Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, пойдем лучше в лес, погуляем.
Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку:
— Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму?
Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму.
Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да — прыг к матери! И стали они жить-поживать по-прежнему.
Три медведя
Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.
Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.
В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.
В домике было две комнаты: одна — столовая, другая — спальня.
Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаиле Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.
Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.
Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — для Михаиле Иваныча, другой поменьше — Настасьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин.
Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на на нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась — так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле.
Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая — Михаилы Иванычева, другая средняя — Настасьи Петровнина, и третья маленькая — Мишенькина.
Девочка легла в большую — ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.
А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.
Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:
— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!
Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко:
— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!
А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:
— Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал!
Михаиле Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:
— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:
— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!
Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал:
— Кто сидел на моем стуле и сломал его!
— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! — заревел Михайло Иваныч страшным голосом.
— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ!- — зарычала Настасья Петровна не так громко.
А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом:
— Кто ложился в мою постель!
И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут:
— Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яяй! Держи! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.
По щучьему велению
Жил-был старик. И было у него было три сына: двое умных, а третий — дурачок Емеля.
Те братья работают — умные, а дурак-Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет.
Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать Емелю:
— Сходи, Емеля, за водой.
А он им с печки:
— Неохота…
— Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
— Да? Ну, ладно.
Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку.
Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и хвать щуку в руку:
— Вот уха будет сладка!
Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:
— Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
— А на что ты мне пригодишься?.. Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка.
— Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что ни пожелаешь.
— Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу.
Щука его спрашивает:
— Емеля, Емеля, скажи — чего ты сейчас хочешь?
— Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не расплескалась…
Щука ему говорит:
— Запомни мои слова: когда что тебе захочется — скажи только:
«По щучьему веленью, по моему хотенью».
Емеля и говорит:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — ступайте, ведра, сами домой…
Только сказал — ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается… Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь.
Прошло много ли, мало ли времени — невестки опять говорят ему:
— Емеля, ну что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил.
— Неохота…
— Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут.
Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и потихоньку и говорит:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — поди, топор, наколи дров, а дрова — сами в избу ступайте и в печь кладитесь…
Топор выскочил из-под лавки — и на двор, и давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут.
Много ли, мало ли времени прошло — невестки опять говорят:
— Емеля, дров у нас больше нет. Съезди в лес, наруби.
А он им с печки:
— Да вы-то на что?
— Как — мы на что?.. Разве наше дело в лес за дровами ездить?
— Мне неохота…
— Ну, не будет тебе подарков.
Делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся. Взял веревку и топор, вышел во двор и сел в сани:
— Бабы, отворяйте ворота!
Невестки ему говорят:
— Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?
— Не надо мне лошади.
Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — ступайте, сани, в лес…
Сани сами и поехали в ворота, да так быстро — на лошади не догнать.
А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много народу помял, подавил. Народ кричит: «Держи его! Лови его!» А он, знай, сани погоняет. Приехал в лес:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — топор, наруби дровишек посуше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь…
Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку — такую, чтобы насилу поднять. Сел на воз:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — поезжайте, сани, домой…
Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу, а там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют.
Видит он, что плохо дело, и потихоньку:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — ну-ка, дубинка, обломай им бока…
Дубинка выскочила — и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь.
Долго ли, коротко ли — услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера — его найти и привезти во дворец.
Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает:
— Ты — дурак Емеля?
А он с печки:
— А тебе на что?
— Одевайся скорее, я повезу тебя к царю.
— А мне неохота…
Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихоньку:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — дубинка, обломай ему бока…
Дубинка выскочила — и давай колотить офицера, насилу он ноги унес.
Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу:
— Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму.
Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
— Наш Емеля любит, когда его ласково попросят да красный кафтан посулят, — тогда он все сделает, что ни попросишь.
Набольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит:
— Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю.
— Мне и тут тепло…
— Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить-поить, — пожалуйста, поедем.
— А мне неохота…
— Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги.
Емеля подумал-подумал:
— Ну, ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду.
Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — ну-ка, печь, поезжай к царю…
Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю.
Царь глядит в окно, дивится:
— Это что за чудо?
Набольший вельможа ему отвечает:
— А это Емеля на печи к тебе едет.
Вышел царь на крыльцо:
— Что-то, Емеля, на тебя много жалоб! Ты много народу подавил.
— А зачем они под сани лезли?
В это время в окно на него глядела царская дочь — Марья-царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку:
— По щучьему веленью. по моему хотенью — пускай царская дочь меня полюбит…
И сказал еще:
— Ступай, печь, домой…
Печь повернулась и пошла домой, зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит-полеживает.
А у царя во дворце крик да слезы. Марья-царевна по Емеле скучает, не может жить без него, просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь забедовал, затужил и говорит опять набольшему вельможе:
— Ступай, приведи ко мне Емелю живого или мертвого, а то голову с плеч сниму.
Накупил набольший вельможа вин сладких да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю потчевать.
Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез к царю.
Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марьюцаревну, засмолили и бочку в море бросили.
Долго ли, коротко ли — проснулся Емеля, видит — темно, тесно:
— Где же это я?
А ему отвечают:
— Скучно и тошно, Емелюшка! Нас в бочку засмолили, бросили в синее море.
— А ты кто?
— Я — Марья-царевна.
Емеля говорит:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок…
Ветры буйные подули. Море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег, на желтый песок. Емеля и Марья-царевна вышли из нее.
— Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку.
— А мне неохота…
Тут она стала его еще пуще просить, он и говорит:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — выстройся, каменный дворец с золотой крышей…
Только он сказал — появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом — зеленый сад: цветы цветут и птицы поют. Марья-царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка.
— Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать?
Тут Емеля недолго думал:
— По щучьему веленью, по моему хотенью — стать мне добрым молодцем, писаным красавцем…
И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
А в ту пору царь ехал на охоту и видит — стоит дворец, где раньше ничего не было.
— Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?
И послал узнать-спросить: «Кто такие?» Послы побежали, стали под окошком, спрашивают.
Емеля им отвечает:
— Просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится:
— Кто же ты такой, добрый молодец?
— А помнишь дурачка Емелю — как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я — тот самый Емеля. Захочу — все твое царство пожгу и разорю.
Царь сильно испугался, стал прощенья просить:
— Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня!
Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье-царевне и стал править царством.
Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец!
Маша и медведь
Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька.
Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
— Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками!
Дедушка с бабушкой отвечают:
— Иди, только смотри от подружек не отставай, не то заблудишься.
Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька — деревце за деревце, кустик за кустик — и ушла далеко-далеко от подружек.
Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются.
Ходила, ходила Машенька по лесу — совсем заблудилась.
Пришла она в саму глушь, в саму чащу. Видит — стоит избушка. Постучала Машенька в дверь — не отвечают. Толкнула она дверь — дверь и открылась.
Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку.
Села и думает:
«Кто же здесь живет? Почему никого не видно?..»
А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было: он по лесу ходил.
Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
— Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке.
Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
— А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю и тогда уж съем!
Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти — не знает, спросить не у кого…
Думала она, думала и придумала.
Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:
— Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню: я бабушке да дедушке гостинцев снесу.
— Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу.
А Машеньке того и надо!
Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю:
— Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду!
— Ладно, — отвечает медведь, — давай короб!
Машенька говорит:
— Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик!
Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила.
Вернулся медведь, видит — короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню.
Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, в овражки спускается, на пригорки поднимается. Шел-шел, устал и говорит:
— Сяду на пенек,
Съем пирожок!
А Машенька из короба:
— Вижу, вижу!
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!
— Ишь какая глазастая, — говорит медведь, — все видит!
Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит:
— Сяду на пенек,
Съем пирожок!
А Машенька из короба опять:
— Вижу, вижу!
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!
Удивился медведь:
— Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит!
Встал и пошел скорее.
Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота:
— Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес.
А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают.
Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки.
Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят — короб стоит.
— Что это в коробе? — говорит бабушка.
А дедушка поднял крышку, смотрит — и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька.
Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.
Теремок
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
— Теремок-теремок! Кто в тереме живет?
Никто не отзывается. Вот она и вошла и стала жить в теремке. Прискакала лягушка-квакушка:
— Теремок-теремок! Кто в
тереме живет?
— Я, мышка-норушка, а ты кто?
— А я лягушка-квакушка.
— Ступай ко мне жить.
Вошла лягушка, и стали вдвоем жить. Прибежал зайчик:
— Теремок-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка, я, лягушка-квакушка, а ты кто?
— А я зайчик-побегайчик.
— Ступай к нам жить.
Стали они втроем жить. Прибежала лисичка:
— Теремок-теремок! Кто в тереме живет?
— Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик , а ты кто?
— А я лисичка-сестричка.
— Иди к нам.
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
— Теремок-теремок! Кто в тереме живет?
— Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, а ты кто?
— А я волчок-серый бочок.
— Иди к нам жить!
Стали пятеро жить. Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок остановился и заревел:
— Теремок-теремок! Кто в тереме живет?
— Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок.
— А я медведь-косолапый!.
— Иди к нам жить.
Медведь и полез в теремок.
Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит:
-Я лучше у вас на крыше буду жить.
-Да ты нас раздавишь!
-Нет, не раздавлю.
-Ну так влезай!
Влез медведь на крышу и только уселся и затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Выбежали звери, расстроенные, не знают, где им жить теперь. Но потом договорились каждый по веточке, да по бревнышку принести, чтобы теремок заново смастерить.
Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили! И стали дружно жить-поживать и добра наживать.
Курочка Ряба
Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба.
Снесла курочка яичко, да не простое — золотое.
Дед бил — не разбил.
Баба била — не разбила.
А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
Плачет дед, плачет баба и говорит им Курочка Ряба:
— Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!
Гуси-Лебеди
Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.
— Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей — мы купим тебе платочек.
Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, а сама побежала на улицу гулять. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.
Вернулась девочка, смотрит — а братца нету! Ахнула, кинулась его искать, туда-сюда — нет нигде! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, — братец не откликнулся.
Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей-лебедей давно шла дурная слава о том что, они маленьких детей уносили.
Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — стоит печь.
— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Печка ей отвечает:
— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.
— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся…
Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит яблоня.
— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
— Поешь моего лесного яблочка — скажу.
— У моего батюшки и садовые не едятся… Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?
— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу.
— У моего батюшки и сливочки не едятся… Долго она бегала по полям, по лесам. День клонился к вечеру, делать нечего — надо идти домой. Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, с одним окошком, кругом себя поворачивается.
В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку:
— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?
— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.
— Садись покуда кудель прясть. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет — вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.
Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
— Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается. Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять:
— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду.
Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает:
— Девица, прядешь ли?
Мышка ей отвечает:
— Пряду, бабушка… Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого.
Баба-яга закричала:
— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!..
Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси-лебеди.
— Речка, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего простого киселька.
Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали. А гуси-лебеди воротились навстречу, вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня…
— Яблоня, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали — налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки:
— Печка, матушка, спрячь меня!
— Поешь моего ржаного пирожка.
Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем в печь, села в устьице.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге.
Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой.
А тут и отец с матерью пришли.
Снегурочка
Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится. Жили-были дед да баба. Всего у них было вдоволь — и коровушка, и овечка, и кот на печке, а вот детей не было. Очень они печалились, всё горевали. Вот раз зимой пало снегу белого по колено. Ребятишки соседские на улицу высыпали — на санках кататься, снежками бросаться, да и стали снежную бабу лепить. Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе:
— Что, жена, призадумавшись сидишь, на чужих ребят глядишь, пойдём-ка и мы, разгуляемся на старости лет, слепим и мы снежную бабу.
А на старуху, верно, тоже весёлый час накатил. — Что ж, пойдём, дед, на улицу. Только на что нам бабу лепить? Давай-ка вылепим дочку Снегурочку.
Сказано — сделано.
Пошли старики в огород и давай снежную дочку лепить. Вылепили дочку, вставили вместо глаз две голубеньких бусины, сделали на щёчках две ямочки, из алой ленточки — роток. Куда как хороша снежная дочка Снегурочка! Смотрят на неё дед с бабой — не насмотрятся, любуются — не налюбуются. А у Снегурочки роток улыбается, волосок завивается.
Шевельнула Снегурочка ножками-ручками, с места сдвинулась да и пошла по огороду к избе.
Дед и баба точно ума лишились — к месту приросли.
— Дед, — баба кричит, — да это у нас доченька живая, Снегурочка дорогая! И в избу бросилась… То-то радости было!
Растёт Снегурка не по дням, а по часам. Что ни день — Снегурка всё краше. Дед и баба на неё не насмотрятся, не надышатся. А собой Снегурка — как снежинка белая, глазки что голубые бусины, русая коса до пояса. Только румянца у Снегурки нет как нет да в губах ни кровиночки. А и так хороша Снегурушка!
Вот пришла весна-ясна, понабухли почки, полетели пчёлы в поле, запел жаворонок. Все ребята рады-радёшеньки, девушки весенние песни поют. А Снегурочка заскучала, невесела стала, всё в окошко глядит, слезы льёт.
Вот и лето пришло красное, зацвели цветы в садах, созревает хлеб в полях…
Пуще прежнего Снегурка хмурится, всё от солнца прячется, все бы ей в тень да в холодок, а того лучше под дождичек.
Дед да баба все ахают:
— Уж здорова ли ты, доченька? — Здорова я, бабушка.
А сама всё в уголок прячется, на улицу не хочет. Вот раз собрались девушки в лес по ягоду — по малинку, черничку, алу земляничку.
Стали и Снегурку с собою звать:
— Пойдём да пойдём, Снегурочка!.. — Пойдём да пойдём, подруженька!.. Неохота Снегурочке в лес идти, неохота Снегурочке под солнышко. А тут дед и баба велят:
— Иди, иди, Снегурочка, иди, иди, деточка, повеселись с подружками.
Взяла Снегурочка кузовок, пошла в лес с подружками. Подружки по лесу ходят, венки плетут, хороводы водят, песни поют. А Снегурочка нашла студёный ручеёк, около него сидит, в воду глядит, пальцы в быстрой воде мочит, каплями, словно жемчугом, играет.
Вот и вечер пришёл. Разыгрались девушки, надели на головушки венки, разожгли костёр из хворосту, стали через костёр прыгать. Неохота прыгать Снегурочке… Да пристали к ней подруженьки. Подошла Снегурочка к костру… Стоит-дрожит, в лице ни кровинки нет, русая коса рассыпалась… Закричали подруженьки:
— Прыгай, прыгай, Снегурочка!
Разбежалась Снегурочка и прыгнула…
Зашумело над костром, застонало жалобно, и не стало Снегурочки.
Потянулся над костром белый пар, свился в облачко, полетело облачко в высоту поднебесную.
Растаяла Снегурочка…
Крошечка-Хаврошечка
Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, а есть и такие, которые своего брата не стыдятся.
К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили: она и ткет, она и прядет, она и прибирает, она и за всё отвечает.
А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая — Триглазка.
Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них и пряла, и ткала и слова доброго никогда не слыхала.
Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать:
— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
А коровушка ей в ответ:
— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет сработано.
Так и сбылось. Вылезет красная девица из ушка – всё готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано.
Отнесёт она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей ещё больше работы задаст.
Хаврошечка опять придёт к коровушке, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмёт – принесёт хозяйке.
Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Поди, догляди, кто сироте помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает?
Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, забыла матушкино приказанье, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:
— Спи, глазок, спи, глазок!
Глазок и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка всё наткала и побелила.
Ничего хозяйка не дозналась, послала вторую дочь — Двуглазку.
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая! Поди, догляди, кто сироте помогает? Двуглазка тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась, материно приказанье забыла и глазки смежила. А Хаврошечка баюкает:
— Спи, глазок, спи, другой!
Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Двуглазка всё ещё спала.
Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте ещё больше работы дала. И Триглазка, как её старшие сёстры, попрыгала-попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поёт:
— Спи, глазок, спи, другой! – а о третьем глазке и забыла.
Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и всё видит: как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.
Триглазка вернулась домой и матери всё рассказала; старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:
— Режь рябую корову!
Старик так, сяк:
— Что ты, старуха, в уме ли? Корова молодая, хорошая!
— Режь, да и только!
Наточил старик ножик…
Побежала Хаврошечка к коровушке:
— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.
— А ты, красная девица, моего мяса не ешь, косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай, каждое утро косточки водою поливай.
Старик зарезал коровушку. Хаврошечка всё сделала, что коровушка завещала: голодом голодала, мяса её в рот не брала, косточки её зарыла и каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо – останавливается, кто проходит близко – заглядывается.
Много ли времени прошло, мало ли… Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек – богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, стал затрагивать девушек:
— Девицы-красавицы! – говорит он. – Которая из вас мне яблочко поднесёт, та за меня замуж пойдёт.
И бросились три сестры одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами.
Сёстры хотели их сбить – листья глаза засыпают, хотели сорвать – сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались – руки изодрали, а достать не могли.
Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека и он на ней женился, и стала она в добре поживать, лиха не знать.
Репка
Посадил дед репку и говорит:
— Расти, расти, репка, сладка! Расти, расти, репка, крепка!
Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая.
Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может.
Позвал дед бабку.
Бабка за дедку,
Дедка за репку —
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку.
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку —
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала внучка Жучку.
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку —
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала Жучка кошку.
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку —
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала кошка мышку.
Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку —
Тянут-потянут — и вытянули репку.
Рукавичка
Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил рукавичку. Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и говорит:
— Тут я буду жить.
А в это время лягушка — прыг-прыг! — спрашивает:
— Кто, кто в рукавичке живет?
— Мышка — поскребушка. А ты кто?
— А я лягушка — попрыгушка. Пусти и меня!
— Иди.
Вот их уже двое. Бежит зайчик. Подбежал к рукавичке, спрашивает:
— Кто, кто в рукавичке живет?
— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка. А ты кто?
— А я зайчик — побегайчик. Пустите и меня!
— Иди.
Вот их уже трое. Бежит лисичка:
— Кто, кто в рукавичке живет?
— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка да зайчик — побегайчик. А ты кто?
-А я лисичка-сестричка. Пустите и меня!
Вот их уже четверо сидит. Глядь, бежит волчок — и тоже к рукавичке, да и спрашивает:
— Кто, кто в рукавичке живет?
— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка, зайчик — побегайчик да лисичка-сестричка. А ты кто?
— А я волчок — серый бочок. Пустите и меня!
— Ну иди!
Влез и этот. Уже стало их пятеро. Откуда ни возьмись, бредет кабан:
— Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет?
— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка, зайчик — побегайчик, лисичка-сестричка да волчок — серый бочок. А ты кто?
— А я кабан — клыкан. Пустите и меня!
Вот беда, всем в рукавичку охота.
— Тебе и не влезть!
— Как-нибудь влезу, пустите!
— Ну, что ж с тобой поделаешь, лезь!
Влез и этот. Уже их шестеро. И так им тесно, что не повернуться! А тут затрещали сучья: вылезает медведь и тоже к рукавичке подходит, ревет:
— Кто, кто в рукавичке живет?
— Мышка — поскребушка, лягушка — попрыгушка, зайчик — побегайчик, лисичка-сестричка, волчок — серый бочок да кабан — клыкан. А ты кто?
— Гу-гу-гу, вас тут многовато! А я медведюшка — батюшка. Пустите и меня!
— Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно.
— Да как-нибудь!
— Ну уж иди, только с краешку!
Влез и этот. Семеро стало, да так тесно, что рукавичка того и гляди, разорвется.
А тем временем дед хватился — нету рукавички. Он тогда вернулся искать ее. А собачка вперед побежала. Бежала, бежала, смотрит — лежит рукавичка и пошевеливается. Собачка тогда:
— Гав-гав-гав!
Звери испугались, из рукавички вырвались — да врассыпную по лесу. А дед пришел и забрал рукавичку.
Вершки и корешки
Подружился как-то мужик с медведем. Вот и вздумали они вместе репу сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик и говорит:
— Я возьму себе корешки, а тебе Мишка достанутся вершки.
Выросла у них хорошая репа. Собрали они урожай. Мужик взял себе корешки, а Мише отдал вершки.
Видит медведь, что прогадал. Одни листья получил и говорит мужику:
— Ты, брат, меня надул. Ну, смотри, когда будем в другой раз сеять, ты уж меня так не проведешь.
На другой год говорит мужик медведю:
— Давай, Миша, опять вместе сеять.
— Давай, только теперь ты себе бери вершки, а мне отдавай корешки – уговаривается Миша.
— Ладно! – говорит мужик. – Пусть будет по-твоему.
И посеяли пшеницу. Добрая пшеница уродилась. Мужик взял себе вершки, а Мише отдал корешки. Намолотил мужик пшеницы, намолол муки, напек пирогов, а медведь опять ни с чем. Сидит над ворохом сухих стеблей. Вот с тех пор перестали медведь с мужиком дружбу водить.
Бычок – черный бочок, белые копытца
Жили-были муж да жена, была у них дочка – Нюрочка-девчурочка. Приходят к ним раз её подружки и просят:
— Отпустите с нами Нюрочку-девчурочку в лес – по грибы, по ягоды!
Мать да отец говорят:
— Ступайте, только не потеряйте её в лесу: она у нас маленькая – заблудится, одна дороги домой не найдёт.
— Мы её не потеряем!
Вот подружки и пошли все в лес. Стали в лесу собирать грибы да ягоды и разбрелись в разные стороны. Разбрелись да и потеряли Нюрочку-девчурочку. Осталась она в лесу одна-одинёшенька и стала плакать.
А в это время шла мимо Баба Яга, костяная нога. Увидела она Нюрочку-девчурочку, схватила её и потащила в свою избушку на курьих ножках.
Притащила и говорит:
— Будешь теперь на меня работать! Печку топи, дрова руби, воду носи, пряжу пряди, избу мети!
Стала Нюрочка-девчурочка жить у Бабы Яги. Баба Яга с утра до ночи работать её заставляла, досыта не кормила, ругала-бранила. Вот раз Баба Яга ушла из избушки, а Нюрочка-девчурочка сидит у окошка, пряжу прядёт, а сама горько плачет.
Бегут мимо овцы:
— Бе-бе-бе! О чём девочка так горько плачешь?
— Как же мне, как же мне овечки не плакать! Меня Баба Яга домой не пускает, досыта не кормит, бранит-ругает, целый день работать заставляет.
Баран говорит:
— Садись на меня, я тебя домой увезу!
Села Нюрочка-девчурочка на барана – он и побежал, а овечки за ним. Вернулась Баба Яга в избушку, хватилась – нету Нюрочки-девчурочки!
Села она в ступу, пустилась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. Догнала барана, отняла Нюрочку-девчурочку, притащила назад в свою избушку на курьих ножках. Опять заставила её работать с утра до ночи, опять стала ругать-бранить.
Сидит раз Нюрочка-девчурочка на крыльце, прядёт пряжу да плачет.
Бегут мимо козы:
— Ме-ме-ме! О чём, девочка, плачешь?
— Как же мне козочки не плакать! Меня Баба Яга домой не пускает, бранит-ругает.
Козёл говорит:
— Садись на меня, я тебя увезу от Бабы Яги!
Села Нюрочка-девчурочка на козла, он и побежал. Да не очень быстро бежал: Баба Яга его догнала, Нюрочку-девчурочку отняла и опять притащила в избушку. Как Баба Яга ушла, Нюрочка-девчурочка вышла на крылечко, села на ступеньки, сидит горюет. Идёт мимо стадо коров да телят, а позади всех бычок – чёрный бочок, белые копытца.
Спрашивает он Нюрочку-девчурочку:
— Му-му-му! О чём горюешь?
— Как же мне, бычок – чёрный бочок, не горевать! Меня Баба Яга к себе утащила, домой не отпускает, бранит-ругает, без отдыха работать заставляет.
— Садись на меня, я тебя домой увезу!
— Где тебе, бычок – чёрный бочок! Меня баран увозил – не увёз, козёл увозил – не увёз, а ты и вовсе не увезёшь: не умеешь быстро бегать.
— Баран не увёз, козёл не увёз, а я увезу, только держись крепче за мои рожки!
Вот Нюрочка-девчурочка уселась на бычка и ухватилась за его рожки! Бычок – чёрный бочок, белые копытца головой тряхнул, хвостиком махнул и побежал. А Баба Яга хватилась – Нюрочки-девчурочки опять нет! Села Баба Яга в ступу, пестом погоняет, сама покрикивает:
— Сейчас догоню! Сейчас схвачу! Домой притащу, никогда не отпущу!
Подлетела – того гляди, схватит.
А бычок — чёрный бочок скорее к грязному болотцу. Только Баба Яга подлетела да из ступы выскочила, бычок и стал по болотцу задними ногами бить: забрызгал Бабу Ягу с ног до головы грязью, все глаза ей залепил.
Пока Баба Яга глаза протирала да брови прочищала, бычок – чёрный бочок прибежал в деревню, постучал рожками в окошко и кричит:
— Му-му! Выходите скорее: я вашу Нюрочку-девчурочку от Бабы Яги привёз!
Вышли отец и мать, стали дочку свою обнимать, целовать, стали бычка благодарить:
— Спасибо тебе бычок – чёрный бочок, белые копытца, острые рожки!
Царевна-Лягушка
В старые годы у одного царя было три сына. Вот, когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит:
— Сынки, мои любезные, покуда я ещё не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат.
Сыновья отцу отвечают:
— Так что ж, батюшка, благослови. На ком тебе желательно нас женить?
— Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша.
Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили.
У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор, подняла её купеческая дочь.
А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела сам не знает куда. Вот он шёл, шёл, дошёл до болота, видит — сидит лягушка, подхватила его стрелу. Иван-царевич говорит ей:
— Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу. А лягушка ему отвечает:
— Возьми меня замуж!
— Что ты, как Я возьму себе в жёны лягушку?
— Бери, знать, судьба твоя такая.
Закручинился Иван-царевич. Делать нечего, взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три свадьбы: старшего сына женил на боярской дочери, среднего — на купеческой, а несчастного Ивана-царевича — на лягушке.
Вот царь позвал сыновей:
— Хочу посмотреть, которая из ваших жён лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтрему по рубашке.
Сыновья поклонились отцу и пошли.
Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Лягушка, по полу скачет, спрашивает его:
— Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?
— Батюшка, велел тебе к завтрему рубашку сшить. Лягушка отвечает:
— Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше спать, утро вечера мудренее.
Иван-царевич лег спать, а лягушка, прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке, не расскажешь.
Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула:
— Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного батюшки.
Иван-царевич утром проснулся, лягушка, опять по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернута в полотенце. Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял её и сказал:
— Эту рубашку, в черной избе носить. Средний сын развернул рубашку, царь сказал:
— В ней только, в баню ходить.
Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную златом-серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул:
-Ну, вот это рубашка — в праздник её надевать. Пошли братья по домам — те двое — и судят между собой:
— Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича: она не лягушка, а какая-нибудь хитра… Царь опять позвал сыновей:
— Пускай ваши жёны испекут мне к завтрему хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает.
Иван-царевич голову повесил, пришёл домой. Лягушка, его спрашивает:
— Что закручинился? Он отвечает:
— Надо к завтрему испечь царю хлеб.
— Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренеё.
А те невестки, сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку-задворенку, посмотреть, как лягушка будет печь хлеб.
Лягушка хитра, она это смекнула. Замесила квашню; печь сверху разломала да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка-задворенка прибежала к царским невесткам; все рассказала, и те так же стали делать.
А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши:
— Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела.
Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями: по бокам узоры печатные, сверху города с заставами.
Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ширинку, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от боль-ших сыновей. Их жены-то поспускали тесто в печь, как им бабушка-задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же отослал. А как подал Иван-царевич, царь сказал:
— Вот это хлеб, только, в праздник его есть. И приказал царь трем своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с жёнами.
Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил. Лягушка, по полу скачет:
— Ква, ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое?
— Лягушка, лягушка, как мне не горевать! Батюшка наказал, чтобы я пришёл с тобой на пир, а как я, тебя людям покажу?
Лягушка отвечает:
— Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи: “Это моя лягушонка, в коробчонке едет”.
Иван-царевич и пошёл один. Вот старшие братья приехали с жёнами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурьмленными. Стоят да над Иваном-царевичем смеются:
— Что же ты без жены пришёл? Хоть бы в платочке её принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил.
Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти браные — пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрёсся. Гости напугались, повскакали с мест, а Иван-царевич говорит:
— Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка, в коробчонке приехала.
Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая: на лазоревом платье — частые звезды, на голове — месяц ясный, такая красавица — ни вздумать, ни взгадать, только, в сказке сказать. Берёт она Ивана-царевича за руку и ведёт за столы дубовые, за скатерти браные.
Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем да косточки, за правый рукав бросила.
Жёны больших-то царевичей увидали её хитрости и давай то же делать.
Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась — всем на диво. Махнула левым рукавом — вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом — поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались.
А старшие невестки пошли плясать: махнули рукавом — только гостей забрызгали, махнули другим — только кости разлетелись, одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток.
В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал домой, нашёл там лягушечью кожу и бросил её в печь, сжёг на огне.
Василиса Премудрая возвращается домой, хватилась — нет лягушечьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и говорит Ивану-царевичу:
— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты ещё только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай. Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бессмертного…
Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно. Иван-царевич поплакал, поплакал, поклонился на четыре стороны и пошёл куда глаза глядят — искать жену, Василису Премудрую. Шёл он близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтан истёр, шапчонку дождик иссёк. Попадается ему навстречу старый старичок.
— Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь, куда путь держишь?
Иван-царевич рассказал ему про своё несчастье. Старый старичок говорит ему:
— Эх, Иван-царевич; зачем ты лягушечью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе её было снимать. Василиса Премудрая хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он за то осерчал на неё и велел ей три года быть лягушкой. Ну, делать нечего, вот тебе клубок: куда он покатится, туда и ты ступай за ним смело.
Иван-царевич поблагодарил старого старичка и пошёл за клубочком. Клубок катится, он за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом:
— Не бей меня, Иван царевич, когда-нибудь тебе пригожусь.

— Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе пригожусь, Он пожалел селезня и пошёл дальше. Бежит косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять, а заяц говорит человеческим голосом:
— Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь. Пожалел он зайца, пошёл дальше. Подходит к синему морю и видит — на берегу, на песке, лежит щука, едва дышит и говорит ему:
— Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море!
Он бросил щуку в море, пошёл дальше берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается.
— Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила: к лесу задом, ко мне передом.
Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-царевич взошёл в неё и видит — на печи, на девятом кирпичи, лежит Баба-яга, костяная нога, зубы — на полке, а нос в потолок врос.
— Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал? — говорит ему Баба-яга. — Дело пытаешь или от дела лытаешь?
Иван-царевич ей отвечает:
— Ах ты, старая хрычовка, ты бы меня прежде напоила, накормила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала.
Баба-яга его в бане выпарила, напоила, накормила, в постель уложила, и Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую.
— Знаю, знаю, — говорит ему Баба-яга, — твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно её будет достать, нелегко с Кощеем сладить: его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз, бережёт.
Иван-царевич у Бабы-яги переночевал, и наутро она ему указала, где растет высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошёл туда Иван-царевич, видит — стоит, шумит высокий дуб, на нем казённый сундук, а достать его трудно.
Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц — и наутек во всю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки.разорвал. А из зайца вылетела утка, поднялась высоко, под самое небо. Глядь, на неё селезень кинулся, как ударит её — утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море.
Тут Иван-царевич залился горькими слезами — где же в море яйцо найти! Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у неё конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею помереть.Иван-царевич пошёл в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости.
Петушок – золотой гребешок
Жили-были кот, дрозд да петушок — золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют.
Уходят — строго наказывают:
—Мы пойдем далеко, а ты оставайся домовничать, да голоса не подавай; когда придет лиса, в окошко не выглядывай.
Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под окошко и запела:
—Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору.
Закричал петушок:
—Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд, спасите меня!..
Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка.
В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают:
—Ну, теперь, петух, не выглядывай в окошко, мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела:
—Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок сидит помалкивает. А лиса — опять:
—Бежали ребята,
Рассыпали пшеницу,
Курицы клюют,
Петухам не дают…
Петушок и выставил головку в окошко:
—Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору.
Закричал петушок:
—Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд, спасите меня!..
Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит… Догнали лису — кот дерет, дрозд клюет, и отняли петушка.
Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строго-настрого наказывают петушку:
—Не слушай лисы, не выглядывай в окошко, мы еще дальше уйдем, не услышим твоего голоса.
И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса — тут как тут: села под окошечко и поет:
—Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок сидит помалкивает. А лиса — опять:
—Бежали ребята,
Рассыпали пшеницу,
Курицы клюют,
Петухам не дают…
Петушок все помалкивает. А лиса — опять:
—Люди бежали,
Орехов насыпали,
Куры-то клюют,
Петухам не дают…
Петушок и выставил головку в окошко:
—Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти плотно, понесла в свою нору, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы…
Сколько петушок ни кричал, ни звал — кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись домой — петушка-то нет.
Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит… Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать:
—Трень, брень, гусельцы,
Золотые струночки…
Еще дома ли Лисафья-кума,
Во своем ли теплом гнездышке?
Лисица слушала, слушала и думает:
«Дай-ка посмотрю — кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает».
Взяла да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили — и давай бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла.
Взяли они петушка, посадили в лукошко и принесли домой. И с тех пор стали жить да быть, да и теперь живут.
Курочка, мышка и тетерев
В далекие времена жили-были курочка, мышка и тетерев. Однажды нашла курочка ячменное зерно и от радости даже раскудахталась:
— Нашла зерно, зерно нашла!.. Надо его смолоть! А кто понесет на мельницу?
— Не я, — сказала мышка.
— Не я, — сказал тетерев.
Нечего делать, взяла курочка зерно и понесла. Пришла на мельницу, смолола зерно.
— Кто домой муку снесет? — спросила.
— Не я, — сказала мышка.
— И не я, — сказал тетерев.
Нечего делать, взяла курочка муку и принесла домой.
— Кто хлеб замесит? — спросила курочка.
— Не я, — сказала мышка.
— И не я, — сказал тетерев.
Замесила курочка тесто, и печку затопила, и хлеб сама посадила в печь. Вышел каравай на славу: пышный да румяный. Курочка на стол его поставила и спрашивает:
— А кто есть его будет?
— Я, — крикнула мышка.
— И я, — крикнул тетерев.
И оба уселись за стол.
Кощей бессмертный
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь; у этого царя было три сына, все они были на возрасте. Только мать их вдруг унёс Кощей Бессмертный.
Старший сын и просит у отца благословенье искать мать. Отец благословил; он уехал и без вести пропал.
Средний сын пождал-пождал, тоже выпросился у отца, уехал, — и этот без вести пропал.
Малый сын, Иван-царевич, говорит отцу:
— Батюшка! Благословляй меня искать матушку.
Отец не пускает, говорит:
— Тех нет братовей, да и ты уедешь: я с кручины умру!
— Нет, батюшка, благословишь — поеду, и не благословишь — поеду.
Отец благословил.
Иван-царевич пошел выбирать себе коня; на которого руку положит, тот и падет; не мог выбрать себе коня, идет дорогой по городу, повесил голову. Неоткуда взялась старуха, спрашивает:
— Что, Иван-царевич, повесил голову?
— Уйди, старуха! На руку положу, другой пришлепну — мокренько будет.
Старуха обежала другим переулком, идет опять навстречу, говорит:
— Здравствуй, Иван-царевич! Что повесил голову?
Он и думает: «Что же старуха меня спрашивает? Не поможет ли мне она?»
И говорит ей:
— Вот, бабушка, не могу найти себе доброго коня.
— Дурашка, мучишься, а старухе не кучишься! — отвечает старуха. — Пойдем со мной.
Привела его к горе, указала место:
— Скапывай эту землю.
Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на двенадцати замках; замки он тотчас же сорвал и двери отворил, вошел под землю: тут прикован на двенадцати цепях богатырский конь; он, видно, услышал ездока по себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал.
Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, надел на коня узду, черкасское седло, дал старухе денег и сказал:
— Благословляй и прощай, бабушка!
Сам сел и поехал.
Долго ездил, наконец доехал до горы; пребольшущая гора, крутая, взъехать на нее никак нельзя. Тут и братья его ездят возле горы; поздоровались, поехали вместе; доезжают до чугунного камня пудов в полтораста, на камне надпись: кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет.
Старшие братовья не могли поднять камень, а Иван-царевич с одного маху забросил на гору — и тотчас в горе показалась лестница.
Он оставил коня, наточил из мизинца в стакан крови, подает братьям и говорит:
— Ежели в стакане кровь почернеет, не ждите меня: значит, я умру!
Простился и пошел. Зашел на гору; чего он не насмотрелся! Всяки тут леса, всяки ягоды, всяки птицы!
Долго шел Иван-царевич, дошел до дому: огромный дом! В нем жила царская дочь, утащена Кощеем Бессмертным.
Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидела человека, вышла на балкон, кричит ему:
— Тут, смотри, у ограды есть щель, тронь ее мизинцем, и будут двери.
Так и сделалось. Иван-царевич вошел в дом. Девица его приняла, напоила-накормила и расспросила. Он ей рассказал, что пошел доставать мать от Кощея Бессмертного. Девица говорит ему на это:
— Трудно будет достать тебе мать, Иван-царевич! Он ведь бессмертный — убьет тебя. Ко мне он часто ездит… вон у него меч в пятьсот пудов, поднимешь ли его? Тогда ступай!
Иван-царевич не только поднял меч, еще бросил кверху; сам пошел дальше.
Приходит к другому дому; двери знает как искать; вошел в дом, а тут его мать, обнялись, поплакали.
Он и здесь испытал свои силы, бросил какой-то шарик в полторы тысячи пудов. Время приходит быть Кощею Бессмертному; мать спрятала его. Вдруг Кощей Бессмертный входит в дом и говорит:
— Фу, фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а русская коска сама на двор пришла! Кто у тебя был? Не сын ли?
— Что ты, бог с тобой! Сам летал по Руси, нахватался русского духу, тебе и мерещится, — ответила мать Ивана-царевича. А сама поближе с ласковыми словами к Кощею Бессмертному, выспрашивает то-другое и говорит:
— Где же у тебя смерть, Кош Бессмертный?
— У меня смерть, — говорит он, — в таком-то месте; там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце моя смерть.
Сказал это Кощей Бессмертный, побыл немного и улетел.
Пришло время — Иван-царевич благословился у матери, отправился по смерть Коша Бессмертного.
Идет дорогой много время, не пивал, не едал, хочет есть до смерти и думает: кто бы на это время попался! Вдруг — волчонок; он хочет его убить. Выскакивает из норы волчиха и говорит:
— Не тронь моего детища; я тебе пригожусь.
— Быть так!
Иван-царевич отпустил волка; идет дальше, видит ворону.
«Постой, — думает, — здесь я закушу!» Зарядил ружье, хочет стрелять, ворона и говорит:
— Не тронь меня, я тебе пригожусь.
Иван-царевич подумал и отпустил ворону.
Идет дальше, доходит до моря, остановился на берегу. В это время вдруг взметался щучонок и выпал на берег, он его схватил, есть хочет смертно — думает: «Вот теперь поем!»
Неоткуда взялась щука, говорит:
— Не тронь, Иван-царевич, моего детища, я тебе пригожусь.
Он и щучонка отпустил.
Как пройти море? Сидит на берегу да думает; щука словно знала его думу, легла поперек моря. Иван-царевич прошел по ней, как по мосту; доходит до дуба, где была смерть Кощея Бессмертного, достал ящик, отворил — заяц выскочил и побежал. Где тут удержать зайца!
Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а волк, которого не убил он, кинулся за зайцем, поймал и несет к Ивану-царевичу. Он обрадовался, схватил зайца, распорол его и как-то оробел: утка спорхнула и полетела. Он пострелял, пострелял — мимо! Задумался опять.
Неоткуда взялась ворона с воронятами и ступай за уткой, поймала утку, принесла Ивану-царевичу. Царевич обрадовался, достал яйцо, пошел, доходит до моря, стал мыть яичко, да и выронил в воду. Как достать из моря? Безмерна глубь! Закручинился опять царевич.
Вдруг море встрепенулось — и щука принесла ему яйцо, потом легла поперек моря. Иван-царевич прошел по ней и отправился к матери; приходит, поздоровались, и она его опять спрятала.
В то время прилетел Кощей Бессмертный и говорит:
— Фу, фу! Русской коски слыхом не слыхать, видом не видать, а здесь Русью несет!
— Что ты, Кош? У меня никого нет, — отвечала мать Ивана-царевича.
Кощей опять и говорит:
— Я что-то не могу!
А Иван-царевич пожимал яичко: Кощея Бессмертного от того коробило. Наконец Иван-царевич вышел, кажет яйцо и говорит:
— Вот, Кощей Бессмертный, твоя смерть!
Тот на коленки против него встал и говорит:
— Не бей меня, Иван-царевич, станем жить дружно; нам весь мир будет покорен.
Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил яичко — и Кощей Бессмертный умер.
Взяли они, Иван-царевич с матерью, что было нужно, пошли на родиму сторону; по пути зашли за царской дочерью, к которой Иван-царевич заходил, взяли и ее с собой; пошли дальше, доходят до горы, где братья Ивана-царевича все ждут. Девица говорит:
— Иван-царевич! Воротись ко мне в дом; я забыла подвенечное платье, брильянтовый перстень и нешитые башмаки.
Между тем он спустил мать и царскую дочь, с коей они условились дома обвенчаться; братья приняли их, да взяли спуск и перерезали, чтобы Ивану-царевичу нельзя было спуститься, мать и девицу как-то угрозами уговорили, чтобы дома про Ивана-царевича не сказывали. Прибыли в свое царство; отец обрадовался детям и жене, только печалился об одном Иване-царевиче.
А Иван-царевич воротился в дом своей невесты, взял обручальный перстень, подвенечное платье и нешитые башмаки; приходит на гору, метнул с руки на руку перстень. Явилось двенадцать молодцов, спрашивают:
— Что прикажете?
— Перенесите меня вот с этой горы.
Молодцы тотчас его спустили. Иван-царевич надел перстень — их не стало; пошел в свое царство, приходит в тот город, где жил его отец и братья, остановился у одной старушки и спрашивает:
— Что, бабушка, нового в вашем царстве?
— Да чего, дитятко! Вот наша царица была в плену у Кощея Бессмертного; ее искали три сына, двое нашли и воротились, а третьего, Ивана-царевича, нет, и не знают, где. Царь кручинится об нем. А эти царевичи с матерью привезли какую-то царскую дочь, большак жениться на ней хочет, да она посылает наперед куда-то за обручальным перстнем или вели сделать такое же кольцо, какое ей надо; колдася уж кличут клич, да никто не выискивается.
— Ступай, бабушка, скажи царю, что ты сделаешь; а я пособлю, — говорит Иван-царевич.
Старуха в кою пору скрутилась, побежала к царю и говорит:
— Ваше царское величество! Обручальный перстень я сделаю.
— Сделай, сделай, бабушка! Мы таким людям рады, — говорит царь, — а если не сделаешь, то голову на плаху.
Старуха перепугалась, пришла домой, заставляет Ивана-царевича делать перстень, а Иван-царевич спит, мало думает, перстень готов. Он шутит над старухой, а старуха трясется вся, плачет, ругает его:
— Вот ты, — говорит, — сам-то в стороне, а меня, дуру, подвел под смерть.
Плакала, плакала старуха и уснула.
Иван-царевич встал поутру рано, будит старуху:
— Вставай, бабушка, да ступай неси перстень, да смотри: больше одного червонца за него не бери. Если спросят, кто сделал перстень, скажи: сама; на меня не сказывай!
Старуха обрадовалась, снесла перстень; невесте понравился.
— Такой, — говорит, — и надо!
Вынесла ей полно блюдо золота; она взяла один только червонец. Царь говорит:
— Что, бабушка, мало берешь?
— На что мне много-то, ваше царское величество! После понадобятся — ты же мне дашь.
Пробаяла это старуха и ушла.
Прошло какое-то время — вести носятся, что невеста посылает жениха за подвенечным платьем или велит сшить такое же, какое ей надо. Старуха и тут успела (Иван-царевич помог), снесла подвенечное платье.
После снесла нешитые башмаки, а червонцев брала по одному и сказывала: эти вещи сама делает.
Слышат люди, что у царя в такой-то день свадьба; дождались и того дня. А Иван-царевич старухе наказал:
— Смотри, бабушка, как невесту привезут под венец, ты скажи мне.
Старуха время не пропустила. Иван-царевич тотчас оделся в царское платье, выходит:
— Вот, бабушка, я какой!
Старуха в ноги ему.
— Батюшка, прости, я тебя ругала!
— Бог простит.
Приходит в церковь. Брата его еще не было. Он стал в ряд с невестой; их обвенчали и повели во дворец.
На дороге попадается навстречу жених, большой брат, увидал, что невесту ведут с Иваном-царевичем, и пошел со стыдом обратно.
Отец обрадовался Ивану-царевичу, узнал о лукавстве братьев и, как отпировали свадьбу, больших сыновей разослал в ссылку, а Ивана-царевича сделал наследником.
Петушок и бобовое зернышко
Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился, да торопился, а курочка знай себе да приговаривает:
— Петя, не торопись. Петя, не торопись.
Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да второпях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит не шевелиться. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит:
— Ох, хозяюшка, дай скорей маслица петушку горлышко смазать: подавился петушок бобовым зернышком.
Хозяйка говорит:
— Беги скорей к коровушке, проси у нее молока, а я уж собью маслица.
Бросилась курочка к корове:
— Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет маслица, маслицем смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зернышком.
— Ступай скорее к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы.
Бежит курочка к хозяину:
-Хозяин! Хозяин! Дай скорее коровушке свежей травы, коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зернышком.
— Беги скорей к кузнецу за косой, — говорит хозяин.
Со всех ног бросилась курочка к кузнецу:
— Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко: подавился петушок бобовым зернышком.
Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масла, дала маслица курочке. Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зернышко и проскочило. Петушок вскочил живехонький и во все горло запел:
— Ку-ка-реку!
Лиса, заяц и петух
Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избенка ледяная, а у зайчика лубяная; пришла весна красна — у лисицы растаяла, а у зайчика стоит по-старому.
Лиса попросилась у зайчика погреться, да зайчика-то и выгнала.
Идет дорогой зайчик да плачет, а ему навстречу собаки:
— Тяф, тяф, тяф! Про что, зайчик, плачешь?
А зайчик говорит:
— Отстаньте, собаки! Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне, да меня и выгнала.
— Не плачь, зайчик! — говорят собаки. — Мы ее выгоним.
— Нет, не выгоните!
— Нет, выгоним! Подошли к избенке:
— Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон! А она им с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам!
Собаки испугались и ушли.
Зайчик опять идет да плачет. Ему навстречу медведь:
— О чем, зайчик, плачешь? А зайчик говорит:
— Отстань, медведь! Как мне не плакать? Выла у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне, да меня и выгнала.
— Не плачь, зайчик! — говорит медведь. — Я выгоню ее.
— Нет, не выгонишь! Собаки гнали — не выгнали, и ты не выгонишь.
— Нет, выгоню! Пошли гнать:
— Поди, лиса, вон! А она с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам!
Медведь испугался и ушел.
Идет опять зайчик да плачет, а ему навстречу бык:
— Про что, зайчик, плачешь?
— Отстань, бык! Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне, да меня и выгнала.
— Пойдем, я ее выгоню.
— Нет, бык, не выгонишь! Собаки гнали — не выгнали, медведь гнал — не выгнал, и ты не выгонишь.
— Нет, выгоню. Подошли к избенке:
— Поди, лиса, вон! А она с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам!
Бык испугался и ушел.
Идет опять зайчик да плачет, а ему навстречу петух с косой:
— Кукуреку! О чем, зайчик, плачешь?
— Отстань, петух! Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне, да меня и выгнала.
— Пойдем, я выгоню.
— Нет, не выгонишь! Собаки гнали — не выгнали, медведь гнал — не выгнал, бык гнал — не выгнал, и ты не выгонишь!
— Нет, выгоню! Подошли к избенке:
— Кукуреку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
А она услыхала, испугалась, говорит:
— Одеваюсь… Петух опять:
— Кукуреку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
А она говорит:
— Шубу надеваю. Петух в третий раз:
— Кукуреку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
Лисица выбежала; он ее зарубил косой-то и стал с зайчиком жить да поживать да добра наживать.
Вот тебе сказка, а мне кринка масла.
Жихарка
Жили-были в избушке кот, петух да маленький мальчишечка — Жихарка.
Кот с петухом на охоту ходили, а Жихарка домовничал: обед варил, стол накрывал, ложки раскладывал.
Раскладывает да приговаривает:
— Эта простая ложка — котова, эта простая ложка — Петина, а это не простая — точёная, ручка золочёная, — это Жихаркина. Никому её не отдам.
Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один хозяйничает, и захотелось ей Жихаркиного мясца попробовать.
Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке двери запирать. Запирал Жихарка двери, все запирал, а один раз и забыл.
Справил Жихарка все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать, да и говорит:
— Эта простая ложка — котова, эта простая ложка — Петина, а эта не простая — точёная, ручка золочёная, — это Жихаркина. Никому её не отдам.
Только хотел её на стол положить, а по лестнице — топ-топ-топ.
— Матушки! Лиса идёт!
Испугался Жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил — и поднимать некогда, — да под печку и залез.
А лиса в избушку вошла, глядь туда, глядь сюда — нет Жихарки.
«Постой же, — думает лиса, — ты мне сам скажешь, где сидишь».
Пошла лиса к столу, стала ложки перебирать:
— Эта ложка простая — Петина, эта ложка простая — котова, а эта ложка не простая — точёная, ручка золочёная, — эту я себе возьму.
А Жихарка-то под печкой во весь голос:
— Ай, ай, ай, не бери, тётенька, я не дам!
— Вот ты где, Жихарка!
Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину перекинула — да в лес.
Домой прибежала, печку жарко истопила: хочет Жихарку изжарить да съесть. Взяла лиса лопату.
— Садись, — говорит, — Жихарка.
А Жихарка маленький, да удаленький. На лопату сел, ручки-ножки растопырил — в печку-то и нейдёт.
— Не так сидишь, — говорит лиса. Повернулся Жихарка к печи затылком, ручки-ножки растопырил — в печку-то и нейдёт.
— Да не так, — лиса говорит.
— А ты мне, тётенька, покажи, я ведь не умею.
— Экой ты недогадливый!
Лиса Жихарку с лопаты сбросила, сама на лопату прыг, в кольцо свернулась, лапки спрятала, хвостом накрлась.
А Жихарка её толк в печку да заслонкой прикрыл, а сам скорей вон из избы да домой.
А дома-то кот да петух плачут, рыдают:
— Вот ложка простая — котова, вот ложка простая — Петина, а нет ложки точёной, ручки золочёной, да и нет нашего Жихарки, да и нет нашего маленького!..
Кот лапкой слезы утирает, Петя крылышком подбирает.
Вдруг по лесенке — тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким голосом кричит:
— А вот и я! А лиса в печке сжарилась!
Обрадовались кот да петух. Ну Жихарку целовать! Ну Жихарку обнимать! И сейчас кот, петух и Жихарка в этой избушке живут, нас в гости ждут.
Василиса Прекрасная
В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
— Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью.
Затем мать поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, — стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица; мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!
Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая:
— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?
Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу справляет за Василису; та только отдыхает в холодочке да рвет цветочки, а у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой.
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает:
— Не выдам меньшой прежде старших! А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время ‘ по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису, но эта завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть, и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке; одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку.
— Что теперь нам делать? — говорили девушки. — Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге!
— Мне от булавок светло! — сказала та, что плела кружево. — Я не пойду.
— И я не пойду, — сказала та, что вязала чулок. — Мне от спиц светло!
— Тебе за огнем идти, — закричали обе. — Ступай к бабе-яге! И вытолкали Василису из горницы.
Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала:
— На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-яга съест меня!
Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки.
— Не бойся, Василисушка! — сказала она. — Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги.
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес.
Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая, — на дворе стало рассветать.
Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном коне, — стало всходить солнце.
Василиса прошла всю-ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами; вместо дверей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне; подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте.
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; выехала из лесу баба-яга — в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала:
— Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала:
— Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе.
— Хорошо, — сказала баба-яга, — знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем! Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
— Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои широкие, отворитесь!
Ворота отворились, а баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось.
Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе:
— Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу. Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять; из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха; Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба спать ложиться и говорит:
— Когда завтра я уеду, ты смотри — двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтоб все было сделано, а не то — съем тебя!
После такого наказу баба-яга захрапела; а Василиса поставила старухины объедки перед куклою, залилась слезами и говорила:
— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню; помоги мне!
Кукла ответила:
— Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера!
Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов глаза потухают; вот мелькнул белый всадник — и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула — перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник — взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. осказках.ру — oskazkax.ru Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилью во всем и остановилась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки.
— Ах ты, избавительница моя! — сказала Василиса куколке. — Ты от беды меня спасла.
— Тебе осталось только обед состряпать, — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. — Состряпай с богом, да и отдыхай на здоровье!
К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник — и совсем стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья — едет баба-яга. Василиса встретила ее.
— Все ли сделано? — спрашивает яга.
— Изволь посмотреть сама, бабушка! — молвила Василиса.
Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
— Ну, хорошо! Потом крикнула’
— Верные мои слуги, сердечные други, смолите мою пшеницу!
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
— Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти его от земли по зернышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему:
— Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее, все будет сделано, Василисушка!
Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
— Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло! Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча.
— Что ж ты ничего не говоришь со мною? — сказала баба-яга. — Стоишь как немая?
— Не смела, — отвечала Василиса, — а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чем.
— Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать, скоро состаришься!
— Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой?
— Это день мой ясный, — отвечала баба-яга.
— Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет; это кто такой?
— Это мое солнышко красное! — отвечала баба-яга.
— А что значит черный всадник, который ‘обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?
— Это ночь моя темная — всё мои слуги верные! Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала.
— Что ж ты еще не спрашиваешь? — молвила баба-яга.
— Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь — состаришься.
— Хорошо, — сказала баба-яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?
— Мне помогает благословение моей матери, — отвечала Василиса.
— Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных.
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
— Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за этим тебя сюда и прислали.
Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп: “Верно, дома, — думает себе, — уж больше в огне не нуждаются”. Но вдруг послышался глухой голос из черепа:
— Не бросай меня, неси к мачехе!
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей — тот погасал, как только входили с ним в горницу.
— Авось твой огонь будет держаться! — сказала мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся — глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло.
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке; живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке:
— Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего; я хоть прясть буду.
Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за тканье приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит:
— Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы; я все тебе смастерю.
Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе:
— Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и ахнула:
— Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому; понесу во дворец.
Пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил:
— Что тебе, старушка, надобно?
— Ваше царское величество, — отвечает старуха, — я принесла диковинный товар; никому, окроме тебя, показать не хочу.
Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно — вздивовался.
— Что хочешь за него? — спросил царь.
— Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла.
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.
Стали царю из того полотна сорочки шить; вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал:
— Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить.
— Не я, государь, пряла и соткала полотно, — сказала старуха, — это работа приемыша моего — девушки.
— Ну так пусть и сошьет она!
Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе.
— Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует.
Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не покладываючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова.
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга; вошел в горницу и говорит:
— Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук.
Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и влюбился в нее без памяти.
— Нет, — говорит он, — красавица моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою.
Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.
Царевна-Несмеяна
Как подумаешь, куда велик божий свет! Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно, и всех их призирает и рассуждает господь. Живут роскошные — и празднуют; живут горемычные — и трудятся; каждому своя доля!
В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна-царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье! Всего много, все есть, чего душа хочет; а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось.
Горько было царю-отцу глядеть на печальную дочь. Открывает он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем.
— Пускай, — говорит, — пытаются развеселить Несмеяну-царевну; кому удастся, тому она будет женою.
Только это вымолвил, как закипел народ у княжьих ворот! Со всех сторон едут, идут — и царевичи и княжевичи, и бояре и дворяне, полковые и простые; начались пиры, полились меды — царевна все не смеется.
На другом конце в своем уголке жил честной работник; по утрам он двор убирал, вечерами скот пас, в беспрестанных был трудах. Хозяин его — человек богатый, правдивый, платою не обижал. Только покончился год, он ему мешок денег на стол:
— Бери,- говорит, — сколько хочешь!
А сам в двери и вышел вон.
Работник подошел к столу и думает: как бы перед богом не согрешить, за труды лишнего не положить? Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть да вздумал водицы напиться, нагнулся в колодезь — денежка у него выкатилась и потонула на дно.
Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил и с досады б руки сложил, а он нет.
— Все, — говорит, — бог посылает; господь знает, кому что давать: кого деньгами наделяет, у кого последние отнимает. Видно, я худо рачил, мало трудился, теперь стану усердней!
И снова за работу — каждое дело в его руках огнем горит!
Кончился срок, минул еще год, хозяин ему мешок денег на стол:
— Бери, — говорит, — сколько душа хочет!
А сам в двери и вышел вон.
Работник опять думает, чтоб бога не прогневить, за труд лишнего не положить; взял денежку, пошел напиться и выпустил невзначай из рук — денежка в колодезь и потонула.
Еще усерднее принялся он за работу: ночь недосыпает, день недоедает. Поглядишь: у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина все бутеет; чья скотина ноги завивает, а его по улице брыкает; чьих коней под гору тащат, а его и в поводу не сдержать. Хозяин разумел, кого благодарить, кому спасибо говорить.
Кончился срок, миновал третий год, он кучу денег на стол:
— Бери, работничек, сколько душа хочет; твой труд, твоя и деньга!
А сам вышел вон.
Берет работник опять одну денежку, идет к колодезю воды испить — глядь: последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что бог его за труды наградил; обрадовался и думает: — Пора мне бел свет поглядеть, людей распознать!
Подумал и пошел куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь:
— Ковалек, дорогой куманек! Дай денежку; я тебе сама пригожусь! Дал ей денежку. Идет лесом, ползет жук:
— Ковалек, дорогой куманек! Дай денежку; я тебе сам пригожусь!
Дал и ему денежку. Поплыл рекой, встретился сом:
— Ковалек, дорогой куманек! Дай денежку; я тебе сам пригожусь!
Он и тому не отказал, последнюю отдал.
Сам пришел в город; там людей, там дверей! Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти — не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром-золотом убраны, у окна Несмеяна-царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и упал он прямо в грязь.
Откуда ни взялся сом с большим усом, за ним жучок-старичок, мышка-стрижка; все прибежали. Ухаживают, ублажают: мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет.
Глядела, глядела на их услуги Несмеяна-царевна и засмеялась.
— Кто, кто развеселил мою дочь? — спрашивает царь. Тот говорит: Я; другой: Я.
— Нет! — сказала Несмеяна-царевна. — Вон этот человек! — И указала на работника.
Тотчас его во дворец, и стал работник перед царским лицом молодец-молодцом! Царь свое царское слово сдержал; что обещал, то и даровал.
Я говорю: не во сне ли это работнику снилось? Заверяют, что нет, истинная правда была,- так надо верить.
Царевна-змея
Ехал как-то казак путем-дорогою и заехал в дремучий лес; в том лесу на проталинке стоит стог сена. Остановился казак отдохнуть немножко, лег около и закурил трубку; курил, курил и не видал, как заронил искру в сено. Сел казак на коня и тронулся в путь; не успел и десяти шагов сделать, как вспыхнуло пламя и весь лес осветило. Оглянулся казак, смотрит — стог сена горит, а в огне стоит красная девица и говорит громким голосом:
— Казак, добрый человек! Избавь меня от смерти.
— Как же тебя избавить? Кругом пламя, нет к тебе подступу.
— Сунь в огонь свою пику, я по ней выберусь.
Казак сунул пику в огонь, а сам от великого жару отвернулся.
Тотчас красная девица оборотилась змеею, влезла на пику, скользнула казаку на шею, обвилась вокруг шеи три раза и взяла хвост в зубы.
Казак испугался; не придумает, что ему делать и как ему быть.
Провещала змея человеческим голосом:
— Не бойся, добрый молодец! Неси меня на шее семь лет да разыскивай оловянное царство, а приедешь в то царство — останься и проживи там еще семь лет безвыходно. Сослужишь эту службу, счастлив будешь!
Поехал казак разыскивать оловянное царство. Много ушло времени, много воды утекло, на исходе седьмого года добрался до крутой горы; на той горе стоит оловянный замок, кругом замка высокая белокаменная стена.
Поскакал казак на гору, перед ним стена раздвинулась, и въехал он на широкий двор. В ту ж минуту сорвалась с его шеи змея, ударилась о сырую землю, обернулась душой-девицей и с глаз пропала — словно ее не было.
Казак поставил своего доброго коня на конюшню, вошел во дворец и стал осматривать комнаты. Всюду зеркала, серебро да бархат, а нигде не видать ни единой души человеческой.
«Эх, — думает казак, — куда я заехал? Кто меня кормить и поить будет? Видно, придется помирать голодною смертью!»
Только подумал, глядь — перед ним стол накрыт, на столе и пить и есть — всего вдоволь; он закусил и выпил и вздумал пойти на коня посмотреть. Приходит в конюшню — конь стоит в стойле да овес ест.
— Ну, это дело хорошее: можно, значит, без нужды прожить.
Долго-долго оставался казак в оловянном замке, и взяла его скука смертная: шутка ли — завсегда один-одинешенек! Не с кем и словечка перекинуть. Вздумалось ему ехать на вольный свет; только куда ни бросится — везде стены высокие, нет ни входу, ни выходу. За досаду то ему показалося, схватил добрый молодец палку, вошел во Дворец и давай зеркала и стекла бить, бархат рвать, стулья ломать, серебро швырять: «Авось-де хозяин выйдет да на волю выпустит!» Нет, никто не является.
Лег казак спать. На другой день проснулся, погулял-походил и вздумал закусить; туда-сюда смотрит — нет ему ничего!
«Эх, — думает, — сама себя раба бьет, коль нечисто жнет! Вот набедокурил вчера, а теперь голодай!»
Только покаялся, как сейчас и еда и питье — все готово!
Прошло три дня; проснулся казак поутру, глянул в окно — у крыльца стоит его добрый конь оседланный. Что бы такое значило? Умылся, оделся, взял свою длинную пику и вышел на широкий двор. Вдруг откуда ни взялась — явилась красная девица:
— Здравствуй, добрый молодец! Семь лет окончилось — избавил ты меня от конечной погибели. Знай же: я королевская дочь. Унес меня Кощей Бессмертный от отца, от матери, хотел взять за себя замуж, да я над ним насмеялася; вот он озлобился и оборотил меня лютой змеею. Спасибо тебе за долгую службу! Теперь поедем к моему отцу; станет он награждать тебя золотой казной и камнями самоцветными, ты ничего не бери, а проси себе бочонок, что в подвале стоит.
— А что за корысть в нем?
— Покатишь бочонок в правую сторону — тотчас дворец явится, покатишь в левую — дворец пропадет.
— Хорошо, — сказал казак. Сел он на коня, посадил с собой и прекрасную королевну; высокие стены сами перед ними пораздвинулись, и поехали они в путь-дорогу.
Долго ли, коротко ли — приезжает казак с королевной к королю.
Король увидал свою дочь, возрадовался, начал благодарствовать и дает казаку полны мешки золота и жемчугу.
Говорит добрый молодец:
— Не надо мне ни злата, ни жемчугу; дай мне на память тот бочоночек, что в подвале стоит.
— Многого хочешь, брат! Ну, да делать нечего: дочь мне всего дороже! За нее и бочонка не жаль. Бери.
Казак взял королевский подарок и отправился по белу свету странствовать.
Ехал-ехал, попадается ему навстречу древний старичок. Просит старик:
— Накорми меня, добрый молодец!
Казак соскочил с лошади, отвязал бочонок, покатил его вправо — в ту же минуту чудный дворец явился. Взошли они оба в расписные палаты и сели за накрытый стол.
— Эй, слуги мои верные! — закричал казак. — Накормите-напоите моего гостя.
Не успел вымолвить — несут слуги целого быка и три котла питья. Начал старик есть да похваливать; съел целого быка, выпил три котла, крякнул и говорит:
— Маловато, да делать нечего! Спасибо за хлеб и за соль.
Вышли из дворца; казак покатил свой бочонок в левую сторону — и дворца как не бывало.
— Давай поменяемся, — говорит старик казаку, — я тебе меч отдам, а ты мне бочонок.
— А что толку в мече?
— Да ведь это меч-саморуб: только стоит махнуть — хоть какая будь сила несметная, всю побьет! Вот видишь — лес растет; хочешь, пробу сделаю?
Тут старик вынул свой меч, махнул им и говорит:
— Ступай, меч-саморуб, поруби дремучий лес!
Меч полетел и ну деревья рубить да в сажени класть; порубил и назад к хозяину воротился. Казак не стал долго раздумывать, отдал старику бочонок, а себе взял меч-саморуб, сел на коня и вздумал к королю вернуться. А под стольный город того короля подошел сильный неприятель; казак увидал рать-силу несметную, махнул на нее мечом:
— Меч-саморуб! Сослужи-ка службу: поруби войско вражее.
Полетели головы… И часу не прошло, как вражьей силы не стало. Король выехал казаку навстречу, обнял его, поцеловал и тут же решил выдать за него замуж прекрасную королевну.
Свадьба была богатая; на той свадьбе и я был, мед пил, по усам текло, во рту не было.
Арысь-поле
У старика была дочь-красавица, жил он с нею тихо и мирно, пока не женился на другой бабе, а та баба была злая ведьма. Невзлюбила она падчерицу, пристала к старику:
- Прогони ее из дому, чтоб я ее и в глаза не видела.
Старик взял да и выдал свою дочку замуж. Живет она с мужем да радуется, и родился у них мальчик.
А ведьма еще пуще злится, зависть ей покоя не дает; улучила она время, обратила свою падчерицу зверем Арысь-поле и выгнала в дремучий лес, а в падчерицыно платье нарядила свою родную дочь и подставила ее вместо стариковой дочери.
Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди — никто обмана не заметил. Только старая мамка одна и смекнула, а сказать боится.
С того самого дня, как только ребенок проголодается, мамка понесет его к лесу и запоет:
- Арысь — поле! Дитя кричит, дитя кричит, пить-есть хочет.
Арысь — поле прибежит, сбросит свою шкурку под колоду, возьмет мальчика, накормит; после наденет опять шкурку и уйдет в лес.
«Куда это мамка с ребенком ходит?» — думает отец. Стал за нею присматривать и увидал, как Арысь-поле прибежала, сбросила с себя шкурку, стала кормить малютку.
Отец подкрался из-за кустов, схватил шкурку и спалил ее.
- Ах, что-то дымом пахнет; никак, моя шкурка горит! — говорит Арысь-поле.
- Нет, — отвечает мамка, — это, верно, дровосеки лес подожгли.
Шкурка сгорела, Арысь — поле приняла прежний вид и рассказала все мужу. Тотчас собрались люди, схватили ведьму и прогнали ее вместе с ее дочерью.
Пузырь, соломинка и лапоть
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть.
Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку.
Лапоть говорит пузырю:
— Пузырь, давай на тебе переплывем!
— Нет, лапоть! Пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перейдем.
Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду.
А пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.
Зимовье зверей
Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран.
— Куда, баран, идешь? — спросил бык.
— От зимы лета ищу, — говорит баран.
— Пойдем со мною!
Вот пошли вместе, попадается им навстречу свинья.
— Куда, свинья, идешь? — спросил бык.
— От зимы лета ищу, — отвечает свинья.
— Иди с нами.
Пошли втроем дальше, навстречу им гусь.
— Куда, гусь, идешь? — спрашивает бык.
— От зимы лета ищу, — отвечает гусь.
— Ну, иди за нами!
Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух.
— Куда, петух, идешь? — спросил бык.
— От зимы лета ищу, — отвечает петух.
— Иди за нами!
Вот они идут путем-дорогою и разговаривают промеж себя:
— Как же, братцы-товарищи! Время подходит холодное, где тепла искать?
Бык и сказывает:
— Ну, давайте избу строить, а то, чего доброго, и впрямь зимою замерзнем.
Баран говорит:
— У меня шуба тепла — вишь какая шерсть! Я и так перезимую.
Свинья говорит:
— А по мне хоть какие морозы — я не боюсь: зароюсь в землю и без избы прозимую.
Гусь говорит:
— А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь, меня никакой холод не возьмет; я и так прозимую.
Петух говорит:
— А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую!
Бык видит — дело плохо, надо одному хлопотать.
— Ну, — говорит, — вы как хотите, а я стану избу строить.
Выстроил себе избушку и живет в ней. Вот пришла зима холодная, стали пробирать морозы; баран просится у быка:
— Пусти, брат, погреться.
— Нет, баран, у тебя шуба тепла; ты и так перезимуешь. Не пущу!
— А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твоей избы бревно; тебе же будет холоднее.
Бык думал-думал: «Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит», — и пустил барана.
Вот свинья прозябла, пришла к быку:
— Пусти, брат, погреться.
— Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь.
А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою избу сворочу.
Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью.
Тут пришли к быку гусь и петух:
— Пусти, брат, к себе погреться.
— Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно постелешь, другим оденешься; так и прозимуете!
— А не пустишь, — говорит гусь, — так я весь мох из твоих стен повыщиплю, тебе же холоднее будет.
— Не пустишь? — говорит петух. — Так я взлечу на чердак и всю землю с потолка сгребу, тебе же холоднее будет.
Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся и петуха.
Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать.
Услыхала лиса, что петух песенки распевает, захотелось ей петушиным мясом полакомиться, да как достать его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку и сказала:
— Ну, любезные куманьки! Я нашла для всех поживу: для тебя, медведь, — быка, для тебя, волк, — барана, а для себя — петуха.
— Хорошо, кумушка! — говорят медведь и волк. — Мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же приколем да поедим!
Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку:
— Иди ты вперед!
А волк кричит:
— Нет, ты посильнее меня, иди ты вперед!
Ладно, пошел медведь; только что в двери — бык наклонил голову и припер его рогами к стенке. А баран разбежался, да как бацнет медведя в бок и сшиб его с ног. А свинья рвет и мечет в клочья. А гусь подлетел — глаза щиплет. А петух сидит на брусу и кричит:
— Подайте сюда, подайте сюда!
Волк с лисой услыхали крик да бежать!
Вот медведь рвался, рвался, насилу вырвался, догнал волка и рассказывает:
— Ну, что было мне! Этакого страху отродясь не видывал. Только что вошел я в избу, откуда ни возьмись, баба с ухватом на меня… Так к стене и прижала! Набежало народу пропасть: кто бьет, кто рвет, кто шилом в глаза колет. А еще один на брусу сидел да все кричал: «Подайте сюда, подайте сюда!» Ну, если б подали к нему, кажись бы, и смерть была!
Читайте также — Заманили в сказку
Горе
В одной деревушке жили два мужика, два родных брата: один был бедный, другой – богатый. Богач переехал на житье в город, выстроил себе большой дом и записался в купцы; а у бедного иной раз нет ни куска хлеба, а ребятишки – мал мала меньше – плачут да есть просят.
С утра до вечера бьется мужик как рыба об лед, а все ничего нет. Говорит он однова своей жене:
– Дай-ка пойду в город, попрошу у брата: не поможет ли чем?
Пришел к богатому:
– Ах, братец родимый! Помоги сколько-нибудь моему горю: жена и дети без хлеба сидят, по целым дням голодают.
– Проработай у меня эту неделю, тогда и помогу!
Что делать? Принялся бедный за работу: и двор чистит, и лошадей холит, и воду возит, и дрова рубит. Через неделю дает ему богатый одну ковригу хлеба:
– Вот тебе за труды!
– И за то спасибо! – сказал бедный, поклонился и хотел было домой идти.
– Постой! Приходи-ка завтра ко мне в гости и жену приводи: ведь завтра мои именины.
– Эх, братец, куда мне? Сам знаешь: к тебе придут купцы в сапогах да в шубах, а я в лаптях хожу да в худеньком сером кафтанишке.
– Ничего, приходи! И тебе будет место.
– Хорошо, братец, приду.
Воротился бедный домой, отдал жене ковригу и говорит:
– Слушай, жена! Назавтра нас с тобой в гости звали.
– Как в гости? Кто звал?
– Брат. Он завтра именинник.
– Ну что ж, пойдем.
Наутро встали и пошли в город; пришли к богатому, поздравили его и уселись на лавку. За столом уж много именитых гостей сидело; всех их угощает хозяин на славу, а про бедного брата и его жену и думать забыл – ничего им не дает; они сидят да только посматривают, как другие пьют да едят.
Кончился обед; стали гости из-за стола вылазить да хозяина с хозяюшкой благодарить, и бедный тоже – поднялся с лавки и кланяется брату в пояс. Гости поехали домой пьяные, веселые, шумят, песни поют.
А бедный идет назад с пустым брюхом.
– Давай-ка, – говорит жене, – и мы запоем песню!
– Эх ты, дурак! Люди поют оттого, что сладко поели да много выпили; а ты с чего петь вздумал?
– Ну, все-таки у брата на именинах был; без песни мне стыдно идти. Как я запою, так всякий подумает, что и меня угостили…
– Ну, пой, коли хочешь, а я не стану!
Мужик запел песню, и послышалось ему два голоса; он перестал и спрашивает жену:
– Это ты мне подсобляла петь тоненьким голоском?
– Что с тобой? Я вовсе и не думала.
– Так кто же?
– Не знаю! – сказала баба. – А ну запой, я послушаю.
Он опять запел; поет-то один, а слышно два голоса; остановился и спрашивает:
– Это ты, Горе, мне петь пособляешь?
Горе отозвалось:
– Да, хозяин! Это я пособляю.
– Ну, Горе, пойдем с нами вместе.
– Пойдем, хозяин! Я теперь от тебя не отстану.
Пришел мужик домой, а Горе зовет его в кабак. Тот говорит:
– У меня денег нет!
– Ох ты, мужичок! Да на что тебе деньги! Видишь, на тебе полушубок надет, а на что он? Скоро лето будет, все равно носить не станешь! Пойдем в кабак, да полушубок побоку…
Мужик и Горе пошли в кабак и пропили полушубок.
На другой день Горе заохало, с похмелья голова болит, и опять зовет хозяина винца испить.
– Денег нет, – говорит мужик.
– Да на что нам деньги? Возьми сани да телегу – с нас и довольно!
Нечего делать, не отбиться мужику от Горя: взял он сани и телегу, потащил в кабак и пропил вместе с Горем.
Наутро Горе еще больше заохало, зовет хозяина опохмелиться; мужик пропил и борону и соху.
Месяца не прошло, как он все спустил; даже избу свою соседу заложил, а деньги в кабак снес.
Горе опять пристает к нему:
– Пойдем да пойдем в кабак!
– Нет, Горе! Воля твоя, а больше тащить нечего.
– Как нечего? У твоей жены два сарафана: один оставь, а другой пропить надобно.
Мужик взял сарафан, пропил и думает: «Вот когда чист! Ни кола, ни двора, ни на себе, ни на жене!»
Поутру проснулось Горе, видит, что у мужика нечего больше взять, и говорит:
– Хозяин!
– Что, Горе?
– А вот что: ступай к соседу, попроси у него пару волов с телегою.
Пошел мужик к соседу.
– Дай, – просит, – на времечко пару волов с телегою; я на тебя хоть неделю за то проработаю.
– На что тебе?
– В лес за дровами съездить.
– Ну, возьми; только невелик воз накладывай.
– И, что ты, кормилец!
Привел пару волов, сел вместе с Горем на телегу и поехал в чистое поле.
– Хозяин, – спрашивает Горе, – знаешь ли ты на этом поле большой камень?
– Как не знать!
– А когда знаешь, поезжай прямо к нему.
Приехали они на то место, остановились и вылезли из телеги.
Горе велит мужику поднимать камень. Мужик поднимает, Горе пособляет; вот подняли, а под камнем яма – полна золотом насыпана.
– Ну, что глядишь? – сказывает Горе мужику. – Таскай скорей в телегу.
Мужик принялся за работу и насыпал телегу золотом, все из ямы повыбрал до последнего червонца; видит, что уж больше ничего не осталось, и говорит:
– Посмотри-ка, Горе, никак там еще деньги остались?
Горе наклонилось:
– Где? Я что-то не вижу!
– Да вон в углу светятся!
– Нет, не вижу.
– Полезай в яму, так и увидишь.
Горе полезло в яму; только что опустилось туда, а мужик и накрыл его камнем.
– Вот этак-то лучше будет! – сказал мужик. – Не то коли взять тебя с собою, так ты, Горе горемычное, хоть не скоро, а все же пропьешь и эти деньги!
Приехал мужик домой, свалил деньги в подвал, волов отвел к соседу, стал думать, как бы себя устроить. Купил лесу, выстроил большие хоромы и зажил вдвое богаче своего брата.
Долго ли, коротко ли – поехал он в город просить своего брата с женой к себе на именины.
– Вот что выдумал! – сказал ему богатый брат. – У самого есть нечего, а ты еще именины справляешь!
– Ну, когда-то было нечего есть, а теперь, слава богу, имею не меньше твоего: приезжай – увидишь.
– Ладно, приеду!
На другой день богатый брат собрался с женою и поехали на именины: смотрят, а у бедного-то голыша хоромы новые, высокие, не у всякого купца такие есть!
Мужик угостил их, употчевал всякими наедками, напоил всякими медами и винами. Спрашивает богатый у брата:
– Скажи, пожалуй, какими судьбами разбогател ты?
Мужик рассказал ему по чистой совести, как привязалось к нему Горе горемычное, как пропил он с Горем в кабаке все свое добро до последней нитки: только и осталось, что душа в теле; как Горе указало ему клад в чистом поле, как он забрал этот клад да от Горя избавился.
Завистно стало богатому.
«Дай, – думает, – поеду в чистое поле, подниму камень да выпущу Горе, – пусть оно дотла разорит брата, чтоб не смел передо мной своим богатством чваниться».
Отпустил свою жену домой, а сам в поле погнал; подъехал к большому камню, своротил его в сторону и наклоняется посмотреть, что там под камнем? Не успел порядком головы нагнуть, – а уж Горе выскочило и уселось ему на шею.
– А, – кричит, – ты хотел меня здесь уморить! Нет, теперь я от тебя ни за что не отстану.
– Послушай, Горе! – сказал купец. – Вовсе не я засадил тебя под камень…
– А кто же, как не ты?
– Это мой брат тебя засадил, а я нарочно пришел, чтоб тебя выпустить.
– Нет, врешь! Один раз обманул, в другой не обманешь!
Крепко насело Горе богатому купцу на шею; привез он его домой, и пошло у него все хозяйство вкривь да вкось. Горе уж с утра за свое принимается: каждый день зовет купца опохмелиться; много добра в кабак ушло.
«Этак несходно жить! – думает про себя купец. – Кажись, довольно потешил я Горе; пора б и расстаться с ним, да как?»
Думал, думал и выдумал: пошел на широкий двор, обтесал два дубовых клина, взял новое колесо и накрепко вбил клин с одного конца во втулку. Приходит к Горю:
– Что ты, Горе, все на боку лежишь?
– А что ж мне больше делать?
– Что делать! Пойдем на двор в гулючки играть.
А Горе и радо; вышли на двор. Сперва купец спрятался – Горе сейчас его нашло, после того черед Горю прятаться.
– Ну, – говорит, – меня не скоро найдешь! Я хоть в какую щель забьюсь!
– Куда тебе! – отвечает купец. – Ты в это колесо не влезешь, а то – в щель!
– В колесо не влезу? Смотри-ка, еще как спрячусь!
Влезло Горе в колесо; купец взял да и с другого конца забил во втулку дубовый клин, поднял колесо и забросил его вместе с Горем в реку.
Горе потонуло, а купец стал жить по-старому, по-прежнему.
Горшеня
Горшеня едет-дремлет с горшками. Догнал его государь Иван Васильевич:
– Мир по дороге!
Горшеня оглянулся:
– Благодарим, просим со смиреньем.
– Знать, вздремал?
– Вздремал, великий государь! Не бойся того, кто песни поет, а бойся того, кто дремлет.
– Экой ты смелый, горшеня! Люблю эдаких. Ямщик! Поезжай тише. А что, горшенюшка, давно ты этим ремеслом кормишься?
– Сызмолоду, да вот и середовой стал.
– Кормишь детей?
– Кормлю, ваше царское величество! И не пашу, и не кошу, и не жну, и морозом не бьет.
– Хорошо, горшеня, но все-таки на свете не без худа.
– Да, ваше царское величество! На свете есть три худа.
– А какие три худа, горшенюшка?
– Первое худо – худой шабер, а второе худо – худая жена, а третье худо – худой разум.
– А скажи мне, которое худо всех хуже?
– От худого шабра уйду, от худой жены тоже можно, как будет с детьми жить; а от худого разума не уйдешь – все с тобой.
– Так, верно, горшеня! Ты мозголов. Слушай! Ты для меня, а я для тебя. Прилетят гуси с Руси, перышки ощиплешь, а по правильному покинешь!
– Годится, так покину, как придет! А то и наголо.
– Ну, горшеня, постой на час! Я погляжу твою посуду.
Горшеня остановился, начал раскладывать товар. Государь стал глядеть, и показались ему три тарелочки глиняны.
– Ты наделаешь мне эдаких?
– Сколько угодно вашему царскому величеству?
– Возов десяток надо.
– Много ли дашь времени?
– Месяц.
– Можно и в две недели представить, и в город. Я для тебя, ты для меня.
– Спасибо, горшенюшка!
– А ты, государь, где будешь в то время, как я представлю товар в город?
– Буду в дому у купца в гостях.
Государь приехал в город и приказал, чтобы на всех угощениях не было посуды ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни деревянной, а была бы все глиняная.
Горшеня кончил заказ царский и привез товар в город. Один боярин выехал на торжище к горшене и говорит ему:
– Бог за товаром, горшеня!
– Просим покорно.
– Продай мне весь товар.
– Нельзя, по заказу.
– А что тебе, ты бери деньги – не повинят из этого, коли не дал задатку под работу. Ну, что возьмешь?
– А вот что: каждую посудину насыпать полну денег.
– Полно, горшенюшка, много!
– Ну хорошо: одну насыпать, а две отдать – хочешь?
И сладили.
– Ты для меня, а я для тебя.
Насыпают да высыпают. Сыпали, сыпали – денег не стало, а товару еще много. Боярин, видя худо, съездил домой, привез еще денег. Опять сыплют да сыплют – товару все много.
– Как быть, горшенюшка?
– Ну что? Нечего делать, я тебя уважу, только знаешь что? Свези меня на себе до этого двора – отдам и товар и все деньги.
Боярин мялся, мялся: жаль и денег, жаль и себя; но делать нечего – сладили. Выпрягли лошадь, сел мужик, повез боярин: в споре дело. Горшеня запел песню, боярин везет да везет.
– До коих же мест везти тебя?
– Вот до этого двора и до этого дому.
Весело поет горшеня, против дому он высоко поднял. Государь услышал, выбег на крыльцо – признал горшеню.
– Ба! Здравствуй, горшенюшка, с приездом!
– Благодарю, ваше царское величество.
– Да на чем ты едешь?
– На худом-то разуме, государь.
– Ну, мозголов, горшеня, умел товар продать. Боярин, скидай строевую одежду и сапоги, а ты, горшеня, – кафтан и разувай лапти; ты их обувай, боярин, а ты, горшеня, надевай строевую одежду. Умел товар продать! Немного послужил, да много услужил. А ты не умел владеть боярством. Ну, горшеня, прилетали гуси с Руси?
– Прилетали.
– Перышки ощипал, а по правильному покинул?
– Нет, наголо, великий государь, – всего ощипал.
Иванушка-дурачок

В одно время наварила старуха аржаных клецок и говорит дураку:
– На-ка, снеси эти клецки братьям; пусть поедят.
Налила полный горшок и дала ему в руки; побрел он к братьям.
День был солнечный; только вышел Иванушка за околицу, увидел свою тень сбоку и думает: «Что это за человек? Со мной рядом идет, ни на шаг не отстает: верно, клецок захотел?»
И начал он бросать на свою тень клецки, так все до единой и повыкидал; смотрит, а тень все сбоку идет.
– Эка ненасытная утроба! – сказал дурачок с сердцем и пустил в нее горшком – разлетелись черепки в разные стороны.
Вот приходит с пустыми руками к братьям; те его спрашивают:
– Ты, дурак, зачем?
– Вам обед принес.
– Где же обед? Давай живее.
– Да вишь, братцы, привязался ко мне дорогою незнамо какой человек да все и поел!
– Какой такой человек?
– Вот он! И теперь рядом стоит!
Братья ну его ругать, бить, колотить; отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли на деревню обедать.
Принялся дурачок пасти; видит, что овцы разбрелись по полю, давай их ловить да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза выдолбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе радехонек, словно дело сделал.
Братья пообедали, воротились в поле.
– Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?
– Да почто им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались, а я и придумал: стал их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать – во как умаялся!
– Постой, еще не так умаешься! – говорят братья и давай угощать его кулаками; порядком-таки досталось дураку на орехи!
Ни много ни мало прошло времени; послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка: и стол купил, и ложек, и чашек, и соли; целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка была такая, знать, неудалая, везет – не везет! «А что, – думает себе Иванушка, – ведь у лошади четыре ноги, и у стола тоже четыре, так стол-от и сам добежит».
Взял стол и выставил на дорогу.
Едет-едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним да все каркают. «Знать, сестрицам поесть-покушать охота, что так раскричались!» – подумал дурачок. Выставил блюда с яствами наземь и начал потчевать:
– Сестрицы-голубушки! Кушайте на здоровье.
А сам все вперед да вперед подвигается. Едет Иванушка перелеском; по дороге все пни обгорелые. «Эх, – думает, – ребята-то без шапок; ведь озябнут, сердечные!» Взял понадевал на них горшки да корчаги.
Вот доехал Иванушка до реки, давай лошадь поить, а она не пьет. «Знать, без соли не хочет!» – и ну солить воду. Высыпал полон мешок соли, лошадь все не пьет.
– Что ж ты не пьешь, волчье мясо? Разве задаром я мешок соли высыпал?
Хватил ее поленом, да прямо в голову – и убил наповал.
Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет – ложки назади так и брякают: бряк, бряк, бряк! А он думает, что ложки-то говорят: «Иванушка-дурак!» – бросил их и ну топтать да приговаривать:
– Вот вам Иванушка-дурак! Вот вам Иванушка-дурак! Еще вздумали дразнить, негодные!
Воротился домой и говорит братьям:
– Все искупил, братики!
– Спасибо, дурак, да где ж у тебя закупки-то?
– А стол-от бежит, да, знать, отстал, из блюд сестрицы кушают, горшки да корчаги ребятам в лесу на головы понадевал, солью-то пойло лошади посолил, а ложки дразнятся – так я их на дороге покинул.
– Ступай, дурак, поскорее! Собери все, что разбросал по дороге.
Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и надел на батог корчаг с дюжину всяких – и больших и малых. Несет домой. Отколотили его братья; поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать.
Слушает дурак, а пиво в кадке так и бродит, так и бродит.
– Пиво, не броди! Дурака не дразни! – говорит Иванушка.
Нет, пиво не слушается; взял да и выпустил все из кадки, сам сел в корыто, по избе разъезжает да песенки распевает.
Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать.
На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых; Иванушка и ну кричать:
– Садят меня на воеводство судить да рядить, а я ни судить, ни рядить не умею!
– Постой, дурак, – сказал барин, – я умею и судить и рядить; вылезай из куля!
Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду.
Пришли братья, спустили куль под лед и слушают; а в воде так и буркает.
– Знать, бурка ловит! – проговорили братья и побрели домой.
Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка, едет да прихвастывает:
– Вот-ста каких поймал я лошадушек! А еще остался там сивко – такой славный!
Завидно стало братьям, говорят дураку:
– Зашивай теперь нас в куль да спускай поскорей в прорубь! Не уйдет от нас сивко…
Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать да братьев поминать.
Был у Иванушки колодец, в колодце рыба елец, а моей сказке конец.
Читайте также — Читайте сказки!
Колобок
Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик:
– Испеки мне, старая, Колобок.
– Да из чего испечь-то? Муки нет.
– Эх, старуха! По амбару помети, по сусечкам поскреби – вот и наберется. Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала Колобок, изжарила его в масле и положила на окно простынуть.
Надоело Колобку лежать: он и покатился с окна на лавку, с лавки на пол да к двери, прыг через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, а там и за ворота, дальше и дальше.
Катится Колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
– Колобок, Колобок! Я тебя съем!
– Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою.
Заяц уши поднял, а Колобок запел:
Я Колобок, Колобок!
По амбару метен,
По сусечкам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,
На окошке стужен,
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца,
Не хитро уйти.
И покатился Колобок дальше – только его заяц и видел.
Катится Колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему Серый Волк:
– Колобок, Колобок! Я тебя съем!
– Не ешь меня, Серый Волк: я тебе песенку спою.
И Колобок запел:
Я Колобок, Колобок!
По амбару метен,
По сусечкам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел.
От тебя, волка,
Не хитро уйти.
Покатился Колобок дальше – только его волк и видел.
Катится Колобок по лесу, а навстречу ему медведь идет, хворост ломает, кусты к земле гнет.
– Колобок, Колобок, я тебя съем!
– Ну где тебе, косолапому, съесть меня! Послушай лучше мою песенку.
Колобок запел, а Миша и уши развесил:
Я Колобок, Колобок!
По амбару метен,
По сусечкам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От тебя, медведь,
Полгоря уйти.
И покатился Колобок – медведь только вслед ему посмотрел.
Катится Колобок, а навстречу ему лиса:
– Здравствуй, Колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!
Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку, а лиса слушает да все ближе подкрадывается:
Я Колобок, Колобок!
По амбару метен,
По сусечкам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел,
От тебя, лиса,
Не хитро уйти.
– Какая славная песенка! – сказала лиса. – Да то беда, голубчик, что стара я стала – плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку да пропой еще разочек.
Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, прыгнул лисе на морду да и запел:
Я Колобок, Колобок!..
А лиса его – гам! – и съела.
Кот и лиса
Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! Надоел он до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу – пускай пропадает.
Кот ходил, ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть – пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта – и опять на чердак, и горя ему мало!
Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и дивится: «Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала!»
Поклонилась лиса коту и спрашивает:
– Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?
А кот вскинул шерсть и отвечает:
– Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам воеводой.
– Ах, Котофей Иванович! – говорит лиса. – Не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости.
Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала потчевать разной дичинкой, а сама все спрашивает:
– Котофей Иванович, женат ты или холост?
– Холост.
– И я, лисица, – девица. Возьми меня замуж!
Кот согласился, и начался у них пир да веселье.
На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома.
Бегала, бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк:
– Стой, лиса! Отдай утку!
– Нет, не отдам!
– Ну, я сам отниму.
– А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!
– А кто такой Котофей Иванович?
– Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович! Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена.
– Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?
– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему не по нраву придется, сейчас съест! Ты приготовь барана да принеси ему на поклон: барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе туго придется!
Волк побежал за бараном, а лиса – домой.
Идет лиса, и повстречался ей медведь:
– Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне!
– Ступай-ка ты, медведь, подобру-поздорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст!
– А кто такой Котофей Иванович?
– А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы – Котофея Ивановича – жена.
– А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты ступай приготовь быка да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется!
Медведь пошел за быком, а лиса – домой.
Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит раздумывает. Смотрит – и медведь лезет с быком.
– Здравствуй, Михайло Иванович!
– Здравствуй, брат Левон! Что, не видал лисицы с мужем?
– Нет, Михайло Иванович, сам их дожидаю.
– А ты сходи-ка к ним, позови, – говорит медведь волку.
– Нет, не пойду, Михайло Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.
– Нет, не пойду, брат Левон. Я мохнат, косолап, куда мне!
Вдруг – откуда ни возьмись – бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него:
– Поди сюда, косой!
Заяц так и присел, уши поджал.
– Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор: сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михайло Иванович с братом Левоном Ивановичем давно уже готовы, ждут тебя-де с мужем, с Котофеем Ивановичем, хотят поклониться бараном да быком.
Заяц пустился к лисе во всю прыть. А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться.
Медведь говорит:
– Я полезу на сосну.
А волк ему говорит:
– А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь.
Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой.
Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе:
– Медведь Михайло Иванович с волком Левоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном.
– Ступай, косой, сейчас будем.
Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
– Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький!
Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами и лапами, а сам мурчит, будто сердится:
– May, мау!..
Медведь опять говорит волку:
– Невелик, да прожорлив! Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется!
Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется – и прямо волку в морду вцепился когтями.
Волк перепугался, вскочил и давай утекать.
А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
«Ну, – думает медведь, – увидел он меня!»
Слезать-то было некогда, вот медведь как шмякнется с дерева обземь, все печенки отбил, вскочил – да наутек.
А лисица вслед кричит:
– Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!..
С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.
Лиса и дрозд
Дрозд на дереве гнездышко свил, яички снес и вывел детенышей. Узнала про это лисица. Прибежала и – тук-тук хвостом по дереву. Выглянул дрозд из гнезда, а лиса ему:
– Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!
Дрозд испугался и стал просить, стал лису молить:
– Лисанька-матушка, дерева не руби, детушек моих не губи! Я тебя пирогами да медом накормлю.
– Ну, накормишь пирогами да медом – не буду дерева рубить!
– Вот пойдем со мной на большую дорогу.
И отправились лиса и дрозд на большую дорогу: дрозд летит, лиса вслед бежит.
Увидел дрозд, что идет старуха с внучкой, несут корзину пирогов и кувшин меду.
Лисица спряталась, а дрозд сел на дорогу и побежал, будто лететь не может: взлетит от земли да и сядет, взлетит да и сядет.
Внучка говорит бабушке:
– Давай поймаем эту птичку!
– Да где нам с тобой поймать!
– Как-нибудь поймаем. У ней, видать, крыло подбито. Уж больно красивая птичка!
Старуха с внучкой поставили корзину да кувшин на землю и побежали за дроздом.
Отвел их дрозд от пирогов да от меду. А лисица не зевала: вволю пирогов да меду наелась и в запас припрятала.
Взвился дрозд и улетел в свое гнездо.
А лиса тут как тут – тук-тук хвостом по дереву:
– Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!
Дрозд высунулся из гнезда и ну лисицу просить, ну лисицу молить:
– Лисанька-матушка, дерево не руби, детушек моих не губи! Я тебя пивом напою.
– Ну, пойдем скорей. Я жирного да сладкого наелась, мне пить хочется!
Полетел опять дрозд на дорогу, а лисица вслед бежит.
Дрозд видит – едет мужик, везет бочку пива. Дрозд к нему: то на лошадь сядет, то на бочку. До того рассердил мужика, тот захотел убить его. Сел дрозд на гвоздь, а мужик как ударит топором – и вышиб из бочки гвоздь. Сам побежал догонять дрозда. А пиво из бочки на дорогу льется. Лиса напилась сколько хотела, пошла, песни запела.
Улетел дрозд в свое гнездо. Лисица опять тут как тут – тук-тук хвостом по дереву:
– Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?
– Накормил!
– Напоил ты меня?
– Напоил!
– Теперь рассмеши меня, а то дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!
Повел дрозд лису в деревню. Видит – старуха корову доит, а рядом старик лапти плетет. Дрозд сел старухе на плечо. Старик и говорит:
– Старуха, ну-ка не шевелись, я убью дрозда! – И ударил старуху по плечу, а в дрозда не попал.
Старуха упала, подойник с молоком опрокинула.
Вскочила старуха и давай старика ругать.
Долго лисица смеялась над глупым стариком.
Улетел дрозд в свое гнездо. Не успел детей накормить, лисица опять хвостом по дереву: тук-тук-тук!
– Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?
– Накормил!
– Напоил ты меня?
– Напоил!
– Рассмешил ты меня?
– Рассмешил!
– Теперь напугай меня!
Рассердился дрозд и говорит:
– Закрой глаза, беги за мной!
Полетел дрозд, летит-покрикивает, а лисица бежит за ним – глаз не открывает. Привел дрозд лису прямо на охотников.
– Ну, теперь, лиса, пугайся!
Лиса открыла глаза, увидела собак – и наутек. А собаки – за ней. Едва добралась до своей норы.
Залезла в нору, отдышалась маленько и начала спрашивать:
– Глазки, глазки, что вы делали?
– Мы смотрели, чтобы собаки лисаньку не съели.
– Ушки, ушки, что вы делали?
– Мы слушали, чтобы собаки лисаньку не скушали.
– Ножки, ножки, что вы делали?
– Мы бежали, чтобы собаки лисаньку не поймали.
– А ты, хвостище, что делал?
– Я, хвостище, по пням, по кустам, по колодам цеплял да тебе бежать мешал.
Рассердилась лисица на хвост и высунула его из норы:
– Нате, собаки, ешьте мой хвост!
Собаки ухватили лису за хвост и вытащили ее из норы.
Никита Кожемяка
Встарые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу, потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет записочку собачонке на шею и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и ответ принесет.
Вот раз царь и царица пишут царевне: узнай-де от змея, кто его сильней. Стала царевна от змея допытываться и допыталась.
– Есть, – говорит змей, – в Киеве Никита Кожемяка – тот меня сильней.
Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку: есть-де в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить.
Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом двенадцать воловьих кож. Как увидел Никита царя – испугался: руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все двенадцать кож. Рассердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали, и, сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел.
Вот и придумал царь с царицей собрать пять тысяч малолетних сирот – осиротил их лютый змей, – и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он триста пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел.
Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит.
– Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу! – сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать.
Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться, вышел в чистое поле.
Долго ли, коротко ли они билися, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту:
– Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас с тобою никого на свете нет. Разделим весь свет поровну: ты будешь владеть в одной половине, а я – в другой.
– Хорошо, – сказал Никита. – Надо же прежде межу проложить, чтобы потом спору промеж нас не было.
Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать; глубиной та борозда в две сажени с четвертью. Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею:
– Землю мы разделили – теперь давай море делить, чтобы о воде промеж нас спору не вышло.
Стали воду делить – вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил.
Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять, не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери.
Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна; стоит она валом сажени на две высотою: оставляют ее на память о Никите Кожемяке.
Петушок – золотой гребешок
Жили-были кот, дрозд да Петушок – Золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют.
Уходят – строго наказывают:
– Мы пойдем далеко, а ты оставайся домовничать, да голоса не подавай; когда придет лиса, в окошко не выглядывай.
Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет, прибежала к избушке, села под окошко и запела:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок и выставил головку в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок:
Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд, спасите меня!..
Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка.
В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают:
– Ну, теперь, петух, не выглядывай в окошко, мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок, сидит помалкивает. А лиса – опять:
Бежали ребята,
Рассыпали пшеницу,
Курицы клюют,
Петухам не дают…
Петушок и выставил головку в окошко:
– Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору.
Закричал петушок:
Несет меня лиса
За темные леса,
За быстрые реки,
За высокие горы…
Кот и дрозд, спасите меня!..
Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит… Догнали лису – кот дерет, дрозд клюет, и отняли петушка.
Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строго-настрого наказывают петушку:
– Не слушай лисы, не выглядывай в окошко, мы еще дальше уйдем, не услышим твоего голоса.
И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса – тут как тут: села под окошечко и поет:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Петушок сидит, помалкивает. А лиса – опять:
Бежали ребята,
Рассыпали пшеницу,
Курицы клюют,
Петухам не дают…
Петушок все помалкивает. А лиса – опять:
Люди бежали,
Орехов насыпали,
Куры-то клюют,
Петухам не дают…
Петушок и выставил головку в окошко:
– Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти плотно, понесла в свою нору, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы…
Сколько петушок ни кричал, ни звал – кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись домой – петушка-то нет.
Побежали кот и дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, дрозд летит… Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать:
Трень, брень, гусельцы,
Золотые струночки…
Еще дома ли Лисафья-кума,
Во своем ли теплом гнездышке?
Лисица слушала, слушала и думает: «Дай-ка посмотрю – кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает».
Взяла да и вылезла из норы. Кот и дрозд ее схватили – и давай бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла.
Взяли они петушка, посадили в лукошко и принесли домой.
И с тех пор стали жить да быть, да и теперь живут.
Сивка – Бурка
Было у старика трое сыновей: двое умных, а третий Иванушка-дурачок; день и ночь дурачок на печи.
Посеял старик пшеницу, и выросла пшеница богатая, да повадился ту пшеницу кто-то по ночам толочь и травить. Вот старик и говорит детям:
– Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь поочередно, поймайте мне вора.
Приходит первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать: забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит: всю ночь-де не спал, иззяб, а вора не видал.
На вторую ночь пошел средний сын и также всю ночку проспал на сеновале.
На третью ночь приходит черед дураку идти. Взял он аркан и пошел. Пришел на межу и сел на камень: сидит не спит, вора дожидается.
В самую полночь прискакал на пшеницу разношерстный конь: одна шерстинка золотая, другая – серебряная; бежит – земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть: не столько ест, сколько топчет.
Подкрался дурак на четвереньках к коню и разом накинул ему на шею аркан. Рванулся конь изо всех сил – не тут-то было. Дурак уперся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака молить:
– Отпусти ты меня, Иванушка, а я тебе великую сослужу службу!
– Хорошо, – отвечает Иванушка-дурачок. – Да как я тебя потом найду?
– Выйди за околицу, – говорит конь, – свистни три раза и крикни: «Сивка-Бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!» – я тут и буду.
Отпустил коня Иванушка-дурачок и взял с него слово – пшеницы больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка домой.
– Ну, что, дурак, видел? – спрашивают братья.
– Поймал я, – говорит Иванушка, – разношерстного коня. Пообещался он больше не ходить на пшеницу – вот я его и отпустил.
Посмеялись вволю братья над дураком, только уж с этой ночи никто пшеницы не трогал.
Скоро после этого стали по деревням и городам бирючи от царя ходить, клич кликать: собирайтесь-де, бояре и дворяне, купцы и мещане и простые крестьяне, все к царю на праздник, на три дня; берите с собой лучших коней; и кто на своем коне до царевнина терема доскачет и с царевниной руки перстень снимет, за того царь царевну замуж отдаст.
Стали собираться на праздник и Иванушкины братья; не то чтобы самим скакать, а хоть на других посмотреть. Просится и Иванушка с ними.
– Куда тебе, дурак! – говорят братья. – Людей, что ли, хочешь пугать? Сиди себе на печи да золу пересыпай.
Уехали братья; а Иванушка-дурачок взял у невесток лукошко и пошел грибы брать. Вышел Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул три раза и крикнул:
– Сивка-Бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!
Конь бежит – земля дрожит, из ушей пламя, из ноздрей дым столбом валит. Прибежал – и стал конь перед Иванушкой как вкопанный.
– Ну, – говорит, – влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай.
Влез Иванушка к коню в правое ухо, а в левое вылез – и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать.
Сел тогда Иванушка на коня и поскакал на праздник к царю. Прискакал на площадь перед дворцом, видит – народу видимо-невидимо; а в высоком терему, у окна, царевна сидит: на руке перстень – цены нет, собою красавица из красавиц. Никто до нее скакать и не думает: никому нет охоты наверняка шею ломать.
Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам, осерчал конь, прыгнул – только на три венца до царевнина окна не допрыгнул.
Удивился народ, а Иванушка повернул коня и поскакал назад. Братья его не скоро посторонились, так он их шелковой плеткой хлестнул. Кричит народ: «Держи, держи его!» – а Иванушкин уж и след простыл.
Выехал Иван из города, слез с коня, влез к нему в левое ухо, а в правое вылез и стал опять прежним Иванушкой-дурачком. Отпустил Иванушка коня, набрал лукошко мухоморов и принес домой.
– Вот вам, хозяюшки, грибков, – говорит.
Рассердились тут невестки на Ивана:
– Что ты, дурак, за грибы принес? Разве тебе одному их есть?
Усмехнулся Иван и опять залез на печь.
Пришли братья домой и рассказывают отцу, как они в городе были и что видели; а Иванушка лежит на печи да посмеивается.
На другой день старшие братья опять на праздник поехали, а Иванушка взял лукошко и пошел за грибами. Вышел в поле, свистнул, гаркнул:
– Сивка-Бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!
Прибежал конь и стал перед Иванушкой как вкопанный.
Перерядился опять Иван и поскакал на площадь. Видит – на площади народу еще больше прежнего; все на царевну любуются, а прыгать никто и не думает; кому охота шею ломать! Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бедрам; осерчал конь, прыгнул – и только на два венца до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка коня, хлестнул братьев, чтоб посторонились, и ускакал.
Приходят братья домой, а Иванушка уже на печи лежит, слушает, что братья рассказывают, и посмеивается.
На третий день опять братья поехали на праздник, прискакал и Иванушка. Стегнул он своего коня плеткой. Осерчал конь пуще прежнего: прыгнул – и достал до окна. Иванушка поцеловал царевну в сахарные уста, схватил с ее пальца перстень, повернул коня и ускакал, не позабывши братьев плеткой огреть. Тут уж и царь и царевна стали кричать: «Держи, держи его!» – а Иванушкин и след простыл.
Пришел Иванушка домой – одна рука тряпкой обмотана.
– Что это у тебя такое? – спрашивают Ивана невестки.
– Да вот, – говорит, – искавши грибов, сучком накололся.
И полез Иван на печь.
Пришли братья, стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось на перстенек посмотреть: как приподнял он тряпку, избу всю так и осияло.
– Перестань, дурак, с огнем баловать! – крикнули на него братья. – Еще избу сожжешь. Пора тебя, дурака, совсем из дому прогнать.
Дня через три идет от царя клич, чтобы весь народ, сколько ни есть в его царстве, собирался к нему на пир и чтобы никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром побрезгует – тому голову с плеч.
Нечего тут делать, пошел на пир сам старик со всей семьей.
Пришли, за столы дубовые посадилися; пьют и едят, речи гуторят.
В конце пира стала царевна медом из своих рук гостей обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке последнему; а на дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука грязной тряпкой завязана… просто страсть.
– Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана? – спрашивает царевна. – Развяжи-ка.
Развязал Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень – так всех и осиял.
Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит:
– Вот, батюшка, мой суженый.
Обмыли слуги Иванушку, причесали, одели в царское платье, и стал он таким молодцом, что отец и братья глядят – и глазам своим не верят.
Сыграли свадьбу царевны с Иванушкой и сделали пир на весь мир.
Я там был, мед, пиво пил; по усам текло, а в рот не попало.
Хитрая наука
Жили себе дед да баба, был у них сын. Старик-то был бедный; хотелось ему отдать сына в науку, чтоб смолоду был родителям своим на утеху, под старость на перемену, а по смерти на помин души, да что станешь делать, коли достатку нет! Водил он его, водил по городам – авось возьмет кто в ученье; нет, никто не взялся учить без денег.
Воротился старик домой, поплакал-поплакал с бабою, потужил-погоревал о своей бедности и опять повел сына в город. Только пришли они в город, попадается им навстречу человек и спрашивает деда:
– Что, старичок, пригорюнился?
– Как мне не пригорюниться! – сказал дед. – Вот водил, водил сына, никто не берет без денег в науку, а денег нетути!
– Ну так отдай его мне, – говорит встречный, – я его в три года выучу всем хитростям. А через три года, в этот самый день, в этот самый час, приходи за сыном; да смотри: коли не просрочишь – придешь вовремя да узнаешь своего сына – возьмешь его назад; а коли нет, так оставаться ему у меня.
Дед так обрадовался и не спросил: кто такой встречный, где живет и чему учить станет малого? Отдал ему сына и пошел домой. Пришел домой в радости, рассказал обо всем бабе; а встречный-то был колдун.
Вот прошли три года, а старик совсем позабыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малою птичкою, хлопнулся о завалинку и вошел в избу добрым молодцем, поклонился отцу и говорит: завтра-де сравняется как раз три года, надо за ним приходить; и рассказал, куда за ним приходить и как его узнавать.
– У хозяина моего не я один в науке; есть, – говорит, – еще одиннадцать работников, навсегда при нем остались – оттого, что родители не смогли их признать; и только ты меня не признаешь, так и я останусь при нем двенадцатым. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас двенадцать выпустит белыми голубями – перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровны. Вот ты и смотри: все высоко станут летать, а я нет-нет да возьму повыше всех. Хозяин спросит: узнал ли своего сына? Ты и покажь на того голубя, что повыше всех.
После выведет он к тебе двенадцать жеребцов – все одной масти, гривы на одну сторону и собой ровны; как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай: я нет-нет да правой ногою и топну. Хозяин опять спросит: узнал своего сына? Ты смело показывай на меня.
После того выведет к тебе двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежей ровны. Как станешь проходить мимо тех молодцев, примечай-ка: на правую щеку ко мне нет-нет да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит: узнал ли своего сына? Ты и покажь на меня.
Рассказал все это, распростился с отцом и пошел из дому, хлопнулся о завалинку, сделался птичкою и улетел к хозяину.
Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну.
– Ну, старик, – говорит колдун, – выучил твоего сына всем хитростям. Только, если не признаешь его, оставаться ему при мне на веки вечные.
После того выпустил он двенадцать белых голубей – перо в перо, хвост в хвост, голова в голову ровны – и говорит:
– Узнавай, старик, своего сына!
Как узнавать-то, ишь все ровны! Смотрел, смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех, указал на того голубя:
– Кажись, это мой!
– Узнал, узнал, дедушка! – сказывает колдун.
В другой раз выпустил он двенадцать жеребцов – все как один, и гривы на одну сторону.
Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает:
– Ну что, дедушка! Узнал своего сына?
– Нет еще, погоди маленько.
Да как увидал, что один жеребец топнул правою ногою, сейчас показал на него:
– Кажись, это мой!
– Узнал, узнал, дедушка!
В третий раз вышли двенадцать добрых молодцев – рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно одна мать родила.
Дед раз прошел мимо молодцев – ничего не заприметил, в другой прошел – тож ничего, а как проходил в третий раз – увидал у одного молодца на правой щеке муху и говорит:
– Кажись, это мой!
– Узнал, узнал, дедушка!
Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они себе домой.
Шли, шли и видят: едет по дороге какой-то барин.
– Батюшка, – говорит сын, – я сейчас сделаюсь собачкою; барин станет покупать меня, ты меня-то продай, а ошейника не продавай; не то я к тебе назад не ворочусь!
Сказал так-то да в ту ж минуту ударился оземь и оборотился собачкою.
Барин увидал, что старик ведет собачку, зачал ее торговать: не так ему собачка показалася, как ошейник хорош. Барин дает за нее сто рублев, а дед просит триста; торговались, торговались, и купил барин собачку за двести рублев.
Только стал было дед снимать ошейник – куда! – барин и слышать про то не хочет, упирается.
– Я ошейника не продавал, – говорит дед, – я продал одну собачку. А барин:
– Нет, врешь! Кто купил собачку, тот купил и ошейник.
Дед подумал-подумал (ведь и впрямь без ошейника нельзя купить собаку!) и отдал ее с ошейником.
Барин взял и посадил собачку к себе, а дед забрал деньги и пошел домой.
Вот барин едет себе да едет, вдруг – откуда ни возьмись – бежит навстречу заяц.
– Что, – думает барин, – али выпустить собачку за зайцем да посмотреть ее прыти?
Только выпустил, смотрит: заяц бежит в одну сторону, собака в другую – и убежала в лес.
Ждал, ждал ее барин, не дождался и поехал ни при чем.
А собачка оборотилась добрым молодцем.
Дед идет дорогою, идет широкою и думает: как домой глаза-то показать, как старухе сказать, куда сына девал? А сын уж нагнал его.
– Эх, батюшка! – говорит. – Зачем с ошейником продавал? Ну, не повстречай мы зайца, я б не воротился, так бы и пропал ни за что!
Воротились они домой и живут себе помаленьку. Много ли, мало ли прошло времени, в одно воскресенье говорит сын отцу:
– Батюшка, я обернусь птичкою, понеси меня на базар и продай; только клетки не продавай, не то домой не ворочусь.
Ударился оземь, сделался птичкою, старик посадил ее в клетку и понес продавать.
Обступили старика люди, наперебой начали торговать птичку: так она всем показалася!
Пришел и колдун, тотчас признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит. Тот дает дорого, другой дает дорого, а он дороже всех; продал ему старик птичку, а клетки не отдает; колдун туда-сюда, бился с ним, бился, ничего не берет!
Взял одну птичку, завернул в платок и понес домой.
– Ну, дочка, – говорит дома, – я купил нашего шельмеца!
– Где же он?
Колдун распахнул платок, а птички давно нет – улетела, сердешная!
Настал опять воскресный день. Говорит сын отцу:
– Батюшка! Я обернусь нынче лошадью; смотри же, лошадь продавай, а уздечки не моги продавать; не то домой не ворочусь.
Хлопнулся о сырую землю и сделался лошадью; повел ее дед на базар продавать.
Обступили старика торговые люди, все барышники: тот дает дорого, другой дает дорого, а колдун дороже всех.
Дед продал ему сына, а уздечки не отдает.
– Да как же я поведу лошадь-то? – спрашивает колдун. – Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду: мне она не в корысть!
Тут все барышники на деда накинулись: так-де не водится! Продал лошадь – продал и узду. Ну что с ними поделаешь? Пришлось отдать деду уздечку.
Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко притянул ему голову: стоит конь на одних задних ногах, передние до земи не хватают.
– Ну, дочка, – сказывает опять колдун, – вот когда купил, так купил нашего шельмеца.
– Где же он?
– На конюшне стоит.
Дочь побежала смотреть; жалко ей стало добра молодца, захотела подлинней отпустить повод, стала распутывать да развязывать, а конь тем временем вырвался и пошел версты отсчитывать.
Бросилась дочь к отцу.
– Батюшка, – говорит, – прости! Грех меня попутал, конь убежал!
Колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит!
Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом и бултых в воду, а волк за ним щукою.
Ерш бежал, бежал водою, добрался к плотам, где красные девицы белье моют, перекинулся золотым кольцом и подкатился купеческой дочери под ноги.
Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком.
– Отдай, – пристает к ней, – мое золотое кольцо.
– Бери! – говорит девица и бросила кольцо наземь.
Как ударилось оно, в ту ж минуту рассыпалось мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать; пока клевал – одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришлось петуху: задрал его ястреб!
Белая уточка
Один князь женился на прекрасной княжне и не успел еще на нее наглядеться, не успел с нею наговориться, не успел ее наслушаться, а уж надо было им расставаться, надо было ему ехать в дальний путь, покидать жену на чужих руках. Что делать! Говорят, век обнявшись не просидеть.
Много плакала княгиня, много князь ее уговаривал, заповедовал не покидать высока терема, не ходить на беседу, с дурными людьми не ватажиться, худых речей не слушаться. Княгиня обещала все исполнить.
Князь уехал, она заперлась в своем покое и не выходит.
Долго ли, коротко ли, пришла к ней женщина, казалось — такая простая, сердечная!
— Что,- говорит,- ты скучаешь? Хоть бы на божий свет поглядела, хоть бы по саду прошлась, тоску размыкала.
Долго княгиня отговаривалась, не хотела, наконец подумала: по саду походить не беда,- и пошла.
В саду разливалась ключевая хрустальная вода.
— Что,- говорит женщина,- день такой жаркий, солнце палит, а водица студеная так и плещет, не искупаться ли нам здесь?
— Нет, нет, не хочу!- А там подумала: ведь искупаться не беда!
Скинула сарафанчик и прыгнула в воду. Только окунулась, женщина ударила ее по спине.
— Плыви ты,- говорит,- белою уточкой!
И поплыла княгиня белою уточкой.
Ведьма тотчас нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села ожидать князя.
Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она уж бежит навстречу, бросилась к князю, целует, милует. Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее.
А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек: двух хороших, а третьего — заморышка; и деточки ее вышли — ребяточки.
Она их вырастила, стали они по реченьке ходить, злату рыбку ловить, лоскутики собирать, кафтанчики сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок.
— Ох, не ходите туда, дети!- говорила мать.
Дети не слушали; нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке, дальше, дальше — и забрались на княжий двор.
Ведьма чутьем их узнала, зубами заскрипела. Вот она позвала деточек, накормила-напоила и спать уложила, а там велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи.
Легли два братца и заснули; а заморышка, чтоб не застудить, приказала им мать в пазушке носить,- заморышек-то и не спит, все слышит, все видит.
Ночью пришла ведьма под дверь и спрашивает:
— Спите вы, детки, иль нет? Заморышек отвечает:
— Мы спим — не спим, думу думаем, что хотят нас всех порезати: огни кладут калиновые, котлы высят кипучие, ножи точат булатные!
— Не спят!
Ведьма ушла, походила-походила, опять под дверь.
— Спите, детки, или нет? Заморышек опять говорит то же:
— Мы спим — не спим, думу думаем, что хотят нас всех порезати: огни кладут калиновые, котлы высят кипучие, ножи точат булатные!
“Что же это все один голос?”- подумала ведьма, отворила потихоньку дверь, видит: оба брата спят крепким сном, тотчас обвела их мертвой рукой — и они померли.
Поутру белая уточка зовет деток: детки не идут. Зачуяло ее сердце, встрепенулась она и полетела на княжий двор.
На княжьем дворе, белы как платочки, холодны как пласточки, лежали братцы рядышком.
Кинулась она к ним, бросилась, крылышки распустила, деточек обхватила и материнским голосом завопила:
— Кря, кря, мои деточки!
Кря, кря, голубяточки!
Я нуждой вас выхаживала,
Я слезой вас выпаивала,
Темну ночь недосыпала,
Сладок кус недоедала!
— Жена, слышишь, небывалое? Утка приговаривает.
— Это тебе чудится! Велите утку со двора прогнать!
Ее прогонят, она облетит да опять к деткам:
— Кря, кря, мои деточки!
Кря, кря, голубяточки!
Погубила вас ведьма старая,
Ведьма старая, змея лютая,
Змея лютая, подколодная;
Отняла у нас отца родного,
Отца родного — моего мужа,
Потопила нас в быстрой реченьке,
Обратила нас в белых уточек,
А сама живет-величается!
“Эге!” — подумал князь и закричал:
— Поймайте мне белую уточку! Бросились все, а белая уточка летает и никому не дается; выбежал князь сам, она к нему на руки пала. Взял он ее за крылышко и говорит:
— Стань белая береза у меня позади, а красная девица впереди!
Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди, и в красной девице князь узнал свою молодую княгиню.
Тотчас поймали сороку, подвязали ей два пузырька, велели в один набрать воды живящей, в другой — говорящей. Сорока слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящею водою — они встрепенулись, сбрызнули говорящею — они заговорили.
И стала у князя целая семья, и стали все жить-поживать, добро наживать, худо забывать.
А ведьму привязали к лошадиному хвосту, размыкали по полю: где оторвалась нога — там стала кочерга; где рука — там грабли; где голова — там куст да колода. Налетели птицы — мясо поклевали, поднялися ветры — кости разметали, и не осталось от ней ни следа, ни памяти!
Глупый волк
Жил-был волк, старый-престарый. Зубы у него приломались, глаза плохо видят. Тяжело стало жить старому: хоть ложись да помирай.
Вот пошел волк в поле искать себе добычи и видит — пасется жеребенок.
— Жеребенок, жеребенок, я тебя съем!
— Где тебе, старому, съесть меня! Да у тебя и зубов-то нет.
— А вот есть зубы!
— Покажи, коли не хвастаешь!
Волк и оскалил зубы:
— Смотри!
А жеребенок лягнул его изо всех сил по оскаленным зубам да и был таков.
Упал волк без памяти. Лежал, лежал, насилу очухался. Голод не тетка, побрел он дальше.
Идет лесом, навстречу ему — портной. Веселый такой портной: песни поет и аршином железным помахивает.
Остановился волк посреди дороги:
— Портной, портной, я тебя съем!
Посмотрел портной на волка:
— Ну, что ж делать! Так и быть, ешь. Дай только смеряю тебе брюхо: влезу ли еще в тебя-то.
— Меряй, — говорит волк, — да поскорей, а то очень есть хочу.
Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, намотал его на руку и давай по бокам аршином лупить, бьет да приговаривает:
— Аршин вдоль, аршин поперек! Аршин вдоль, аршин поперек!
Рвался, рвался волк, полхвоста оторвал, насилу ноги унес.
Плетется волк да зализывает рану. Вдруг видит — пасется на горе большой козел.
— Козел, а козел! Я тебя съем!
— Ну что ж, коли тебе хочется. Только зачем понапрасну зубы ломать, ты лучше стань под горой и разинь пасть пошире, а я с горы разбегусь — да прямо к тебе в рот.
Волк стал под горой, разинул пасть и ждет.
Козел разбежался с горы и ударил волка в лоб, тот с ног свалился. А козел и был таков.
Отлежался волк, встал и думает:
«Проглотил я козла или нет? Коли бы я съел козла, брюхо было бы полнехонько. Наверно, он меня, бездельник, обманул».
Погоревал, погоревал и пошел опять искать себе добычи. Увидел под кустом падаль, бросился на нее и попал в капкан.
Баба-яга и Лутонюшка
В некоторой деревне жил старик со старухой; детей у них не было. Однажды старик поехал в лес за дровами; это было зимою. Старик нарубил дров, сколько нужно было, да срубил еще лутошку. Приехал домой, дрова на дворе оставил, а лутошку в избу принес и положил в подпечек. На третий день что-то в подпечке зашумело, а потом кричит:
— Тятя! Мама! Выньте меня!
Старик со старухой испугались; да слышат и в другой раз тот же голос:
— Тятя! Мама! Выньте меня!
Старик поглядел в подпечек и увидел там небольшого мальчика. Вынул его оттуда, показал старухе, и назвали его Лутонькою, стали его и кормить и поить.
Пришло лето, стал мальчик промышлять рыбною ловлею и тем промыслом кормил старика со старухою. Старуха, бывало, придет к нему на ловлю и кричит его:
— Лутонь, Лутонь, Лутонюшка! Пригрянь, пригрянь ко бережку, а я тебе дам пирожка с начинкою.
Лутоня как заслышит голос матери — и подъезжает в берегу; от матери берет кусок пирога, а ей дает рыбу. Однажды подглядела это Ягая-баба, пришла к тому месту и начала его манить к себе такими же словами, как и мать кликала; Лутонюшка услыхал толстый голос Ягой-бабы и сказал ей в ответ:
— Нет, не матушкин голос: очень толст! Поди, язык поточи!
С тем Ягая-баба и отправилась. После того приходит туда же старуха, его мать названая, и начала манить:
— Лутонь, Лутонь, Лутонюшка! Пригрянь, пригрянь ко бережку, а я тебе дам пирожка с начинкою.
Лутонька услыхал материн голос, подъехал к берегу, взял у нее пирог, а ей рыбу отдал.
Старуха ушла, а Ягая-баба выточила свой язык на точиле и немного погодя прибежала на берег и стала манить Лутонюшку. Лутонька не узнал ее голоса, подумал, что мать его зовет, подъехал к берегу; Ягая-баба схватила его и утащила в свою избу.
У Ягой-бабы было три дочери. Она приказала большей дочери истопить избу жарко-жарко, Лутоньку ожарить, а сама ушла в поле гулять. Большая дочь истопила избу, привела Лутоньку и велела ему садиться на лопату. Лутонька был не плох, начал отговариваться, что не знает, не ведает, как сесть на лопату:
— Покажи, — просит, — как надо садиться?
Дочка Ягой-бабы села на лопату, а Лутонька взял лопату за черен и сунул ее в печь, а сам залез на полдовку. Приходит Ягая-баба и спрашивает Лутоньку; дочери вынули из печи свою сестру и подали матери: она ее и скушала. Вышла на двор и говорит:
— Покатаюсь, поваляюсь на Лутонькиных косточках!
А Лутонька сидит на полдовке да себе говорит:
— Покатайся, поваляйся на дочерних косточках!
Ягая-баба увидела Лутоньку и закричала:
— Как ни встану, а достану тебя, Лутонька!
Достала Лутоньку и отдала дочерям, приказала его ожарить, а сама опять ушла. Дочери истопили избу; середняя хотела посадить Лутоньку на лопату, но он обманул ее и сунул самоё в печь. То же сделал он и с младшею. Ягая-баба пришла домой, стала звать дочерей; нет никого. Вынула сама жареное и съела, потом вышла на двор и говорит:
— Покатаюсь, поваляюсь на Лутонькиных косточках!
А Лутонька с полдовки отвечает:
— Покатайся, поваляйся, дура, на дочерних косточках!
Ягая-баба увидела его, осердилась и хотела достать. Лутонька закричал жалобным голосом:
— Ах вы, гуси, ах вы, лебеди! Прилетите ко мне, вырвите по перышку.
Гуси-лебеди прилетели, вырвали у себя по перышку, сделали два крылышка и дали Лутонюшке; Лутонька взял и улетел от Ягой-бабы к отцу, к матери и стал вместе с ними жить-поживать да рыбку из воды таскать.
Алеша Попович и Тугарин Змеевич
В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один-единственный сын. Звали его Алёша, прозывали по отцу Поповичем.
Алёша Попович грамоте не учился, за книги не садился, а учился с малых лет копьём владеть, из лука стрелять, богатырских коней укрощать. Силон Алёша не большой богатырь, зато дерзостью да хитростью взял. Вот подрос Алёша Попович до шестнадцати лет, и скучно ему стало в отцовском доме. Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, в широкое раздолье, по Руси привольной поездить, до синего моря добраться, в лесах поохотиться. Отпустил его отец, дал ему коня богатырского, саблю, копьё острое да лук со стрелами.
Стал Алёша коня седлать, стал приговаривать:
— Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мёртвым, ни раненым серым волкам на растерзание, чёрным воронам на расклевание, врагам на поругание! Где б мы ни были, домой привези!
Обрядил он своего коня по-княжески. Седло черкасское, подпруга шелковая, узда золочёная.
Позвал Алёша с собой любимого друга Екима Ивановича и поутру в субботу из дому выехал искать себе богатырской славы.
Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя в стремя, по сторонам поглядывают. Никого в степи не видно-ни богатыря, с кем бы силой помериться, ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем русская степь без конца, без края, и шороха в ней не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит Алёша — лежит на кургане камень, а на камне что-то написано.
Говорит Алёша Екиму Ивановичу:
— Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне написано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен и читать не могу. Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись разбирать.
— Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая дорога ведёт к Чернигову, левая дорога в Киев, к князю Владимиру, а прямо дорога — к синему морю, к тихим заводям.
— Куда же нам, Еким, путь держать?
— К синему морю ехать далеко, к Чернигову ехать незачем: там калачницы хорошие. Съешь один калач — другой захочется, съешь другой — на перину завалишься, не сыскать нам там богатырской славы. А поедем мы к князю Владимиру, может, он нас в свою дружину возьмёт.
— Ну, так завернём, Еким, на левый путь.
Завернули молодцы коней и поехали по дороге к Киеву. Доехали они до берега Сафат-реки, поставили белый шатёр. Алёша с коня соскочил, в шатёр вошёл, лёг на зелёную траву и заснул крепким сном. А Еким коней расседлал, напоил, прогулял, стреножил и в луга пустил, только тогда отдыхать пошёл. Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, белым полотенцем вытерся, стал кудри расчёсывать. А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, овсом покормил заседлал и своего и Алёшиного. Снова молодцы в путь пустились. Едут-едут, вдруг видят — среди степи идёт старичок. Нищий странник — калика перехожая. На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём шуба соболиная, шапка греческая, а в руках дубинка дорожная.
Увидал он молодцов, загородил им путь:
— Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Сафат-реку. Стал там станам злой враг Тугарин, Змея сын. Вышиной он как высокий дуб, меж плечами косая сажень, между глаз можно стрелу положить. У него крылатый конь — как лютый зверь: из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте туда, молодцы!
Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распалился, разгневался:
— Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец мой, дорожный странничек, дай ты мне на время твоё платье, возьми мои богатырские доспехи, помоги мне с Тугарином справиться.
— Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было: он тебя в один глоток проглотить может.
— Ничего, как-нибудь справимся! Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком к Сафат-реке. Идёт, на дубинку опирается, прихрамывает… Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что дрогнула земля, согнулись высокие дубы, воды из реки выплеснулись, Алёша еле жив стоит, ноги у него подкашиваются.
— Гей, — кричит Тугарин, — гей, странничек, не видал ли ты Алёшу Поповича? Мне бы хотелось его найти, да копьём поколоть, да огнём пожечь.
А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, закряхтел, застонал и отвечает стариковским голосом:
— Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич! Я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне приказываешь. Подъезжай ко мне поближе, к убогому.
Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, хотел ему в ухо гаркнуть, а Алеша ловок, увёртлив был, — как хватит его дубинкой между глаз, — так Тугарин без памяти на землю пал.
— Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами расшитое, не дешевое платье, ценой в сто тысяч, на себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил и поехал обратно к своим друзьям. А так Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться, Алёшиной славе мешать.
Вдруг видит Еким — скачет конь что лютый зверь, на нём в дорогом платье Тугарин сидит. Разгневался Еким, бросил наотмашь свою палицу в тридцать пудов прямо в грудь Алёше Поповичу. Свалился Алёша замертво. А Еким кинжал вытащил, бросился к упавшему, хочет добить Тугарина… И вдруг видит- перед ним Алёша лежит… Грянулся наземь Еким Иванович, горько расплакался:
— Убил я, убил своего брата названого, дорогого Алёшу Поповича!
Стали они с каликой Алёшу трясти, качать, влили ему в рот питья заморского, растирали травами лечебными. Открыл глаза Алёша, встал на ноги, на ногах стоит-шатается. Еким Иванович от радости сам не свой.
Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в богатырские доспехи, отдал калике его добро. Посадил Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу поддерживает.
Только у самого Киева Алёша в силу вошёл. Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеденной поре. Заехали на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в горницу. Князь Владимир их ласково встречает.
— Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне приехали? Как зовут вас по имени, величают по отчеству?
— Я из города Ростова, сын соборного попа Леонтия. А зовут меня Алёшей Поповичем. Ехали мы чистой степью, повстречали Тугарина Змеевича, он теперь у меня в тороках висит.
Обрадовался Владимир-князь:
— Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за стол садись: хочешь-рядом со мной, хочешь-против меня, хочешь-рядом с княгинею.
Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с княгинею. А Еким Иванович у печки стал. Крикнул князь Владимир прислужников:
— Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда в горницу! Только Алёша взялся за хлеб, за соль — растворились двери гостиницы, внесли двенадцать конюхов на золотой доске Тугарина, посадили рядом с князем Владимиром. Прибежали стольники, принесли жареных гусей, лебедей, принесли ковши мёду сладкого. А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухватил лебёдушку и с костями съел, по ковриге целой за щеку запихивает. Сгрёб пироги сдобные да в рот побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку льет. Не успели гости кусочка взять, а уже на столе только косточки. Нахмурился Алёша Попович и говорит:
— У моего батюшки попа Леонтия была собака старая и жадная. Ухватила она большую кость да и подавилась. Я её за хвост схватил, под гору метнул — то же будет от меня Тугарину. Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил острый кинжал и метнул его в Алёшу Поповича. Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким Иванович, на лету кинжал перехватил.
— Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь в него нож бросать или мне позволишь?
— И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво у князя в горнице ссору вести. А переведаюсь я с ним завтра в чистом поле, и не быть Тугарину живому завтра к вечеру.
Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, всё за Тугарина ставят-и корабли, и товары, и деньги. За Алёшу ставят только княгиня Апраксия да Еким Иванович. Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой шатёр на Сафат-реке. Всю ночь Алёша не спит, на небо смотрит, подзывает тучу грозовую, чтоб смочила дождём Тугариновы крылья. Утром-светом прилетел Тугарин, над шатром вьётся, хочет сверху ударить. Да не зря Алёша не спал: налетела туча громовая, грозовая, пролилась дождём, смочила Тугаринову коню могучие крылья. Грянулся конь наземь, по земле поскакал. Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой помахивает. Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посыпался:
— Тут тебе, Алёшка, конец: захочу — огнём спалю, захочу — конём потопчу, захочу — копьём заколю! Подъехал к нему Алёша поближе и говорит:
— Что же ты, Тугарин, обманываешь?! Бились мы с тобой об заклад, что один на один силой померяемся, а теперь за тобой стоит сила несметная!
Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая сила за ним стоит, а Алёше только того и надобно. Взмахнул острой саблей и отсек ему голову! Покатилась голова на землю, как пивной котёл, загудела земля-матушка! Соскочил Алёша, хотел взять голову, да не мог от земли на вершок поднять. Крикнул Алёша Попович зычным голосом:
— Эй вы, верные товарищи, помогите голову Тугарина с земли поднять!
Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского коня взвалить. Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский двор, бросили среди двора чудище. Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал Алешу за княжеский стол, говорил Алеше ласковые слова:
— Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю Владимиру. Я тебя, Алёша, пожалую.
Остался Алёша в Киеве дружинником. Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы добрые люди слушали:
Наш Алёша роду поповского,
Он и храбр и умен, да нравом сварлив.
Он не так силён, как напуском смел.
Золотой конь
В некотором царстве, в некотором государстве жил старик со старухой. Старик охотою промышлял, старуха дома хозяйничала.
Жаден старик, а старуха еще пуще. Что старик ухлопает, то старуха слопает.
Вот встает рано утром старик и говорит:
— Поднимайся, старуха! Разогревай сковородку, пошел я на охоту.
Ходил-ходил старик по лесу, ни зверя, ни птицы не нашел. А старуха сковородку грела, пока не покраснела.
Идет старик домой с пустой сумой. Видит — сидит на гнездышке птичка, под ней двадцать одно яичко. Хлоп! Убил ее.
Приходит домой.
— Ну, старуха, принес я закуску!
— А что же ты, старик, принес?
— Да вот убил на гнездышке птичку, взял под ней двадцать одно яичко.
— Ах ты, дурак старый! Не надо было птицу бить. Яйца-то ведь они, насиженные, никуда не годные. Садись-ка теперь сам, доводи их до дела.
И птицу жарить не захотела. Не стал старик перечить, сел в лукошко вместо наседки.
Сидел он двадцать одну неделю. Высидел не двадцать птенцов, а двадцать молодцов. Одно яйцо осталось.
Старуха не унимается.
— Сиди, — говорит, — чтоб было кому работать, коров пасти, хозяйство блюсти.
Просидел он еще двадцать одну неделю. Старуха с голоду померла, а старик вывел на свет красавца молодца и назвал его Иваном.
Живет старик, поживает, добра наживает. Названные дети с утра до вечера работают. А старик похаживает, брюхо поглаживает, на работников покрикивает. Разбогател. Землю пшеницей засеял. Пришло время убирать. Наставили братья скирдов видимо-невидимо.
Стал старик примечать, что скирды пропадают. Зовет своих молодцов:
— Надо, дети, караулить!
Назначил всем черед — по ночи каждому сторожить. Ивану последняя ночь досталась.
Братья караул проспали, ничего не видали. Настала Иванова очередь.
Пошел он в кузницу, отковал молот в двадцать пять пудов, в полтора пуда железные удила. Из пуда конопли узду свил.
Сел под скирдом, караулит. До полуночи просидел. Слышит конский топот: кобылица бежит, под ней земля дрожит, за ней двадцать один жеребенок.
Топнула она ногой, развалился скирд, жеребята его вмиг разметали.
Ударил Иван кобылицу молотком между ушей. Села она на коленки. Обротал ее Иван и повел вместе с жеребятами к себе во двор. Ворота на засов, а сам спать лег.
Встает утром старик.
— Ты что спишь, Иван, бездельник?
— Нет, батюшка, я не бездельник, — отвечает Иван. — Приказ я твой выполнил.
Посмотрел старик — полный двор лошадей. Похвалил Ивана перед братьями:
— Вот у меня Иван какой! А вы что? Дураки нерачительные…
Стали они лошадей делить. Старик взял кобылицу. Старшие братья на выбор лошадей облюбовали, а Ивану достался самый захудалый жеребеночек. Вот собираются братья на охоту. Садятся на резвых коней.
Иван своего жеребеночка попробовал — положил руку ему на спину. Гнется жеребеночек, на все четыре ноги садится. Тяжела для него хозяина рука. Пустил его Иван на сутки в луга. На другой день положил руку — не гнется жеребеночек. Положил ногу — гнется. Пустил еще на сутки в луга.
На третий день приводит Иван коня. Кладет ногу — не гнется. Сам садится — гнется конь. Пустил опять на сутки в луга.
На четвертый день садится Иван на своего коня — не гнется под ним конь.
А братья давно уже уехали на охоту. Едет Иван по чистому полю, догоняет братьев. День проходит, второй проходит — не видно в чистом поле никого. Вот третий день кончается, ночь наступает. Смотрит Иван — похоже, виднеется огонек. «Знать, братья мои кашу варят».
Ближе подъезжает — все видней да жарче огонь. Подскакал Иван, а это золотое перо лежит. Жалко Ивану расстаться с золотым пером. А конь ему человеческим голосом говорит:
— Не подымай, Иван, золотого пера, большая беда будет!
Не послушал Иван коня, поднял перо и за пазуху спрятал.
Съезжаются братья домой. Дает им старик приказ вычистить коней:
— Буду нынче смотр делать. Дал он старшим братьям щетки да мыло. Ивану ничего не дал.
Приуныл Иван. А конь его говорит:
— Не печалься, хозяин. Возьми золотое перо, махни туда-сюда — все будет как надо.
Вот братья повымыли, повычистили своих коней, а Иван только пером махнул: стал конь золотой, волос к волосу лежит, в гриву алые ленты вплетены, на лбу звезда сияет.
Выводят старшие братья на смотр старику своих коней. Все кони чисты, все хороши.
А Иван вывел — еще лучше. Конь пляшет золотой.
— Эх вы! — говорит старик. — Какой плохонький конек ему достался, а сейчас лучше ваших всех. Взяла братьев ревность:
— Давайте, ребята, придумаем, что бы такое на Ивана наговорить.
Приходят к старику:
— Ты, батюшка, не знаешь, какой наш Иван хитрый. Он нам не тем еще хвалился.
— А чем же он хвалился, ребята?
— Я, — говорит, — не то, что вы. Захочу, достану кота-игруна, гусака-плясуна и лисицу-цимбалку. Поверил старик. Призывает Ивана.
— Тут ребята про тебя говорят, что ты можешь достать кота-игруна, гусака-плясуна и лисицу-цимбалку.
— Нет, батюшка! Ничего я об этом не знаю.
— Как так не знаешь? Ты мне не перечь! Ни к чему мне такая речь. Хоть и не нужны они мне, а чтобы достал их непременно!
Загоревал Иван, пошел к своему коню на совет:
— Ох, верный мой конь, беда мне… А конь говорит:
— Это — беда не беда, впереди будет беда. Садись на меня, поедем добывать заказанное.
Отправляется Иван в чужие города. Остановился конь у высоких хором и говорит:
— Живет здесь богатый купец. Ступай к нему, проси продать кота-игруна, гусака-плясуна и лисицу-цимбалку. Будет просить он в обмен твоего коня. Ты соглашайся. Только смотри, когда будешь меня отдавать, сними с меня узду.
Сделал Иван, как велел конь. Отдал ему купец кота-игруна, гусака-плясуна, лисицу-цимбалку, а Иван — взамен своего золотого коня.
Уздечку снял. Говорит:
— Уздечка у меня дареная, непродажная.
Вышел в чисто поле, слышит — земля дрожит. Подбегает к нему верный конь.
— Ну, поедем домой, хозяин. Ушел я от купца. Привез Иван старику подарки. Сбежались братья смотреть на диво. Лисица в цимбалы бьет, кот песни играет, гусак пляшет.
— Эх вы! — говорит старик братьям. — Никуда вы не годны. Вот Иван у меня голова — все исполнил мои дела!
А те в ответ:
— Ох, батюшка, Иван не то еще знает. Сам хвастался.
— А что? Что он знает, ребята?
— Он нам, батюшка, говорил: «Я знаю, где гуслисамоигры достать».
Призывает старик Ивана:
— Иван, привези мне гусли-самоигры!
— Ох, батюшка, я их видать не видал, слыхать про них не слыхал.
Рассердился старик.
— Надоели, — говорит, — мне твои отпоры! Ты мне не перечь! Ни к чему мне такая речь. Чтобы достал гусли-самоигры!
Пошел Иван к коню на совет:
— Ой, конь мой верный! Вот пришла моя беда!
Конь ему отвечает:
— Это — беда не беда, впереди будет беда. Иди спать. Утро вечера мудренее.
Встает Иван рано, седлает золотого коня, отправляется в густые леса.
Ехали-ехали. Видят: стоит избушка на курьих лапках, на собачьих пятках.
Говорит Иван:
— Избушка, избушка, стань ко мне передом, на запад задом.
Повернулась избушка. Выходит из нее баба-яга, костяная нога — на ступе ездит, метлой подметает, пестом погоняет.
— Ах ты, добрый молодец! — говорит. — Зачем сюда заехал? Или тебе головы не жалко?
Иван ей отвечает:
— Эх, бабушка ты, старушка! Не спросила ты, какое у меня горе-беда!
Накормлен ли я, напоен ли я или с голоду помираю? У нас на Руси дорожного человека злым словом не встречают, добром привечают. Сперва накормят, напоят, а потом и разговор ведут. Умилилась старушка его словам.
— Иди, — говорит, — парень, сюда. Моим гостем будешь.
Слезает Иван с золотого с коня. Входит в избушку на курьих лапках, на собачьих пятках. Сажает его старушка за стол. Накормила, напоила, про горе-беду расспросила.
— Ах, бабушка! Горе мое большое, — говорит, — Иван. — Как мне быть? Где мне гусли-самоигры добыть?
— Я, родимый, знаю, где эта диковинка.
— Ой, бабушка, расскажи, моему горю помоги!
— Парень-красота, жалко мне тебя. Трудное это дело. Есть у меня сестра, а у нее сын Змей Горыныч. Так эти гусли у него. Не любит он духу человечьего. Боюсь, как бы он тебя не съел. Ну уж я постараюсь для тебя — сестру упрошу, тебе помогу. Вот мой двор, а посреди двора — дубовый кол. Привяжи к нему коня за шелковые повода. А я дам тебе клубочек, держи его за кончик. Будет он катиться, а ты следом иди. Вот идет Иван, а клубочек впереди катится. Приходит ко двору Змея Горыныча. Заперты ворота на двенадцати цепях, на двенадцати замках. Постучался Иван. Вышла старушка — мать Змея Горыныча.
— Ох, парень молодой, зачем сюда — зашел? Мой сын прилетит голодный, он тебя съест!
Отвечает ей Иван:
— Бабушка ты, старушка! Не спросила ты у меня, какая моя беда. Голодный ли я, холодный ли? У нас на Руси дорожного человека злым словом не встречают, добром привечают. Сперва накормят, напоят, а потом и разговор ведут.
Умилилась старушка его словам, повела его в избу. Накормила, напоила, про беду-горе расспросила.
— Не печалься, парень-красота, — говорит, — Я твоему горю помогу.
Уже полночь подходит, скоро Змей Горыныч прилетит. Надо Ивана прятать.
Старушка говорит:
— Ложись под лавку. Я буду сына встречать, тебя, парня, защищать.
Вот в полночь прилетел Змей Горыныч. Летит — земля дрожит, деревья качаются, листья осыпаются. Влетел в избу, повел носом и говорит:
— Русь-кость пахнет.
А старушка ему отвечает:
— И-и, сыночек! По Руси летал, Руси набрался, вот тебе Русью и пахнет.
— Собирай, мать, поесть, — говорит Змей Горыныч.
Выдвигает старушка из печи целого быка, подает на стол ведро вина. Выпил Змей Горыныч вина, поел сладко быка. Повеселел.
— Эх, мать, с кем бы мне в карты сыграть? — говорит.
Старушка отвечает:
— Я бы нашла, дитенок, с кем тебе в карты сыграть, да боюсь — вред ему от тебя будет.
— Уважу я тебя, мать, — говорит Змей Горыныч. — Никакого вреда ему не сделаю. Больно мне охота в карты поиграть.
Позвала старушка Ивана. Вылазит он из-под лавки, садится за стол.
— А на что будем играть? — спрашивает Змей Горыныч.
Сделали они между собой уговор: кто кого обыграет, тот того и ест.
Начали играть. День играли, два играли, на третий день обыграли Змея Горыныча.
Испугался Змей Горыныч, на коленки становится, просит:
— Не ешь меня!
— Ну что ж, — говорит Иван, — хочешь жив остаться, отдай мне гусли-самоигры.
Обрадовался Змей Горыныч.
— Бери! — говорит. — Будут у меня гусли еще втрое лучше!
Змей Горыныч Ивана наградил, далеко проводил. Приезжает домой Иван. Повесил в избе гусли-самоигры.
Запели, заиграли гусли. Лисица в цимбалы ударила. Кот песню завел. Гусак плясать пошел. Веселье началось. Хвалит старик Ивана, а братьев бранит, со гвора гонит.
Задумались братья: как бы Ивана очернить?
Старший брат говорит:
— Знаете что, ребята? Слыхал я, есть в заморском царстве Марья-королевна. Уж ее-то Ивану не достать. Пошли они к старику:
— Ты, батюшка, еще всего не знаешь про хитрость Ивана. Хвалился он нам, что Марью-королевну достать может.
Призывает старик Ивана.
— Тут братья сказывают, что ты Марью-королевну достать можешь.
— Ой, батюшка! Знать не знаю ничего о Марье-королевне!
Старик слушать не хочет:
— Ты мне не перечь! Ни к чему мне такая речь. Ступай немедля. Чтоб представил мне Марью-королевну!
Заплакал тут Иван, пошел к коню:
— Ой, конь мой верный. Вот беда мне какая!
А конь говорит:
— Это — беда не беда, впереди будет беда. Собирайся, хозяин, в дорогу.
Что Ивану делать? Забирает он с собой своего коня, гусли-самоигры, лисицу-цимбалку, кота-игруна, гусака-плясуна. Садится на корабль.
Плыли-плыли. Приплывают к тому государству, где Марья-королевна живет.
Отец-царь пуще ока дочку бережет. Марья-королевна даже по двору гулять никогда одна не выходила. Распустил Иван паруса, остановил свой корабль против царского дворца. Заиграли гусли-самоигры. Ударила в цимбалы лисица-цимбалка. Запел кот-игрун. Пошел в пляс гусак-плясун. Заметалась по двору Марья-королевна:
— Ой, батюшка! Я такой музыки отроду не слыхала! Пусти меня на пристань — корабль посмотреть, музыку послушать.
Ну что стоит царю со своими слугами да сенными девушками ее просьбу исполнить? Упросила она отца.
Пустил он ее к морю корабль посмотреть, музыку послушать. А сенным девушкам приказал не спускать глаз с Марьи-королевны, чтобы беды какой не случилось.
Корабль у самой пристани стоит. На нем все окна отворены, людей не видно. Оперлась царская дочь на подоконник, заслушалась чудесной музыкой. Заслушались и сенные девушки.
Не заметил никто, как подхватил Иван Марью-королевну на свой корабль. И понесли их быстро паруса. Увез Иван Марью-королевну. Прибыли они домой. Обрадовался старик, в пляс пустился. Плясал, покуда шапку не потерял.
— Теперь буду жениться, — говорит. Марья-королевна отвечает:
— Нет, погоди! Сумел меня увезти, сумей и шкатулку мою с уборами унести.
— А где же твоя шкатулка?
— Стоит моя шкатулка под тем столом, на котором батюшка-царь обедает.
Призывает старик Ивана:
— Вот тебе задача: привези мне шкатулку Марьикоролевны.
— Ой, батюшка, не смогу я! — отвечает Иван.
— Ты, Иван, мне не перечь! Ни к чему мне такая речь. Привезти шкатулку ты должен.
И разговора больше нет. Пошел Иван к коню на совет:
— Ой, конь мой верный! Вот когда мне беда!
— Это — беда не беда, впереди будет беда. Ложись спать, утро вечера мудренее.
Встает утром Иван, седлает коня, отправляется в то царство, откуда Марью-королевну привез. Навстречу старик-побирушка. Купил у него Иван одежду с сумой за сто рублей. Переоделся нищим. Подъезжает к царскому дворцу. Вынул золотое перо, махнул им туда-сюда, стал конь золотой. Пустил его Иван в царский двор.
Выбежали царские слуги и сам царь с царицей. Стали золотого коня ловить, забыли в доме двери затворить.
А Иван проворен был. Вбежал во дворец, схватил из-под царского стола шкатулку и в суму положил. Выскакивает на двор, кричит:
— Не смогу ли я пособить?
Вскочил на коня, угодил ногами в стремена. Ускакал и шкатулку увез.
Старик пуще прежнего рад.
— Привез Иван шкатулку, — говорит. — На завтра свадьбу назначить.
Марья-королевна отвечает:
— Погоди-ка со свадьбой. Не все еще ты для меня сделал. Есть в море двенадцать кобылиц, пригони их мне сюда:
Призывает старик Ивана.
— Чтоб были мне двенадцать морских кобылиц!
Заплакал Иван и пошел к коню на совет:
— Ой, конь мой верный! Вот мне беда!..
Выслушал его конь и говорит:
— Теперь беда. Ну, что будет, то будет. Готовь двенадцать кож, двенадцать пудов бечевы, двенадцать пудов смолы и три пуда железных прутьев. Поедем к морю за кобылицами.
Приготовил Иван все это. Подъезжают они к морю.
Развел Иван огонь, поставил на него котел со смолой. Кожами коня уматывает, бечевой увязывает, смолой заливает. Когда он двенадцать кож намотал, двенадцатью пудами смолы залил, конь говорит:
— Смотри на то место, где я в море прыгну. Пойдут по воде белые пузыри, ты не тревожься: это я кобылиц из стойла выгоняю. А вот если кровавые пузыри увидишь, бери железные прутья и прыгай ко мне на помощь. Знай, что одолели меня морские кобылицы.
Прыгнул конь в море, а Иван сидит на берегу, на то место смотрит, где конь скрылся. Через два часа пошли по воде белые пузыри. Трех часов не прошло, выскочили на берег морские кобылицы, а за ними Иванов конь.
Глядит Иван, осталась на коне только одна кожа непорванной. Одиннадцать кож морские кобылицы погрызли, копытами побили.
Пригнал Иван морских кобылиц домой. Марья-королевна ему говорит:
— Ну, Иван, сумей теперь от них надоить котел молока.
— Ой, Марья-королевна, — отвечает Иван, — не умею я их доить.
А старик стоит и приказывает:
— Ты мне не перечь! Ни к чему мне такая речь. Дои кобылиц без отказа!
Пошел Иван к коню на совет.
— Не горюй, хозяин, — говорит ему конь. — Это дело нехитрое.
Принялся Иван за работу. Надоил от морских кобылиц котел молока.
Говорит ему Марья-королевна:
— Надо теперь молоко вскипятить. Как закипит ключом, скажешь мне.
Пошел Иван к коню на совет.
— Ой, конь мой верный! Какой мне приказ дают!
Велят молоко кипятить.
— Не бойся, хозяин, — говорит ему конь. — Делай так, как я скажу. Закипит молоко, велят тебе прыгнуть в котел купаться. А ты стой и слушай: как заржу я в конюшне три раза, тогда прыгай.
Вскипятил Иван молоко. Из края в край закипело, ключом бьет.
Доложили Марье-королевне. Идет она со стариком к котлу Тот ее и на шаг от себя не отпускает.
Говорит она старику:
— Надо тебе в кипучем молоке искупаться, тогда я за тебя замуж пойду.
Испугался старик:
— Нет, пускай сначала Иван испробует.
Говорит Марья-королевна:
— Ну, Иванушка, все ты для меня сделал. Исполни и это: искупайся в кипучем молоке.
Котел ключом кипит, молоко через верх выплескивается. Снял Иван рубаху. Стоит возле котла, от верного друга известия ждет.
Заржал конь на конюшне три раза. Тут Иван в котел прыгнул. Три раза от края до края проплыл. Вышел на свет живой, невредимый. И так хорош был, а теперь совсем красавцем стал: кровь с молоком.
Говорит Марья-королевна старику:
— Ну, прыгай теперь ты!
Прыгнул старик в котел, и развалились его кости. Иванушка с Марьей-королевной повенчались. Я у них была, чай пила. Они за мной ухаживали, меня углаживали, а я им сказки сказывала.
Финист-Ясный сокол
Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу — в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
— Не надо, батюшка, нанимать работницу, сама я буду хозяйство вести.
Ладно. Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку: рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная. А сестры ее завидущие да жаднющие, из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы — весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются, платья им — не платья, сапожки — не сапожки, платок — не платок.
Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
— Что вам, дочки, купить, чем порадовать?
И говорят старшая и средняя дочки:
— Купи по полушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные.
А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
— А что тебе, доченька, купить?
— Купи мне, батюшка, перышко Финиста — ясна сокола.
Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел.
Поехал отец в другой раз на базар.
— Ну, — говорит, — дочки, заказывайте подарки.
Обрадовались старшая и средняя дочки:
— Купи нам по сапожкам с серебряными подковками.
А Марьюшка опять заказывает;
— Купи мне, батюшка, перышко Финиста — ясна сокола.
Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышка не нашел. Приехал без перышка.
Ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшая и средняя дочки говорят:
— Купи нам по платью.
А Марьюшка опять просит;
— Батюшка, купи перышко Финиста — ясна сокола.
Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок:
— Здорово, дедушка!
— Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?
— К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня: меньшая дочка наказывала купить перышко Финиста — ясна сокола, а я не нашел.
— Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека, куда ни шло, отдам.
Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает: «Что в нем Марьюшка нашла хорошего?»
Привез старик подарки дочерям, старшая и средняя наряжаются да над Марьюшкой смеются:
— Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса да красуйся!
Промолчала Марьюшка, отошла в сторону, а когда все спать легли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:
— Любезный Финист — ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених!
И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу.
Три дня Марьюшка привечала к себе молодца, днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем.
На четвертый день сестры злые заметили — наговорили отцу на сестру.
— Милые дочки, — говорит отец, — смотрите лучше за собой!
«Ладно, — думают сестры, — посмотрим, как будет дальше».
Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол. Долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
— Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь.
Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами — смыла слезками кровавый след и стала еще краше.
Пошла она к отцу и проговорила:
— Не брани меня, батюшка, отпусти в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, умру — так, знать, на роду написано.
Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил.
Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь-дорогу дальнюю, искать желанного Финиста — ясна сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть, волки серые, медведи, лисицы — все звери к ней сбегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала.
И вот выходит Марьюшка на поляну и видит: стоит избушка на курьих ножках — вертится. Говорит Марьюшка:
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.
Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос.
Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?
— Ищу, бабушка, Финиста—ясна сокола.
— О красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за тридевять земель, в тридевятом государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу — бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать — не продавай. Просись Финиста — ясна сокола повидать.
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал:
— Не бойся, Марьюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся.
Потерся кот спинкой и был таков, а Марьюшка пошла дальше. А лес стал еще темней.
Шла, шла Марьюшка, башмаки железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит.
Говорит Марьюшка:
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.
Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос.
Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?
— Ищу, бабушка, Финиста — ясна сокола.
— А у моей сестры была?
— Была, бабушка.
— Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать — не продавай. Просись Финиста — ясна сокола повидать.
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марьюшке. Глядь, собака бежит:
— Ав, ав, Марьюшка, не бойся, родная, иди. Будет еще страшнее, не оглядывайся.
Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает… Идет Марьюшка, идет и назад не оглянется.
Долго ли, коротко ли шла — башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках, вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа и каждый череп огнем горит.
Говорит Марьюшка:
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом!
Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит.
Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела:
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела пытаешь?
— Ищу, бабушка, Финиста — ясна сокола.
— Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет, потянется нитка не простая, а золотая.
— Спасибо тебе, бабушка.
— Ладно, спасибо после скажешь, а теперь слушай, что тебе накажу: будут золотое веретенце покупать — не продавай, а просись Финиста — ясна сокола повидать.
Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла, а лес зашумел, загудел: поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли—да все на Марьюшку. И видит Марьюшка — бежит навстречу серый волк.
— Не горюй, — говорит он, — а садись на меня и не оглядывайся.
Села Марьюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконца узорчатые, а в оконце царица глядит.
— Ну, — говорит волк, — слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуги.
Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марьюшка царице и говорит:
— Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница?
Отвечает царица:
Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.
— Все это я могу делать.
— Тогда проходи и садись за работу.
И стала Марьюшка работницей. День работает, а наступит ночь — возьмет Марьюшка серебряное блюдечко золотое яичко и скажет:
— Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого.
Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист — ясный сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается:
— Финист мой, Финист — ясный сокол, зачем ты меня оставил одну, горькую, о тебе плакать!
Подслушала царица ее слова и говорит:
— Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко.
— Нет, — говорит Марьюшка, — они не продаются. Могу я тебе их отдать, если позволишь на Финиста — ясна сокола поглядеть.
Подумала царица, подумала.
— Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу.
Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к Финисту — ясну соколу. Видит она — спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белой, — спит не пробудится сердечный друг.
Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого…
Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит вышивает, сама приговаривает:
— Вышивайся, вышивайся, узор, для Финиста — ясна сокола. Было бы чем ему по утрам вытираться.
Подслушала царица и говорит:
— Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку.
— Я не продам, — говорит Марьюшка, — а так отдам, разреши только с Финистом — ясным соколом свидеться.
Подумала та, подумала.
— Ладно, — говорит, — так и быть, приходи ночью.
Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к Финисту — ясну соколу, а тот спит сном непробудным.
— Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!
Спит Финист — ясный сокол крепким сном. Будила его Марьюшка — не добудилась.
Наступает день.
Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала: продай да продай!
— Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с Финистом — ясным соколом хоть часок побыть.
— Ладно, — говорит та.
А сама думает: «Все равно не разбудит».
Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту — ясну соколу, а тот спит сном непробудным.
— Финист ты мой — ясный сокол, встань, пробудись!
Спит Финист, не просыпается.
Будила, будила — никак не может добудиться, а рассвет близко.
Заплакала Марьюшка:
— Любезный ты мой Финист — ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми!
Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста — ясна сокола и обожгла. Очнулся Финист — ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал:
— Неужели это ты, Марьюшка! Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных истрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину.
Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить.
Собрались князья да купцы, стали совет держать, как Финиста — ясна сокола наказать.
Тогда Финист — ясный сокол говорит:
— Которая, по-вашему, настоящая жена: та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает?
Согласились все, что жена Финиста — ясна сокола — Марьюшка.
И стали они жить-поживать да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.
Сказка о молодильных яблоках и живой воде
В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына: старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном.
Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой, Если съесть старику это яблоко — помолодеет, а водой этой умыть глаза слепцу — будет видеть.
Царь собирает пир на весь мир, зовет на пир князей и бояр и говорит им:
— Кто бы, ребятушки, выбрался из избранников, выбрался из охотников, съездил за тридевять земель, в тридесятое царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.
Тут больший стал хорониться за середнего, а середний за меньшого, а от меньшого ответу нет.
Выходит царевич Федор и говорит:
— Неохота нам в люди царство отдавать. Я поеду в эту дорожку, привезу тебе, царю-батюшке, молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец.
Пошел Федор-царевич на конюший двор, выбирает себе коня неезженого, уздает узду неузданую, берет плетку нехлестаную, кладет двенадцать подпруг с подпругою — не ради красы, а ради крепости… Отправился Федор-царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился…
Ехал он близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, ехал день до вечеру — красна солнышка до закату. И доезжает до росстаней, до трех дорог. Лежит на росстанях плита-камень, на ней надпись написана:
«Направо поедешь-себя спасать, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь — женату быть».
Поразмыслил Федор-царевич: — «Давай поеду — где женату быть».
И повернул на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица и говорит ему:
— Царский сын, я тебя из седла выну, иди со мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.
— Нет, девица, хлеба-соли я не хочу, а сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.
— Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать, что тебе любо-дорого.
Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела. Накормила его, напоила и спать на кровать положила.
Только лег Федор-царевич к стенке, эта девица живо кровать повернула, он и полетел в подполье, в яму глубокую…
Долго ли, коротко ли, — царь опять собирает пир, зовет князей и бояр и говорит им:
— Вот, ребятушки, кто бы выбрался из охотников — привезти мне молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.
Тут опять больший хоронится за середнего, а середний за меньшого, а от меньшого ответу нет.
Выходит второй сын, Василий-царевич:
— Батюшка, неохота мне царство в чужие руки отдавать. Я поеду в дорожку, привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
Идет Василий-царевич на конюший двор, выбирает коня неезженого, уздает узду неузданую, берет плетку нехлестаную, кладет двенадцать подпруг с подпругою.
Поехал Василий-царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился… Вот он доезжает до росстаней, где лежит плита-камень, и видит:
«Направо поедешь-себя спасать, коня потерять.
Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь — женату быть».
Думал, думал Василий-царевич и «поехал дорогой, где женатому быть. Доехал до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица и просит его откушать хлеба-соли и лечь почивать.
— Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать, что тебе любо-дорого…
Тут она его из седла вынула, в терем повела, накормила, напоила и спать положила.
Только Василий-царевич лег к стенке, она опять повернула кровать, и он полетел в подполье.
А там спрашивают:
— Кто летит?
— Василий-царевич. А кто сидит?
— Федор-царевич.
— Вот, братан, попали!
Долго ли, коротко ли, — в третий раз царь собирает пир, зовет князей и бояр:
— Кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец? Я бы этому седоку полцарства отписал.
Тут опять больший хоронится за середнего, середний за меньшого, а от меньшого ответу нет.
Выходит Иван-царевич и говорит:
— Дай мне, батюшка, благословеньице, с буйной головы до резвых ног, ехать в тридесятое царство — поискать тебе молодильных яблок и живой воды, да поискать еще моих братьецев.
Дал ему царь благословеньице. Пошел Иван-царевич в конюший двор — выбрать себе коня по разуму. На которого коня ни взглянет, тот дрожит, на которого руку положит — тот с ног валится…
Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-задворенка.
— Здравствуй, дитятко, Иван-царевич! Что ходишь кручинен-печален?
— Как же мне, бабушка, не печалиться — не могу найти коня по разуму.
— Давно бы ты меня спросил. Добрый конь стоит закованный в погребу, на цепи железной. Сможешь его взять — будет тебе конь по разуму.
Приходит Иван-царевич к погребу, пнул плиту железную, свернулась плита с погреба. Вскочил ко добру коню, стал ему конь своими передними ногами на плечи. Стоит Иван-царевич — не шелохнется. Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его обуздал уздою неузданой, оседлал седельцем неезженым, наложил двенадцать подпруг с подпругою — не ради красы, ради славушки молодецкой.
Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садится, а не видели, в кою сторону укатился… Доехал он до росстаней и поразмыслил:
«Направо ехать — коня потерять, — куда мне без коня-то? Прямо ехать — женату быть, — не за тем я в путь-дорогу выехал. Налево ехать — коня спасти, — эта дорога самая лучшая для меня».
И поворотил он по той дороге, где коня спасти — себя потерять. Ехал он долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, по зеленым лугам, по каменным горам, ехал день до вечеру — красна солнышка до закату — и наезжает на избушку.
Стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке.
— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга, старых лет. Шелковый кудель мечет, а нитки через грядки броеает.
— Фу, фу, — говорит, — русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
А Иван-царевич ей:
— Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу — теребишь, не узнавши молодца — хулишь. Ты бы сейчас вскочила да меня, добра молодца, дорожного человека, накормила, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать — чей да откуда.
Вот баба-яга это дело все справила — Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Села к изголовью и стала спрашивать:
— Чей ты, дорожный человек, добрый молодец, да откуда? Какой ты земли? Какого отца, матери сын?
— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за тридевять земель, за тридевять озер, в тридесятое царство за живой водой и молодильными яблоками.
— Ну, дитя мое милое, далеко же тебе ехать: живая вода и молодильные яблоки — у сильной богатырки девицы Синеглазки, она мне родная племянница. Не знаю, получишь ли ты добро…
— А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам, направь меня на ум-разум.
— Много молодцев проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня. Мой конь будет бойчее, довезет он тебя до моей середней сестры, она тебя научит.
Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько. Благодарит бабу-ягу за ночлег и поехал на ее коне.
Вдруг он и говорит коню:
— Стой! Перчатку обронил.
А конь отвечает:
— В кою пору ты говорил, я уже двести верст проскакал…
Едет Иван-царевич близко ли, далеко ли. День до ночи коротается. И завидел он впереди избушку на курьей ножке, об одном окошке.
— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Как мне в тебя зайти, так и выйти.
Избушка повернулась к лесу задом, к нему передом. Вдруг слышно — конь заржал, и конь под Иваном-царевичем откликнулся.
Кони-то были одностадные. Услышала это баба-яга — еще старее той — и говорит:
— Приехала ко мне, видно, сестрица в гости.
И выходит на крыльцо:
— Фу-фу, русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
А Иван-царевич ей:
— Ах ты, баба-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека, накормила, напоила и спать уложила…
Баба-яга это дело все справила — коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда путь держит.
— Я, бабушка, из такого-то царства, из такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице Синеглазке…
— Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро.
Мудро тебе, мудро добраться до девицы Синеглазки!
— А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам, направь меня на ум-разум.
— Много молодцев проезживало, да не много вежливо говаривало. Возьми, дитятко, моего коня, поезжай к моей старшей сестре. Она лучше меня научит, что делать.
Вот Иван-царевич заночевал у этой старухи, поутру встает ранехонько, умывается белешенько. Благодарит бабу-ягу за ночлег и поехал на ее коне. А этот конь еще бойчей того.
Вдруг Иван-царевич говорит:
— Стой! Перчатку обронил.
А конь отвечает:
— В кою пору ты говорил, я уж триста верст проскакал…
Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера — красна солнышка до закату. Наезжает на избушку на курьей ножке, об одном окошке.
— Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом! Мне не век вековать, а одну ночь ночевать.
Вдруг заржал конь, и под Иваном-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, старых лет, еще старее той. Поглядела — конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный…
Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Делать нечего! Ночлега с собой не возят — ночлег каждому: и пешему и конному, и бедному и богатому.
Баба-яга все дело справила — коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила и стала спрашивать, кто он да откуда и куда путь держит.
— Я, бабушка, такого-то царства, такого-то государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры, она послала к середней, а середняя к тебе послала. Дай свою голову моим могутным плечам, направь меня на ум-разум, как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок.
— Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица
Синеглазка, моя племянница, — сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства — стена три сажени вышины, сажень толщины, у ворот стража — тридцать богатырей. Тебя и в ворота не пропустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены — бей коня по бокам плетью нехлестаной. Конь через стену перескочит. Ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. Три яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. Девица Синеглазка будет спать, ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет.
Иван-царевич не стал ночевать у этой старухи, а сел на ее доброго коня и поехал в ночное время. Этот конь поскакивает, мхи-болота перескакивает, реки, озера хвостом заметает.
Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, доезжает Иван-царевич в середине ночи до высокой стены. У ворот стража спит — тридцать могучих богатырей Прижимает он своего доброго коня, бьет его плетью нехлестаной. Конь осерчал и перемахнул через стену. Слез Иван-царевич с коня, входит в сад и видит — стоит яблоня с серебряными листьями, золотыми яблоками, а под яблоней колодец. Иван-царевич сорвал три яблока, а больше не стал брать да зачерпнул из колодца живой воды кувшинец о двенадцати рылец. И захотелось ему самою увидать, сильную, могучую, богатырку, девицу Синеглазку.
Входит Иван-царевич в терем, а там спят — по одну сторону шесть полениц — девиц-богатырок и по другую сторону шесть, а посредине разметалась девица Синеглазка, спит, как сильный речной порог шумит.
Не стерпел Иван-царевич, приложился, поцеловал ее и вышел… Сел на доброго коня, а конь говорит ему человеческим голосом:
— Не послушался, ты, Иван-царевич, вошел в терем к девице Синеглазке. Теперь мне стены не перескочить.
Иван-царевич бьет коня плетью нехлестаной.
— Ах ты, конь, волчья сыть, травяной мешок, нам здесь не ночь ночевать, а голову потерять!
Осерчал конь пуще прежнего и перемахнул через стену, да задел об нее одной подковой — на стене струны запели и колокола зазвонили.
Девица Синеглазка проснулась да увидала покражу:
— Вставайте, у нас покража большая!
Велела она оседлать своего богатырского коня и кинулась с двенадцатью поленицами в погоню за Иваном-царевичем.
Гонит Иван-царевич во всю прыть лошадиную, а девица Синеглазка гонит за ним. Доезжает он до старшей бабы-яги, а у нее уже конь выведенный, готовый. Он — со своего коня да на этого и опять вперед погнал… Иван то царевич за дверь, а девица Синеглазка — в дверь и спрашивает у бабы-яги:
— Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
— Нет, дитятко.
— Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
— Нет, дитятко. А ты с пути-дороги поешь молочка.
— Поела бы я, бабушка, да долго корову доить.
— Что ты, дитятко, живо справлюсь…
Пошла баба-яга доить корову — доит, не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем.
Доезжает Иван-царевич до середней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он — за дверь, а девица Синеглазка — в дверь:
— Бабушка, не проскакивал ли зверь, не проезжал ли добрый молодец?
— Нет, дитятко. А ты бы с пути-дороги поела блинков.
— Да ты долго печь будешь.
— Что ты, дитятко, живо справлю…
Напекла баба-яга блинков — печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погнала за Иваном-царевичем.
Он доезжает до младшей бабы-яги, слез с коня, сел на своего коня богатырского и опять погнал. Он — за дверь, девица Синеглазка — в дверь и спрашивает у бабы-яги, не проезжал ли добрый молодец.
— Нет, дитятко. А ты бы с пути-дороги в баньке попарилась.
— Да ты долго топить будешь.
— Что ты, дитятко, живо справлю…
Истопила баба-яга баньку, все изготовила. Девица Синеглазка попарилась, обкатилась и опять погнала в сугон. Конь ее с горки на горку поскакивает, реки, озера хвостом заметает. Стала она Ивана-царевича настигать.
Он видит за собой погоню: двенадцать богатырок с тринадцатой — девицей Синеглазкой — ладят на него наехать, с плеч голову снять. Стал он коня приостанавливать, девица Синеглазка наскакивает и кричит ему:
— Что ж ты, вор, без спросу из моего колодца пил да колодец не прикрыл!
А он ей:
— Что ж, давай разъедемся на три прыжка лошадиных, давай силу пробовать.
Тут Иван-царевич и девица Синеглазка заскакали на три прыжка лошадиных, брали палицы боевые, копья долгомерные, сабельки острые. И съезжались три раза, палицы поломали, копья-сабли исщербили — не могли друг друга с коня сбить. Незачем стало им на добрых конях разъезжаться, соскочили они с коней и схватились в охапочку.
Боролись с утра до вечера — красна солнышка до закату. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась, упал он на сыру землю. Девица Синеглазка стала коленкой на его белу грудь и вытаскивает кинжалище булатный — пороть ему белу грудь. Иван-царевич и говорит ей:
— Не губи ты меня, девица Синеглазка, лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
Тут девица Синеглазка подняла Ивана-царевича со сырой земли и поцеловала в уста сахарные. И раскинули они шатер в чистом поле, на широком раздолье, на зеленых лугах. Тут они гуляли три дня и три ночи. Здесь они и обручились и перстнями обменялись.
Девица Синеглазка ему говорит:
— Я поеду домой — и ты поезжай домой, да смотри никуда не сворачивай… Через три года жди меня в своем царстве.
Сели они на коней и разъехались… Долго ли, коротко ли, не скоро дело делается, скоро сказка сказывается, — доезжает Иван-царевич до росстаней, до трех дорог, где плита-камень, и думает:
«Вот нехорошо! Домой еду, а братья мои пропадают без вести».
И не послушался он девицы Синеглазки, своротил на ту дорогу, где женатому быть… И наезжает на терем под золотой крышей. Тут под Иваном-царевичем конь заржал, и братьевы кони откликнулись. Кони-то были одностадные…
Иван-царевич взошел на крыльцо, стукнул кольцом — маковки на тереме зашатались, оконницы покривились. Выбегает прекрасная девица.
— Ах, Иван-царевич, давно я тебя поджидаю! Иди со мной хлеба-соли откушать и спать-почивать.
Повела его в терем и стала потчевать. Иван-царевич, не столько ест, сколько под стол кидает, не столько пьет, сколько под стол льет. Повела его прекрасная девица в спальню:
— Ложись, Иван-царевич, спать-почивать.
А Иван-царевич столкнул ее на кровать, живо кровать повернул, девица и полетела в подполье, в яму глубокую.
Иван-царевич наклонился над ямой и кричит:
— Кто там живой?
А из ямы отвечают:
— Федор-царевич да Василий-царевич.
Он их из ямы вынул — они лицом черны, землей уж стали порастать. Иван-царевич умыл братьев живой водой — стали они опять прежними.
Сели они на коней и поехали… Долго ли, коротко ли, доехали до росстаней. Иван-царевич и говорит братьям:
— Покараульте моего коня, а я лягу отдохну.
Лег он на шелковую траву и богатырским сном заснул. А Федор-царевич и говорит Василию-царевичу:
— Вернемся мы без живой воды, без молодильных яблок — будет нам мало чести, нас отец пошлет гусей пасти.
Василий-царевич отвечает:
— Давай Ивана-царевича в пропасть спустим, а эти вещи возьмем и отцу в руки отдадим.
Вот они у него из-за пазухи вынули молодильные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и бросили в пропасть. Иван-царевич летел туда три дня и три ночи.
Упал Иван-царевич на самое взморье, опамятовался и видит — только небо и вода, и под старым дубом у моря птенцы пищат — бьет их погода.
Иван-царевич снял с себя кафтан и птенцов покрыл. а сам укрылся под дуб.
Унялась погода, летит большая птица Нагай. Прилетела, под дуб села и спрашивает птенцов:
— Детушки мои милые, не убила ли вас погодушка-ненастье?
— Не кричи, мать, нас сберег русский человек, своим кафтаном укрыл.
Птица Нагай спрашивает Ивана-царевича:
— Для чего ты сюда попал, милый человек?
— Меня родные братья в пропасть бросили за молодильные яблоки да за живую воду.
— Ты моих детей сберег, спрашивай у меня, чего хочешь: злата ли, серебра ли, камня ли драгоценного.
— Ничего, Нагай-птица, мне не надо: ни злата, ни серебра, ни камня драгоценного. А нельзя ли мне попасть в родную сторону?
Нагай-птица ему отвечает:
— Достань мне два чана — пудов по двенадцати — мяса.
Вот Иван-царевич настрелял на взморье гусей, лебедей, в два чана поклал, поставил один чан Нагай-птице на правое плечо, а другой чан — на левое, сам сел ей на хребет. Стал птицу Нагай кормить, она поднялась и летит в вышину.
Она летит, а он ей подает да подает… Долго ли, коротко ли так летели, скормил Иван-царевич оба чана. А птица Нагай опять оборачивается. Он взял нож, отрезал у себя кусок с ноги и Нагай-птице подал. Она летит, летит и опять оборачивается. Он с другой ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко лететь осталось. Нагай-птица опять оборачивается. Он с груди у себя мясо срезал и ей подал.
Тут Нагай-птица донесла Ивана-царевича до родной стороны.
— Хорошо ты кормил меня всю дорогу, но слаще последнего кусочка отродясь не едала.
Иван-царевич ей и показывает раны. Нагай-птица рыгнула, три куска вырыгнула:
— Приставь на место.
Иван-царевич приставил — мясо и приросло к костям.
— Теперь слезай с меня, Иван-царевич, я домой полечу.
Поднялась Нагай-птица в вышину, а Иван-царевич пошел путем-дорогой на родную сторону.
Пришел он в столицу и узнает, что Федор-царевич и Василий-царевич привезли отцу живой воды и молодильных яблок и царь исцелился: по-прежнему стал здоровьем крепок и глазами зорок.
Не пошел Иван-царевич к отцу, к матери, а собрал он пьяниц, кабацкой голи и давай гулять по кабакам.
В ту пору за тридевять земель, в тридесятом царстве сильная богатырка Синеглазка родила двух сыновей. Они растут не по дням, а по часам. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается — прошло три года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича.
Пришла она в его царство и в чистом поле, в широком раздолье, на зеленых лугах раскинула шатер белополотняный. От шатра дорогу устелила сукнами цветными. И посылает в столицу царю сказать:
— Царь, отдай царевича. Не отдашь, — все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
Царь испугался и посылает старшего — Федорацаревича. Идет Федор-царевич по цветным сукнам, подходит к шатру белополотняному. Выбегают два мальчика:
— Матушка, матушка, это не наш ли батюшка идет?
— Нет, детушки, это ваш дяденька.
— А что прикажешь с ним делать?
— А вы, детушки, угостите его хорошенько.
Тут эти двое пареньков взяли трости и давай хлестать Федора-царевича пониже спины. Били, били, он едва ноги унес.
А Синеглазка опять посылает к царю:
— Отдай царевича…
Пуще испугался царь и посылает середнего — Василия-царевича. Он приходит к шатру. Выбегают два мальчика:
— Матушка, матушка, это не наш ли батюшка идет?
— Нет, детушки, это ваш дяденька. Угостите его хорошенько.
Двое пареньков опять давай дядю тростями чесать. Били, били, Василий-царевич едва ноги унес.
А Синеглазка в третий раз посылает к царю:
— Ступайте, ищите третьего сынка, Ивана-царевича. Не найдете — все царство потопчу, пожгу.
Царь еще пуще испугался, посылает за Федором-царевичем и Василием-царевичем, велит им найти брата, Ивана-царевича. Тут братья упали отцу в ноги и во всем повинились: как у сонного Ивана-царевича взяли живую воду и молодильные яблоки, а самого бросили в пропасть.
Услышал это царь и залился слезами. А в ту пору Иван-царевич сам идет к Синеглазке, и с ним идет голь кабацкая. Они под ногами сукна рвут и в стороны мечут.
Подходит он к белополотняному шатру. Выбегают два мальчика:
— Матушка, матушка, к нам какой-то пьяница идет с голью кабацкой!
А Синеглазка им:
— Возьмите его за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка. Он безвинно три года страдал.
Тут Ивана-царевича взяли за белые руки, ввели в шатер. Синеглазка его умыла и причесала, одежу на нем сменила и спать уложила. А голи кабацкой по стаканчику поднесла, и они домой отправились.
На другой день Синеглазка и Иван-царевич приехали во дворец. Тут начался пир на весь мир — честным пирком да и за свадебку. Федору-царевичу и Василию-царевичу мало было чести, прогнали их со двора — ночевать где ночь, где две, а третью и ночевать негде…
Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство.
Тут и сказке конец.
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.


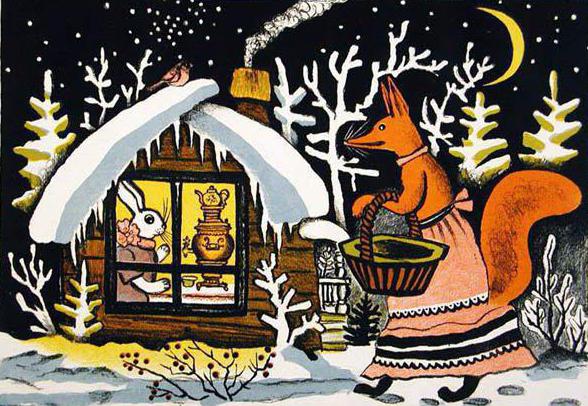

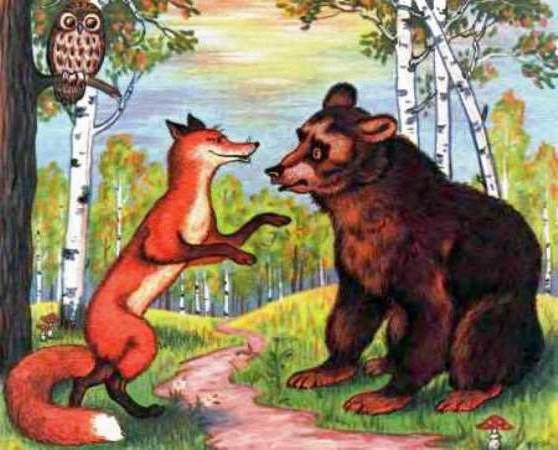
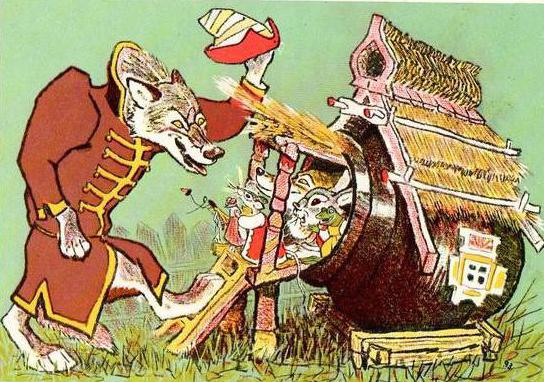
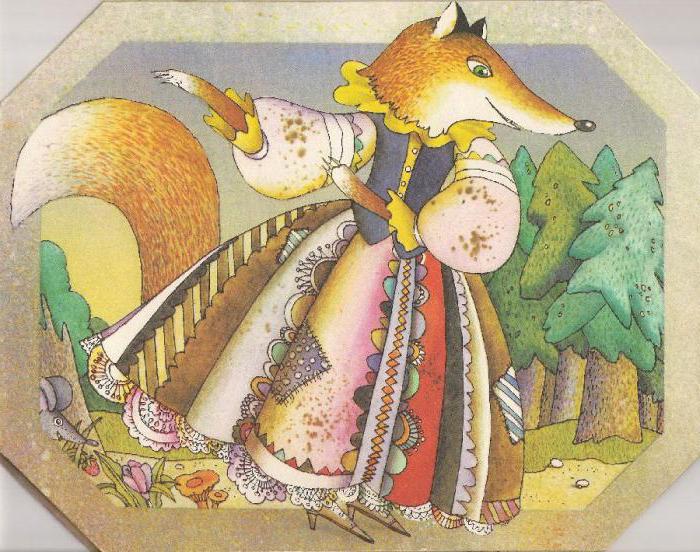



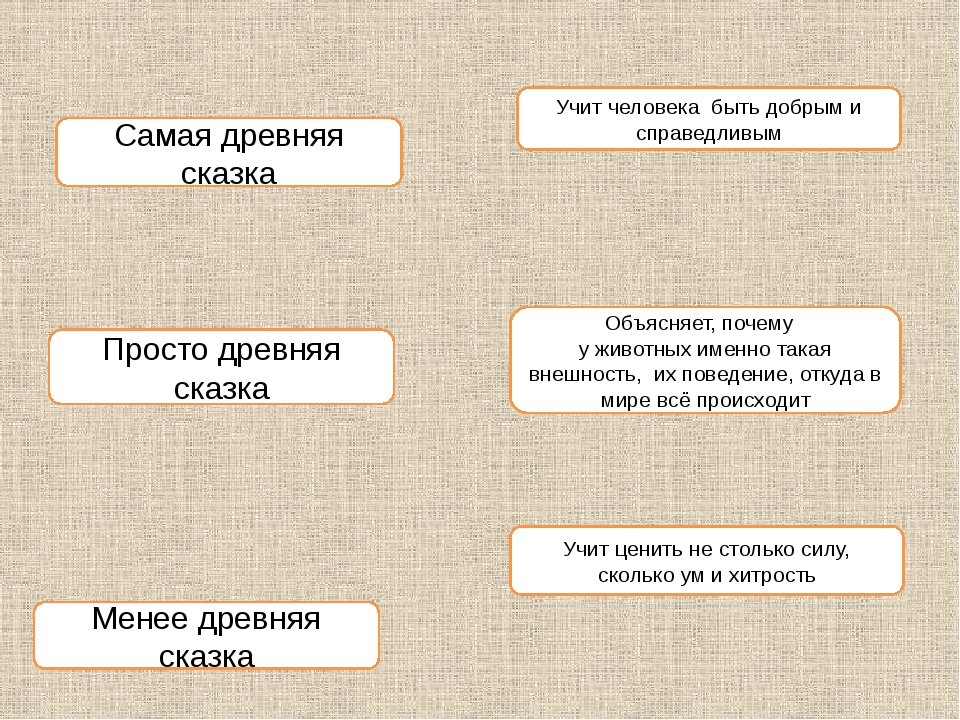

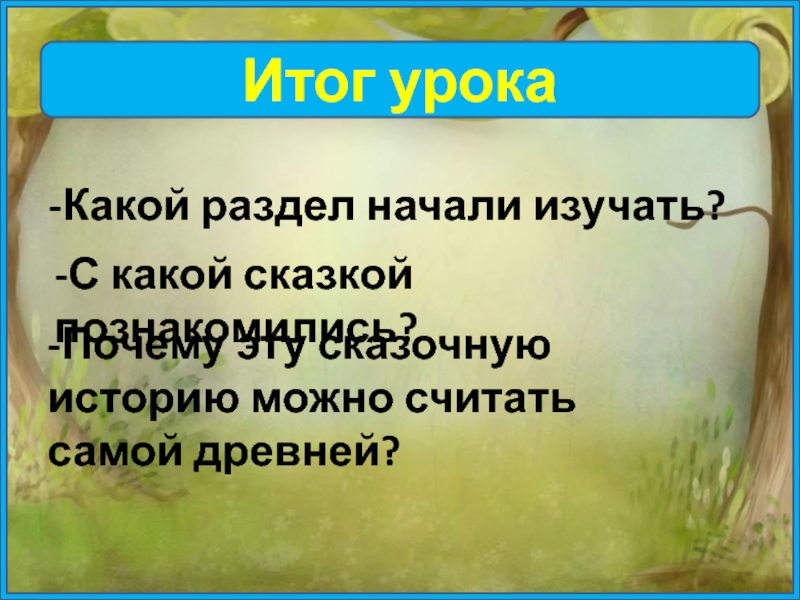 Про инициацию – это оттуда.
Про инициацию – это оттуда. почему летучая мышь слепа или летает только ночью), почему и как возникли определенные природные явления (например, почему появляется радуга или как созвездие Ориона попало в небо), как и почему начались ритуалы и церемонии и почему они продолжаются. (778)
почему летучая мышь слепа или летает только ночью), почему и как возникли определенные природные явления (например, почему появляется радуга или как созвездие Ориона попало в небо), как и почему начались ритуалы и церемонии и почему они продолжаются. (778)  Он сталкивается с той же проблемой, что и мир: поскольку систематическое изучение мира нам не по силам, мы должны довольствоваться простыми практическими правилами и аспектами, которые нас особенно интересуют. Каждый создает для себя свой сегмент мира и строит свою собственную частную систему, часто с герметичными отсеками, так что через некоторое время ему кажется, что он уловил смысл и структуру целого. Но конечное никогда не сможет охватить бесконечное. (23-24)
Он сталкивается с той же проблемой, что и мир: поскольку систематическое изучение мира нам не по силам, мы должны довольствоваться простыми практическими правилами и аспектами, которые нас особенно интересуют. Каждый создает для себя свой сегмент мира и строит свою собственную частную систему, часто с герметичными отсеками, так что через некоторое время ему кажется, что он уловил смысл и структуру целого. Но конечное никогда не сможет охватить бесконечное. (23-24)  Г. Фрейзер и Джейн Харрисон
Г. Фрейзер и Джейн Харрисон