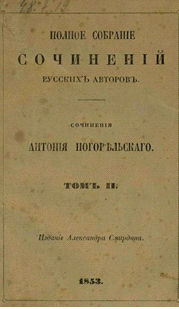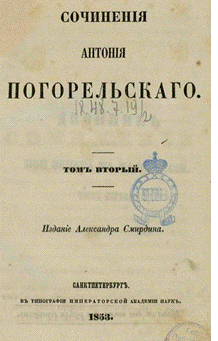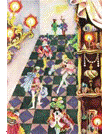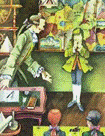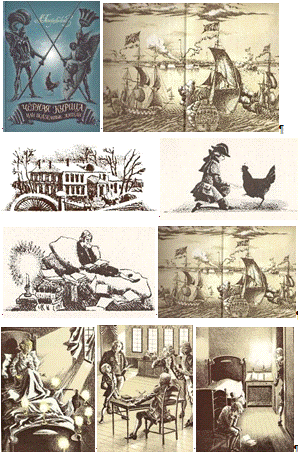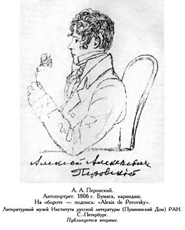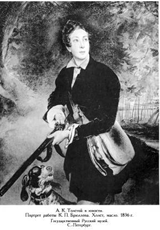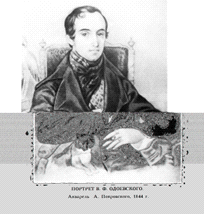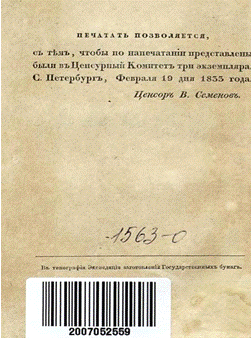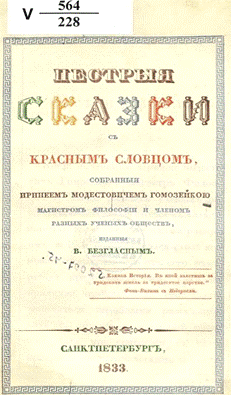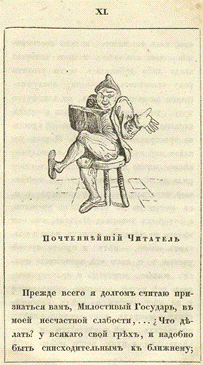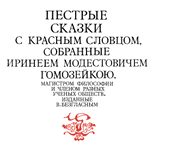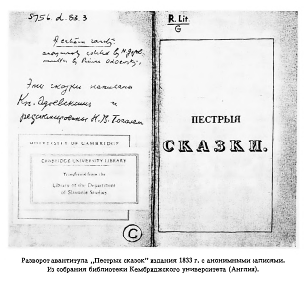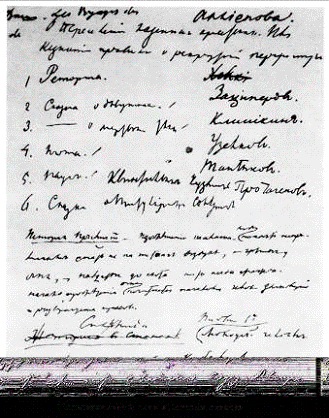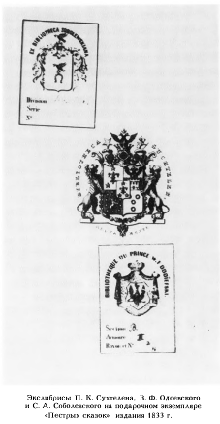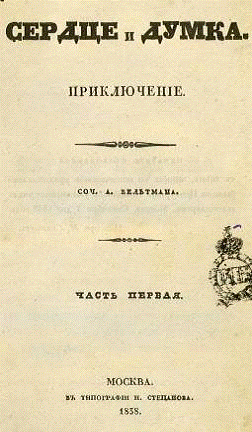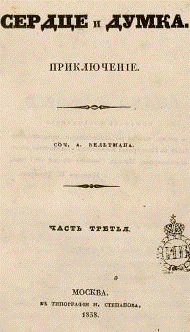Жанр литературной сказки в творчестве А. Погорельского, В.Ф. Одоевского, А.Ф. Вельтмана
Введение
Слово «сказка» знакомо каждому человеку с
детства. «Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор
чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном.
«В некотором царстве, в неведомом государстве, за тридевять земель… За
горами, за делами, за синими морями… Царь-Девица, Василиса Премудрая…» —
такими словами отзывается о сказке главный герой романа И.А. Бунина «Жизнь
Арсеньева». Действительно, новый, непривычный и непознанный мир «пленяет»
читателя или слушателя, приглашая окунуться в ирреальное, мифопоэтическое
пространство. Однако термин «сказка», и особенно его разновидность ―
«литературная
сказка», кажется многим сложным и трудно определимым.
Проблема специфики литературной сказки и отличие
её от фольклорной — одна из основных в литературоведении. Несмотря на
разнообразие точек зрения, наука не пришла к единому мнению по поводу
определения этого жанра, что обусловлено своеобразным и многоплановым развитием
жанровой системы русской прозы в целом. Говоря о жанре как общем понятии,
свойственном определенной группе произведений, характеризующихся своей
проблематикой, спецификой, тематикой, необходимо выявить черты, присущие жанру
литературной сказки.
Этимологически слово сказка засвидетельствовано
не ранее XVII века, первоначально имеющее значение «баснь», съказъка —
производное от общеславянского казати — «говорить, показывать» [119,199];
определение «литературная» восходит к латинскому litera — производное от lino —
«марать, мазать»; первоначальное значение — «помарка, мазок», затем — «буква»,
заимствовано в XVIII веке [119,120]. Таким образом, наблюдается соединение двух
значений: устного и письменного, что представляет сложность в исследовании
жанра. В начале XIX века сказка была выделена в особый тип произведения,
характеризующимся наличием народных основ и «несбыточных чудесностей».
Исследователь литературной сказки О.И. Зворыгина
в статье «Проблема жанра русской литературной сказки» указала на два
направления в «теорико-литературной интерпретации сказочного жанра» [51,246].
Первое направление — «рассмотрение эволюции сказочной традиции в движении от
волшебной сказки к новелле и некоторым видам романа». Приверженцами данной
теории были М.Н. Липовецкий, И.П. Смирнов, Н.Н. Петрунина и др. Второе направление
— «восприятие жанра как специфической конкретно-исторической художественной
формы», характерной для определенной эпохи, где основной чертой является
«занимательное повествование в прозе или стихах», — точка зрения А.Н. Соколова,
Я. Ходниабдич. Проблема возрождения жанровой традиции сказки представляла
интерес для многих исследователей. По мнению М.Н. Липовецкого, Т.Г. Леоновой,
М.М. Мещеряковой, В.А. Бегака, авторская сказка включает в себя элементы
повести, утопии, басни, притчи, философского романа и др.: «…в целом
художественные миры литературных сказок всегда формируются в результате
взаимодействия волшебно-сказочной жанровой памяти с моделями мира,
свойственными «новым» жанрам» [64‚24].
М.Н. Липовецкий предложил вместо традиционного
сравнительного анализа применить анализ типологический и ориентирует свое
исследование на использование понятия «память жанра». Л.В. Овчинникова
придерживалась определения литературной сказки как «фольклорно обусловленной
литературной формы». Она охарактеризовала её как многожанровый вид литературы,
указывая на своеобразие художественного вымысла, повествовательной формы,
самобытность героев и сюжетов в каждом произведении. При этом подразделила
сказки на фольклорно-литературные (Б. Шергин, С. Писахов, А. Толстой, А. Платонов,
Е. Шварц) и индивидуально-авторские (А. Волков, Ю. Олеша, К. Чуковский, Н.
Носов, Л. Кэрролл, А. Милн, Дж. Барри). Также исследователю принадлежит
классификация литературной сказки по функционально-тематическим группам:
философские (относятся к содержательной стороне произведения),
философско-лирические, романтические (относятся к методу творчества),
научно-фантастические, игровые, познавательные (важны и цель написания
произведения, и способ подачи материала) [80].
Заметим, что фольклор проявляется в литературной
сказке на уровне речевых единиц, в сохранении просторечных и разговорных
лексем, народно-поэтической речи, поэтический и прозаический текст может
содержать поговорки, загадки, пословицы, песни и т.п. И.В. Цикушева указала на
схожесть авторской и фольклорной сказки по тематике (сказки о животных,
волшебные, бытовые), по пафосу (героические, лирические, юмористические,
сатирические, философские, психологические), по близости к другим литературным
жанрам (сказки-новеллы, сказки-повести, сказки-притчи, сказки-пьесы,
сказки-пародии, научно-фантастические сказки и др.) [109,22].
В XX веке появилось несколько определений жанра
литературной сказки. Украинский советский писатель Ю.Ф.Ярмыш в статье «О жанре
мечты и фантазии» определил авторскую сказку как «жанр литературного
произведения, в котором в волшебно-фантастическом или аллегорическом развитии
событий, и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах в прозе, стихах или
драматургии решаются морально-этические и эстетические проблемы» [115,179]. Из
этого определения следует, что основополагающими признаками жанра являются
аллегория и фантастика, но следует заметить, что иносказание как троп
используется также в баснях, притчах, повести, а фантастическое начало мы видим
в балладах, романтических новеллах. Исходя из этого, названные черты можно
отнести к одним из жанрообразующих, но не основным.
На авторское начало в определении понятия
указала доктор филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,
известный пушкинист И.З. Сурат. По её словам, литературная сказка — это «жанр,
соединяющий в себе черты индивидуального авторского творчества с использованием
в большей или меньшей степени некоторых фольклорных канонов — образных,
сюжетно-композиционных, стилистических» [99,263].
Одна из ведущих отечественных исследователей
зарубежной литературной сказки Л.Ю.Брауде дала своё определение жанра:
«Литературная сказка — авторское, художественное прозаическое или поэтическое
произведение, основанное либо на фольклорных принципах, либо сугубо оригинальное;
произведение преимущественно фантастическое, волшебное, рисующее чудесные
приключения вымышленных и традиционных сказочных героев и, в некоторых случаях,
ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль
сюжетообразующего фактора, служит отправной точкой характеристики персонажа»
[36,234]. Здесь наиболее полно и точно отражены жанрообразующие элементы
литературной сказки.
Т. Г. Леонова — член Академии гуманитарных наук,
член Научного совета по фольклору РАН — среди специфических признаков жанра
выделила следующие: многофункциональность; оригинальность образности,
обусловленной наличием фантастики; особенности сюжетно-композиционной
структуры, таких, как замкнутость и устойчивость формы, движение сюжета в
условиях времени и пространстве, неожиданность сюжетных ситуаций и поворотов,
повторяемость однородных действий [62,195].
Таким образом, основополагающими чертами
литературной сказки как жанра мы можем назвать:
•наличие конкретного автора произведения и
своеобразие его творческой личности;
•аллюзии к фольклорным, волшебным и сказочным
мотивам;
•совмещение реального и ирреального
пространства;
•отражение нравственных и морально-эстетических
норм, социально-политических реалий времени автора;
•присутствие игрового начала;
• сосуществование реальных и мифических,
сказочных героев.
Русская художественная литература XIX века
насыщена сказками, но в этом направлении до конца не изучена. Воплощением
стихотворной формы жанра являются сказки В.А. Жуковского («Мальчик с пальчик»,
«Сказка о царе Берендее», «Сказка об Иване царевиче и сером волке», «Кот и в
сапогах» и др.) и А.С. Пушкина («Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о спящей царевне и семи
богатырях»). Элементы романтической сказки включает проза Гоголя («Вечера на
хуторе близ Диканьки», «Вий»), сказки молодого А. К. Толстого («Упырь» и др.).
Использование сказки для пропаганды националистических идей мы встречаем у К.С.
Аксакова («Сказка о Вадиме») и В.И. Даля (том «Русская сказка»). К
морализирующим можно отнести сказки Л. Н. Толстого («Сказка об Иване дураке и
трех чертенятах»), В.Г. Короленко («Сказание о Флоре, Агринне и Менахеме, сыне
Иегуды», «Восточная сказка»), В.М. Гаршина («Сказание о гордом Аггее») и др.
Аналогична ветвь сказок для детей у В.М. Гаршина («Сказка о жабе и розе»,
«Лягушка-путешественница»), Г.П. Данилевского («Живая свирель», «Смоляной
бычок», «Лесная хатка», «Ивашко», «Коротышка»), П.П. Ершова («Конек-Горбунок»),
В.Ф. Одоевского («Бедный Гнедко», «Мороз Иванович», «Сиротинка», «Городок в
табакерке»), Л. Н. Толстого (сказки в «Азбуке» и «Книгах для чтения»), Н.П.
Вагнера («Сказки Кота-Мурлыки») и др. Использование сказочных элементов для
политической и общественной сатиры характеризует сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина
(том «Сказки», «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист»,
«Как один мужик двух генералов прокормил» и др.), М. Горького («Русские сказки»
и др.) [121].
В данной работе нас будет интересовать развитие
жанра литературной сказки в творчестве писателей-романтиков XIX века, в
частности Антония Погорельского (Алексея Алексеевича Перовского), Владимира
Фёдоровича Одоевского и Александра Фомича Вельтмана.
Целью данной работы является выявление специфики
жанра литературной сказки в творчестве каждого из писателей: рассмотрение
сюжетных линий, персонажей, соотношения реальности и ирреальности в
произведении, способа проявления авторской позиции.
Задачи данного исследования:
•охарактеризовать литературное творчество
писателей в оценке современников и отечественного литературоведения;
•проследить этапы создания литературных сказок;
•рассмотреть взаимодействие реальной
действительности с миром фантастики;
•определить роль сказочных героев в
произведении;
•выявить своеобразие литературной сказки каждого
из авторов.
Объект исследования: литературная сказка А.
Погорельского, В.Ф. Одоевского, А.Ф. Вельтмана.
Предмет исследования: художественные особенности
литературной сказки, реальность и ирреальность и способы их выражения, роль
сказочных персонажей в произведениях А. Погорельского, В.Ф. Одоевского, А.Ф.
Вельтмана.
Материалом для исследования послужили «волшебная
повесть А.Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители», цикл В.Ф.
Одоевского «Пёстрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модетоичем
Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В.
Безгласым», роман-сказка В.Ф. Вельтмана «Сердце и думка».
литературная сказка погорельский одоевский
Теоретическая основа исследования: труды и
статьи известных учёных и ведущих литературоведов в области литературной
критики и творчества А. Погорельского: Д.М. Шевцовой, О.И. Тимоновой, М.А.
Турьян; в области литературной критики и творчества В.Ф. Одоевского: М.А.
Турян, П.Н. Сакулина; в области литературной критики и творчества А.Ф.
Вельтмана: А.В. Чернова, В.А. Кошелева.
В ходе данной работы были использованы следующие
методы: биографический метод, метод сквозного анализа текста, сравнительный
метод.
Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка литературы и приложения.
Глава I. Своеобразие литературной сказки
А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители»
Алексей Алексеевич Перовский (1787 — 1836),
публиковавшийся под псевдонимом Антоний Погорельский, известен в русской
литературе как прозаик, писатель-романтик, сказочник. Его творческое наследие
невелико, но оно сумело заслужить признание как современников писателя, так и
читателей XIX-XX вв. А. Погорельский внёс большой вклад в развитие детской
литературы. Широкую известность приобрела его волшебная литературная сказка
«Чёрная курица, или Подземные жители». Это произведение стало предметом нашего
исследования, поскольку оно отражает одну из основных сказочных линий с
нравоучительным началом и педагогической направленностью в литературном процессе
первой трети XIX века. В первой главе мы рассмотрим творческий путь
А.Погорельского, сопровождавшийся от начала до конца сказочными мотивами,
представим обзор существующей литературы по «Чёрной курице», проанализируем
соотношение реальности и ирреальности в тексте, их взаимосвязь с Алёшей,
определим нравственно-дидактические основы представлений автора.
§1. Литературная деятельность А.А. Перовского и
издание «Чёрной курицы…»
Путь в литературу А.А. Перовский начал ещё в
детстве, записывая свои сочинения в отдельную тетрадь. Тогда же проявился его
интерес к мистическому, что отразилось на манере его общения с друзьями и
предопределило появление образцовой литературной сказки «Чёрная курица, или
Подземные жители». Окончив в 1807 г. Московский университет со степенью доктора
философских и словесных наук, А.А.Перовский переводит на немецкий язык «Бедную
Лизу» Н.М. Карамзина и знакомится с ним лично, что предопределяет наличие
сентиментальных направлений художественной мысли в сказке и характер
литературных общений, повлиявший на его дальнейшее творчество. В этот же год
зарождается дружба с П.А. Вяземским, а позднее с В.А. Жуковским, сблизившим его
с А.И. Тургеневым и А.Ф. Воейковым. Среди московского окружения юный писатель
приобрел репутацию мистификатора и шутника, благодаря литературной игре в своих
письмах. Переправляя письмо П.Я Вяземскому в Москву А.И. Тургенев приписал:
«Посылаю ein Gegenstück для твоего
собрания писем от Перовского» [18,231]. П.А. Вяземский писал в «Старой записной
книжке»: «Алексей Перовский (Погорельский) был позднее удачный мистификатор. Он
однажды уверил сослуживца своего, что он великий мастер какой-то масонской ложи
и властью своею сопричисляет его к членам ее. Тут выдумывал он разные смешные
испытания, чрез которые новообращенный покорно и охотно проходил. Наконец
заставил он его расписаться в том, что он бобра не убил» [4,427]. Склонность к
фантастическому, нереальному и литературная игра писем А.А. Перовского положила
начало сказочным мотивам в творчестве писателя.
Активная государственная деятельность А.А.
Перовского впоследствии позволило ему познакомиться с зарубежной литературой,
повлиявшей на характер его сказочного творчества. С 1810 г. становится членом
«Общества любителей природы», «Общества истории и древностей российских» и
«Общества любителей российской словесности», предлагая А.А.
Прокоповичу-Антонскому, председателю последнего из них, свои шутливые
стихи-амфигури «Абдул-визирь» для публичного чтения, что также свидетельствует
о склонности к литературной игре и богатой авторской фантазии. Поступление в
1812 г. на военную службу предопределило сближение А.А. Перовского с
творчеством зарубежных сказочников. После взятия Лейпцига он был назначен
старшим адъютантом при генерал-губернаторе королевства Саксонского князе Н.Г.
Репнине-Волконском. В мае 1814 г. А.А. Перовский был переведен в Уланский полк,
стоявший в Дрездене. В Германии А.А. Перовский находился около двух лет, в
течение которых увлёкся немецким романтизмом, в частности творчеством Э. Т. А.
Гофмана, оказавшего значительное влияние на его творчество. Неоднократно
поднимался вопрос о личном знакомстве писателей. Данная гипотеза рассмотрена
И.Е. Бабановым и представляется маловероятной. Но неоспорим тот факт, что
литературная деятельность А. Погорельского положила начало «русской гофманиане»
[27].
После возвращения в Петербург круг литературных
знакомств А.А. Перовского расширяется: общение с Н.И. Гречем, членами
«Арзамаса», а также с А.С.Пушкиным. Влияние этого поэта и писателя на опыты в
жанре литературной сказки видны не только у А. Погорельского, но и у В.Ф.
Одоевского и А.Ф. Вельтмана. Вышли в свет «Три статьи о поэме «Руслан и
Людмила» А.С. Пушкина», в которых А.А. Перовский высмеивает необоснованную
критику произведения А.Ф. Воейковым и Д.П. Зыковым, указывая на то, что
«большая часть разбора состоит из переложения в скучную прозу прекрасных стихов
Пушкина».
В 1820 г. А.А. Перовский пробует вновь свои силы
в поэзии, где намечается тема путешествия, отразившаяся позднее в «Чёрной
курице»: баллада «Странник-певец», с отголосками жития Иоанна Дамаскина —
«певца, прославляющего богосозданный мир и всепобеждающую силу «святой любви»;
стихотворное послание «Друг юности моей!/ Ты требуешь совета?..», адресованное
сестре в связи с рождением сына, сыгравшего решающую роль в становлении
Погорельского-сказочника. Эти литературные опыты не были опубликованы, в
отличие от перевода оды Горация «К Тиндариде». Н.М. Буда-Жемчужникова, указывая
на «обилие» рукописей писателя, отмечает, что эти фрагменты вряд ли были
единственными.
Первые прозаические опыты относятся к 1818 —
1819 гг. В них виден интерес начинающего писателя как к романтизму, так и к
«бытописательству», свойственному реальному миру «Чёрной курицы». Известен
отрывок «Молодой охотник…», представляющий собой перевод начальных страниц
новеллы-сказки «Руненберг»(1802) Людвига Тика. М.А. Турьян отметила в нём
поэтику В.А. Жуковского — «с элегическим топосом его пейзажных зарисовок,
подобных «Сельскому кладбищу» или «Вечеру» [21‚594]. Она указала на схожесть
структуры пейзажной символики, которая помогла эмоционально поддержать тип
романтического героя, «оставившего родные края…». Уже в «Молодом охотнике»
заявлена тема просвещенности, являющейся, по мнению А.А. Перовского, одним из
определяющих факторов в нравственном становлении человека. Её раскрытие мы
видим как в раннем отрывке о юном книгочее из купеческой среды «С самых молодых
лет…», так и в сказке «Чёрная курица», а позднее в замысле романа «Магнетизёр».
Тему просвещения затрагивает А.А. Перовский в статье 1826 г. «О народном
просвещении в России», говоря о том, что «истинное просвещение не состоит в
количестве умствователей и полуученых писателей», и «что система народного
просвещения необходимо должна быть применена к системе правительства» [9‚365].
Дидактическая направленность А. Погорельского, связанная с темой учения,
просвещения, управления учебными пансионами, становится одной из главных в
«волшебной повести».
М.А. Турьян уже в ранних набросках А.А.
Перовского отмечает «определенную психологическую тенденцию» — попытку постичь
«свойства человеческого ума, предопределяющие сложную амплитуду противоречивых
черт человеческой натуры, её добродетелей и пороков» [21‚597]. Постижение
мыслей и чувств ребёнка, осознание им хорошего и плохого — одна из основных
проблем формирования нравственных качеств Алёши в «Чёрной курице».
В апреле 1822 г. умирает А.К. Разумовский,
спустя месяц А.А. Перовский подает прошение об отставке и поселяется в имении
Погорельцы вместе с сестрой и её сыном Алёшей. Именно здесь рождается знаменитый
писатель Антоний Погорельский.
Интерес к изображению сказки в реальности
проявляется у А. Погорельского уже в 1825 г. В свет выходит фантастическая
повесть на бытовом материале «Лафертовская маковница», опубликованная в
мартовском номере журнала «Новости литература». В ней реально описан как
московский мещанский быт, так и жизнь простых людей. В изображении характеров
главных персонажей, сюжете и композиции ярко выразилась ирония автора. Новым
оказалось «дерзкое небрежение автора «здравой» необходимостью «разумного»
объяснение «чудесного» [21‚602]. В «Чёрной курице» это осуществляется за счёт
подсознания Алёши. В.В. Брио и В.М. Маркович отмечают самобытность данного
произведения, «не только открывающим историю русской фантастической повести, но
и послужившим камертоном дальнейшего развития форм фантастического
повествования» [37]. Издатель «Новостей литературы», А.Ф. Воейков, пытаясь дать
рациональное объяснение «чудесных» мотивов снабдил «Лафертовскую маковницу»
собственной «Развязкой»: «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно,
имел здесь целью показать, до какой степени разгоряченное и с детских лет
сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в
превратном виде» [79,133]. По мысли А.Ф. Воейкова, богатство старухи — «богатая
дань суеверных людей», приходивших к ней гадать; черный кот, превратившийся в
господина Мурлыкина, — плод расстроенного «мнимым колдовством маковницы»
воображения Маши и т.д. [79,134]. Являясь приверженцем традиций классицизма, он
не принимает новый способ художественного мышления А. Погорельского. Среди
литераторов повесть вызвала положительные отзывы. В письме брату от 27 марта
1825 г. А.С. Пушкин восхищался изображением кота: «Душа моя, что за прелесть
бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и
брежу Трифоном Фалелеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза,
повертывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?»
[22‚157]. В.К. Кюхельбекер 22 декабря 1831 г. делает в дневнике следующую запись:
«Перечел я «Лефортовскую Маковницу», которую в первый раз в 1825 г. прочел мне
Дельвиг на квартире у Плетнева: большое сходство с манерой Гофмана». Позднее
повесть составила одну из частей «Двойника…» [7‚70].
Книга «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» вышла
в начале 1828г. Она представляет сбой сборник из четырёх новелл, объединённых
рамочным сюжетом: «Изидор и Анюта», «Пагубные последствия необузданного
воображения», «Лафертовская маковница» и «Путешествие в дилижансе». В
«Двойнике» появляются аллюзии к сказочному творчеству зарубежных писателей,
тема приключения и путешествия, сам мотив двойничества. Эти традиции
продолжились и в литературной сказке. Книга не имела успеха у читателей, игра и
мистификация были не поняты современниками. Исключение делалось только на всеми
признанную «Лафертовскую маковницу». Следует отметить, что были те, кто понял
замысел А. Погорельского: художественным принципам автора «Двойника…» следовал
В.Ф. Одоевский в «Пёстрых сказках…» и А.С. Пушкин в «Повестях покойного Ивана Петровича
Белкина», который не мог не оценить достоинства «парадоксов-переосмыслений»
(термин В.Э. Вацуро) А. Погорельского. Также книга во многом подготовила почву
для украинских повестей Н.В. Гоголя.
В 1830 г. в первых номерах «Литературной Газеты»
А.Погорельский публикует две главы нового задуманного романа «Магнетизёр». Мы
видим здесь описание купеческой провинциальной семьи и вторжение в неё
«таинственного», как и изображение петербургского мужского пансиона с подземным
миром в «Чёрной курице». Автор обращается к проблеме месмеризма — учению
австрийского врача Ф.А. Месмера о «животном магнетизме» — особой магнитной
силе, производимой людьми и способной оказывать физическое и психическое
воздействие на окружающих, положившей начало современному гипнозу. Автор
затрагивает тему «беснования», продолженную у В.Ф. Одоевского в «Орлахской
крестьянке» (1838 г.) и у А.Ф. Вельтмана в «Сердце и Думке».
«Чёрная курица» во многом помогла А.
Погорельскому перейти к теме нравственных проблем не только ребёнка, но и взрослого.
В свет вышел нравоописательный роман «Монастырка», посвященный жизни
провинциального дворянства. Первая часть произведение была издана в 1830г., в
1833 г. последовала насыщенная приключениями вторая часть. «Сей роман, —
отмечалось в «Русском инвалиде», — есть необыкновенное, приятное явление в
нашей словесности. Он богат занимательными происшествиями и ярко обрисованными
характерами, а потому жив и любопытен» [122]. «Московский телеграф» увидел в
«Монастырке» «приятное описание семейных картин», «рассказ доброго приятеля о
добрых людях, которым встречались иногда неприятности» [122]. В «Литературной
газете» она была названа «настоящим и первым у нас романом нравов» [122].
Одним из самых известных и востребованных
произведений А. Погорельского является единственная изданная им в 1829 г.
литературная сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». Сочетание волшебства
и действительности, дидактики и непринужденной беседы, своеобразие
художественной манеры повествования позволили «волшебной повести» стать неотъемлемым
вспомогательным материалом взрослых для формирования нравственных ценностей
юных читателей. Написанию увлекательного произведения, доступного для детского
понимания, во многом способствовала его тесная связь с племянником Алёшей,
тёплые взаимоотношения с которым мы можем проследить по воспоминаниям и
письмам.
В ноябре 1816 г. сестра А.А. Перовского Анна
Алексеевна выходит замуж за отставного полковника и советника Государственного
ассигнационного банка графа К.П. Толстого, а в сентябре следующего года у них
рождается сын Алексей. Однако позднее супруги разошлись и писатель увозит
сестру с полуторамесячным сыном в Погорельцы. А.К. Толстой вспоминает: «Я «…»
шести недель от роду был увезен в Малороссию своей матерью и дядей с
материнской стороны г-ном Алексеем Перовским. «…» Он воспитал меня, первые годы
мои прошли в его имении…» [23‚423]. Автор «Чёрной курицы…» полностью посвящает
себя заботам о сестре и племяннике Алексаше. Во многих письмах мы видим
любовное, добродушное и отцовское отношение А. Погорельского к А.К. Толстому:
«Милой мой Алеханчик! Мне очень жаль, что я не могу остаться до завтрего. Если
б мне можно было, то я бы никогда с тобою не расставался, мой милый друг. Будь
паюшка без меня, учись хорошенько, мой ангельчик, а я скоро назад приеду и
привезу тебе что-нибудь редкое. Пиши ко мне, мой любезный сыночек! Прощай,
цалую тебя миллион раз в мыслях» или «Ханочке, моему милому и дорогому другу»
[21‚416], «Очень тебе благодарен, любезный Алеша, за твои письма и прошу тебя
продолжать так и впредь. Я всегда очень радуюсь, когда получаю от тебя письма…»
[21‚424], «Тысячу раз тебя мысленно обнимаю; поцелуй за меня маменьку и
кланяйся тете Маше, если она с вами. Христос да сохранит вас!» [21‚430] и т.п.
Дядя рассказывал маленькому Алёше большое количество сказок собственного
сочинения, но лишь одну из них, «Чёрную курицу», решил записать.
В «волшебной повести», совмещающей в себе
конкретно-исторический и сказочный пласты, мы находим отражение реалий места и
времени писателя, что позволяет говорить об автобиографичности произведения.
Во-первых, это свидетельство о непродолжительном пребывании маленького А.А.
Перовского в петербургском пансионе Е. Мейера. Во-вторых, в образе главного
героя Алёши присутствуют качества юного А.К. Толстого. По воспоминаниям друга
его детства А. В. Мещерского, «граф Толстой был одарен необыкновенною памятью.
Мы часто, для шутки, испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас
всех поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы,
закрыв книгу, мог дословно всё им прочитанное передать без одной ошибки; никто
из нас, разумеется, не мог этого сделать» [8‚371].
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители»
была благосклонно встречена современниками. Особого одобрения был удостоен
«свободный и изящный» слог сказки. Известны положительные отзывы В.А.
Жуковского: помогая А.А. Дельвигу заполнить портфель очередного выпуска
«Северных цветов», он настоятельно рекомендовал ему для альманаха «Черную
курицу»: «У Перовского есть презабавная и, по моему мнению, прекрасная детская
сказка «Черная курица». Она у меня. Выпросите ее себе» [48‚364]. Сказка
раскрывает внутренний мир ребенка, особенности его психологии, мышления,
формирования характера и предшествует произведениям С. Т. Аксакова и Л. Н.
Толстого, на которого она произвела в детстве «очень большое» впечатление
[24‚67]. Н.Ф. Погодин отметил сходство со сказкой Людвига Тика «Эльфы», указав
на подражательный характер сказки и отсутствие «вероподобия» в повествовании
[76‚154].
В современном литературоведении сказке А.
Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» посвящены в основном работы
в сборниках научных статей. Исследователи затрагивают вопросы, касающиеся
своеобразия жанра волшебной сказки А. Погорельского (Д.М.Шевцова); роли
«детского сознания» в формировании жанровой основы волшебной повести и её
значении в контексте жанровых традиций эпохи (О.И. Тиманова, Т.В. Пустошкина,
Л.Н. Алексеева); аллюзий к мифам и фольклорным традициям и героям в
литературной сказке (О.И. Тиманова, М.П. Шустов, Н.В.Ерусланова, Л.Б.
Мартыненко); средств фантастики в произведении (А.Т. Грязнова). Большое
внимание уделяется параллели русской литературной сказки первой половины XIX
века с немецкой романтической сказкой, в частности, произведениями Э.Т.А.
Гофмана (А.Б. Ботникова, Н.Н. Семейкина, и др.). Проблема взаимосвязи
творчества А.Погорельского и немецкого писателя всё чаще становится предметом
исследования кандидатских диссертаций. Вопросы преемственности рассматриваются
также относительно предшественников и последователей в русской литературе. Р.М.
Лазарчук в статье «Рыцарь нашего времени» Н.М. Карамзина и «Черная курица» А.
Погорельского» уделяет внимание раскрытию темы детства в указанных
произведениях. В материалах международной научной конференции «Забытые и
второстепенные писатели XVII-XIX веков как явление европейской культурной
жизни» С.И. Кормилов говорит об А. Погорельском как предшественнике русских
классиков. Рассматривая проблемы детской литературы и фольклора, Е.А. Гаричева
написала статью «Святочные истории А.Погорельского «Черная курица» и Ф.
Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», где указывает на проповедническое и
притчевое начало, свойственное литературной сказке. Исследователь проясняет
высокую связь между сознанием автора и ребенка, который, по её мнению, «наделен
способностью видеть рай небесный даже на грешной земле». В статье Т.В.
Пустошкиной «Дитя больше, чем оно есть…» предлагается осмысление текста «Черной
курицы» с точки зрения мифологической символики, что позволяет по-новому взглянуть
на художественную природу произведения. Рассматривается актуализация в повести
романтической мифологемы детства и ее связь с мифологемой матери. А. П. Ефремов
в своей статье «Эволюция представлений о грехе в детской литературе» указывает,
что в сказке А.Погорельского берет начало тенденция «бессрочного душевного
сокрушения» героев после совершения ими какого-либо недостойного поступка,
«греха». Он отмечает, что признаком греха в детской литературе становится
«невозможность для героев, даже сказочных, отпустить друг другу содеянное», эта
функция возлагается на высшие силы, Бога, а время искупления ничем не
ограничивается. Фактически, «Черная курица» дает начало «литературе совести»
[47].
Важную роль играют обзорные статьи М.А. Турьян и
А.А. Шелаевой, помещенные в собрания сочинений А. Погорельского. В них
приведены интересные факты из биографии писателя, литературных и дружеских
связей, дан краткий анализ его произведений. Творчеству А.Погорельского в
контексте русской романтической прозы посвящена кандидатская диссертация В.В.
Брио, в 1988 г. вышла её монография с обзором русской критики.
Рассматривая проблему своеобразия жанра «Чёрной
курицы, или Подземных жителей» А. Погорельского, к.ф.н., доцент кафедры теории
и методики обучения русской словесности НГПУ Д.М. Шевцова выделила жанровые
признаки волшебной сказки:
.борьба добра со злом, в которой добро
побеждает, так как оно созидает, а зло разрушает. Алёша — «воплощенное» добро-
«борется» с кухаркой Тринушкой, воплощающей зло, и спасает любимую курицу Чернушку.
Чернушка «борется» со сказочными рыцарями и побеждает их;
. все герои делятся на наделённых волшебной
силой (Чернушка, король Подземного царства, жители Подземного царства) и
«обычных» (Алёша, Тринушка, учитель, учительша);
. главный герой совершает благородные поступки,
ему активно помогает волшебный помощник, который благодарит таким образом за
оказанную ранее услугу (Чернушка помогает Алёше: дарит ему конопляное семечко,
за то, что Алеша спасает её от смерти); герой — волшебный помощник — одаривает своего
спасителя волшебным предметом (сам предмет не представляет собой видимой
ценности: это конопляное семечко);
. запреты и наказание за их нарушение (нельзя
было трогать предметы в комнате старушек голландок, иначе проснутся рыцари и
Чернушка не сможет их победить. Нельзя было Алёше рассказывать кому-либо о
Подземном царстве, иначе жители этого царства будут обречены на скитания, а
Чернушка-министр будет арестована);
. мотив дороги-путешествия, преодоления границы
между реальным и волшебным миром (Алёша вместе с Чернушкой отправляется по
неведомой дороге в Подземное царство);
. освобождение волшебного героя (Алёша спасает
Чернушку);
. большой временной промежуток, который
охватывают события;
. использование изобразительно-выразительных
средств (например, гиперболы: «Чернушка подняла хохол, распустила крылья…
вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться»)
[111‚374].
Эти тезисы помогут нам при рассмотрении
специфики литературной сказки А. Погорельского. Говоря о волшебных чертах
произведения, мы обязаны сказать о соотношении реального, будничного и
ирреального пространства, характерном для литературной сказки.
§2. Изображение реального и волшебного миров в
сказке «Чёрная курица, или Подземные жители»
В связи с установленным фактически присутствием
автобиографичного начала в произведении, наличии в жанре литературной сказки
культурного пласта эпохи автора, социально-бытовых реалий, необходимо
проследить специфику образа города и впоследствии сравнить с миром волшебства,
ирреальности. Данный анализ поможет нам не только увидеть определенное
художественное пространство и время в «повести», но и проследить влияние места
действия на нравственные противоречия во внутреннем мире главного героя.
В сказке А.Погорельского «Чёрная курица, или
Подземные жители» наличие реального и волшебного мира связано с двумя планами
повествования: первый план — мир глазами взрослого, в роли которого выступает
рассказчик. Благодаря его рассуждениям мы видим изображение колорита уходящей
эпохи, раскрывающегося в отступлениях с философским и психологическим оттенком.
Второй план — мир глазами ребенка, восприятие которого передается размышлениями
и впечатлениями Алёши. С помощью него в общую канву повествования вводится
сказочный образ королевства и его жителей.
С самого начала «волшебной повести» дается
представление о конкретном месте и времени действия. Автор указывает город,
район и улицу, где происходили события, связанные с реальным планом
повествования: «в С.-Петербурге на Васильевском Острове, в Первой линии». Здесь
же мы находим указание на время: «лет сорок тому назад». Автор не
конкретизирует год или дату изображаемого события, но, зная о периоде написания
сказки и её публикации (1829 г.), мы понимаем, что действие разворачивается
примерно в 1789 г., то есть перед нами эпоха конца XVIII века. Читатель видит
Петербург того времени, о котором повествователь говорит с оттенком легкой
иронии и грусти.
С одной стороны, город ушедшего столетия
«славился в целой Европе своею красотой», но с другой стороны, тогда «не было
весёлых тенистых аллей», когда вместо тротуаров были «деревянные подмостки,
часто из гнилых досок сколоченные». Прослеживается мотив утраты прошлого, когда
«все проходит, все исчезает в бренном мире нашем…». Тема воспоминания взрослого
о детстве, о минувшем времени, затронутая А. Погорельским, — одна из основных в
детской литературе.
На первых страницах мы видим конкретные реалии
Петербурга: Васильевский остров, Первая линия, Исаакиеский мост и площадь,
момумент Петра Великого, Адмиралтейство и Конногвардейский манеж. Рассказчик
ведет повествование от первого лица, давая предметам оценочные эпитеты, тем
самым, выражая отношение к своему веку. Уже в первом абзаце, в реалиях города и
эпохи, дается намек на мотив нравственных перемен личности: «города перед
людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся
красивее…».
Во второй половине XVIII века в России открылось
большое количество новых учебных заведений. Помещение дома-пансиона, где будут
разворачиваться события, наполнено предметами, вещественно детализировано.
Голландская черепица, старушки-голландки, лежанка «из голландских изразцов»
отсылают нас к деятельности Петра Великого. Изображение внутренней жизни
мужского пансиона, его нравов и обычаев также являются атрибутами реального
мира. Стремление автора донести до читателя колорит эпохи нередко проявляется
через изображение вещей глазами ребенка, что зачастую приводит к ироническому
отображению действительности, из-за несовпадения представлений Алёши о мире и
существующих в нем нормах и правилах. В «Беседах о русской культуре» Ю.М.
Лотман говорит, что «быт — это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал
ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня,
время различных занятий, характер труда и досуга, формы отдыха, игры, любовный
ритуал и ритуал похорон» [66‚15]. Именно названные реалии эпохи А. Погорельский
подробно изображает в произведении. Здесь парикмахер, который показал «своё
искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя», а затем «напомадил и
напудрил у нее [супруги учителя] локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове
целую оранжерею разных цветов». Это отражает стремление к изменению внешнего
облика, где для приближения к типу западноевропейской женщины, парики стали
неотъемлемой частью дамского туалета. Ю.М. Лотман приводит в пример ситуацию со
старухой-графиней из «Пиковой дамы» А.С. Пушкина, когда «…сняли напудренный
парик с ее седой и плотно остриженной головы». Через восприятие мальчика
иронически изображается приезд директора училища: «Алеша <…> увидел… не
шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную,
единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький
пучок!». Проявляется здесь и несовпадение представлений мальчика с реальностью:
«Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший
на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно
почтительно». Отражены здесь манеры приветствия старого времени, когда женщины
здороваясь и прощаясь, делали реверанс — особый поклон с приседанием. С юмором
показывает автор поведение учительши, которая «начала приседать в ожидании
столь почтенного гостя», а по прибытии должностного лица «присела ниже
обыкновенного». Игра в вист, занимавшая гостей пансиона «часу до
одиннадцатого», в то время считалась «своеобразной моделью жизни». В «Переписке
Моды» Н. И. Страхова Карточная Игра представляет Моде послужные списки своих
подданных, в которых вист занимает второе место среди игр, «подавших просьбы о
помещении их в службу степенных солидных людей». Описывает А. Погорельский и
детскую одежду, внешний вид и манеры ребенка XVIII века: «Алешу позвали наверх,
надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими
складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые
волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две
ровные части и переложили наперед — по обе стороны груди. Так наряжали тогда
детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в
комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь
вопросы».
Подземный мир в произведении А.Погорельского дан
через восприятие главного героя. Наблюдая за его пристрастием к чтению
рыцарских романов и волшебных повестей, за неподдельным интересом, который он
проявлял по отношению к «деяниям славнейших рыцарей», можно сказать о влиянии
его фантазий на изображение волшебного. Всё ирреальное является плодом мечтаний
ребёнка, тем, что ему хотелось бы видеть наяву: «…когда он бывал разлучен
надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, —
юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по
темным, дремучим лесам». Бессознательное представлено в образах жителей
Подземного мира, в убранстве его залов, в желании уйти от одиночества и иметь
лучшего друга, кем и становится Чернушка. Неудивительно, что курица обретает
способность говорить, очеловечивается именно ночью. В это время суток
изображается и весь Подземный мир. Таким образом, можно предположить, что
ирреальный мир сказки — это сновидение мальчика, а реалии этого пространства
воплощают собой то, чего не хватает в стенах пансиона.
Благодаря развитому воображению героя, его
способности мечтать, фантазировать, элементы сказочного сопровождают читателя
на протяжении всего повествования. Алёше слышится голос любимой Чернушки,
которая якобы просит его о спасении, опасаясь быть пойманной кухаркой.
Вообразив себя одним из рыцарей, Алёша, стремясь совершить подвиг, отдает за
единственного друга «всё имение» — империал, который был «драгоценным» подарком
любимой бабушки, то есть напоминанием о человеке, который также был другом,
заботился о нём и не оставлял в одиночестве. В роли славного рыцаря герой
отчетливо слышит призыв: «Кудах, кудах, кудуху!// Алеша, спаси Чернуху!», или
«ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что
она тихонько ему говорит: — Алеша, Алеша! Останься со мною!», но стоит подвигу
свершиться, как мальчик возвращается в реальность и уже «никак не мог разобрать
ее кудахтанья».
В сновидении Алёши предметы реальности
сочетаются со сказочными, постепенно предваряя появление Подземного мира:
«вдруг откуда-то взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как
с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на
окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как
будто днем», «хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась». С мотивом
волшебства связаны и упомянутые в начале старушки-голландки, которые теперь
«столетние», а «комнаты у них убраны по-старинному,… у одной из них большой
серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через
обруч и подавать лапку». В подземной зале путешественников встретили те же
рыцари, о которых мальчик так любил читать в реальном мире.
Подземный мир был очень похож на то, что Алёша
видел наверху: «зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он
видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые», «стены
сделаны из Лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в
пансионе», деревья — «это не что иное, как разного рода мох, только выше и
толще обыкновенного». Сон Алёши — воплощение его мечтаний, обрамленное автором
волшебными героями и действиями. Подземное королевство — своеобразная
реальность в уменьшенном виде, со своей жизнью, порядками, обычаями. Предметы
окрашены в яркие, сочные цвета, наряду с героями, придающими повествованию
фантастический и сказочный характер, близкий и понятный юному читателю —
«деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными.
Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и
лиловые». Вид людей и обстановки Подземного мира не вызывает у ребёнка иронии,
а, наоборот, заставляет проявить неподдельный интерес: Алёша смотрит со
вниманием, спрашивает с удивлением, с любопытством, пребывает в хорошем
настроении и внутренне смеется. Реакция мальчика на «панели и двери <…>
из чистого золота, «венец с блестящими драгоценными камнями», дорожки,
усыпанные «брильянтами, яхонтами, изумрудами и аметистами» обусловлена не
только восхищением окружающим. Его стремление видеть их наверху связано с
желанием перенести сказку в реальность, а, по мнению Д.М. Шевцовой, ему «просто
нужны были деньги, чтобы на каникулы поехать к родителям, которых он так долго не
видел; чтобы заплатить за учебу» [111‚376].
Особое внимание следует уделить образу Черной
курицы. В русской литературе, как и в фольклоре, нет подобных аналогий, за
исключением близкой по типу Курочки-Рябы или избушки на курьих ножках. М.А.
Турьян отмечает наличие житийного аналога — «Житие протопопа Аввакума», где
фигурирует «черненькая курочка». Соответствующий образ присутствует в
древнегреческой мифологии. Именно чёрный петух связан с подземным миром и
приносился в жертву Гадесу. Нередко черная курица считается слугой дьявола или
одним из его проявлений. А. Погорельский был глубоко знаком с архаикой и привил
любовь к ней племяннику. Анна Алексеевна писала брату Льву о страстном
увлечении сына древнегреческими героями. Передавая Алёше суждение В.А. Жуковского
о его стихотворных опытах, А.А. Перовский писал: «…греческие пиэсы твои он
предпочитает потому, что они доказывают, что ты занимаешься древними» [21‚427].
Двойственная природа этого образа — курица и министр подземного царства —
«открывала детскому сознанию многомерные горизонты бытия, неисчерпаемость
смыслов действительной жизни» [21‚637]. В статье О.И. Тимановой, посвященной
мифопоэтическим контекстам «волшебной повести», также уделяется внимание образу
Чёрной курицы и Подземного мира. Функция Министра-Чернушки — «быть проводником
в потаенное царство». В соответствии с жанром романтической повести А.
Погорельский вводит образ двойника: Чернушка — курица из реального мира Алёши и
Министр Подземного мира. Феномен двойничества можно связать с двуплановостью
детского сознания. Данный мотив делает возможными «параллели «животного» и
«чиновничьего», абсурдные в реальной действительности, но допустимые в мире
детского сна». Исследователь отмечает, что в детской сказочной повести конца
1820-х гг. «усилена архаическая символика Подземного мира как средоточия
Царства мертвых — комплекс «коллективного бессознательного», отразившийся в
волшебной фольклорной сказке» [101]. С момента начала общения героя с другим
миром, получением конопляного семечка, начинают просыпаться в мальчике
отрицательные черты характера, утрата моральных ценностей. С окончательной
потерей подарка короля Подземного царства, темные силы перестают действовать на
героя, он просыпается от тяжелого сна, пробуждается от беспамятства: «На другой
день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без
памяти.<…> Недель через шесть Алеша, с помощью Божиею, выздоровел, и все
происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном».
Таким образом, можно сделать вывод, что
изображение реального и волшебного миров в сказке «Чёрная курица, или Подземные
жители» дано на контрасте. Автор сочетает колорит эпохи конца XIII века с
красочными убранствами зал Подземного королевства. Два плана художественного
времени и пространства даны от автора-повествователя и от лица ребёнка. Мир
мужского пансиона взаимодействует с миром фантазий Алёши, оставляя след на
формировании характера главного героя. Нравоучительную направленность
произведения, отраженную во внутренних противоречиях мальчика и их последствиях,
мы рассмотрим в следующем параграфе.
§3. Нравственно-дидактические основы
представлений автора в сказке «Чёрная курица, или Подземные жители»
Каждая фольклорная сказка заключает в себе
нравоучение. В литературной сказке, наряду с дидактической направленностью, оно
выражено в авторской интерпретации сюжета. Развитие действия логически
обусловлено, а каждый поступок героя мотивирован предшествующими событиями. В
композиции произведения раскрывается последовательность происходящего, что
помогает маленькому читателю полно, легко и правильно понять сказку.
Д.М. Шевцова предлагает следующую композицию
«волшебной повести»: экспозиция — пансион с его нравами и обычаями, где
воспитывается Алёша, представление главного героя; завязка — получение Алёшей
конопляного семечка, приводящее к печальным последствиям; кульминация —
предательство Алешей Подземных жителей; две развязки: первая — победа добра в
душе мальчика, вторая — нарушение покоя королевства, жителям которого
приходится искать новое убежище [111‚276]. Согласно предложенному развитию
повествования можно последить за становлением личностных качеств главного
героя.
В пансионе Алёша был окружен лаской и любовью,
но ему часто было грустно и скучно. Он чувствовал своё одиночество вдали от
родителей и друзей, поэтому чтение оставалось его «единственным утешением».
Склонность к мечтаниям и фантазированию, воспитанная рыцарскими романами
присуща главному герою, как и большинству мальчиков его возраста, и характерна
для изображения романтического персонажа. В начале сказки Алёша умный,
скромный, добрый, дружелюбный и справедливый мальчик, «занятие Алеши состояло в
том, чтобы кормить курочек <…>, очень коротко с ними познакомился, всех
знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько
дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он
собирал со скатерти», говорили мы и о спасении Чернушки от кухарки Тринушки. За
последнее он награждается королем Подземного мира конопляным зёрнышком,
способным выполнить любое желание. Оно у мальчика оказывается поспешным и
необдуманным, что для его возраста характерно. Алеша задумался, и «если б дали
ему более времени, то он … придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему
казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом» и
пожелал знать любой урок, какой бы ни задали. Мальчик действительно думает, что
жизнь станет радостнее, если убрать постоянную подготовку заданий,
ассоциирующуюся в его сознании с «прозаической повседневностью». С этого
момента воспитанник пансиона начинает превращаться в ленивого, гордого ребёнка,
думая, что «стоит только захотеть, и все опять меня любить будут», это детская
наивность, неведение, связанное с «отождествлением причины и следствия».
Автор дает нравоучительное, понятное юному
читателю отступление, говоря, что исправить себя не так просто, прежде
необходимо «откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность». Алёша становится
шалуном, перестает краснеть и стыдиться незаслуженных похвал, важничает перед
другими мальчиками и постепенно лишается любви товарищей. Праздность портила
нрав Алеши. А. Погорельский показывает нам, как отрицательно влияет на человека
безделье и лень. Одним из самых страшных поступков становится предательство
любимого друга, нарушение данного обещания: хранить в тайне существование
подземных жителей. «К теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего —
неблагодарности!», — говорит ему Чернушка. Герою трудно стать «плохим»
полностью, писатель показывает в душе маленького героя борьбу добра и зла,
Алёша предстает перед нами с «поникшею головою, с растерзанным сердцем…Он был
как убитый… стыд и раскаяние наполняли его душу!», — положительное начало
победило. Возвращение к прежнему мальчику далось нелегко, подорвалось его
здоровье. Зло ушло, но вместе с ним потерян был и лучший друг — Чернушка.
А. Погорельский убеждает читателя, что для
знания необходимы трудолюбие и упорство, говорит о важности честности,
скромности, доброты в каждом человеке, умении нести ответственность за свои
поступки и держать слово. Писатель задает вопрос: стоит ли привыкать к
неожиданному успеху и как не растерять лучших качеств личности, следуя по пятам
своих желаний? Он обличает эгоизм, пороки и тщеславие. Педагогическая
направленность «волшебность повести» очевидна. Автор «Чёрной курицы…» доносит
её до юного читателя через сердце, через сопереживание главному герою.
Благодаря интонациям детской речи («Чернушка шла впереди на цыпочках и Алеше
велела следовать за собою тихонько-тихонько…», «Душенька, Тринушка», «кошка
умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не
попросить у нее лапки…» и тп.) сознание ребёнка воспринимает действие как
реальное и погружается в вместе с Алёшей в волшебное сновидение. Сказка легко
воспринимается за счёт стилистически разнообразного построения речи:
неторопливость рассказа о Петербурге и пансионе, эмоциональное повествование о
спасении Чернушки, о подземных жителях и потрясение от непоправимости
последствий поступка Алёши.
Значимость «Чёрной курицы» для детской литературы,
её доступность и простота подтверждаются большим количеством переизданий.
Известно несколько переизданий сказки «Черная курица, или Подземные жители» XIX
в. (1853г., 1858г.). В XX в. произведение печаталось в годы Великой
Отечественной Войны (1943-1945гг.). В 1873г. в издательстве «Детская
литература» выходит книга с иллюстрациями В. Пивоварова. С 1880г. до наших дней
сказка переиздается практически ежегодно, входит в ряд антологий: «Лукоморье.
Сказки русских писателей» (1952), «Русская фантастическая повесть эпохи
романтизма» (1987), «Городок в табакерке» (1989), «Русская литературная сказка»
(1989), «Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820-1840 гг.)» (1991),
«Нежданные гости» (1994), «Чёрная курица, или Подземные жители. Аленький цветочек»
(2001), «Волк и семеро козлят» (2002), «Литературные сказки народов мира. Том
III. Сказки писателей России» (2002), «Сказки русских писателей» (2002),
«Чёрная курица, или Подземные жители» (2002), «Сказки русских писателей»
(2003), «Сказки русских писателей» (2004), «Билет в детство. Проблемы
воспитания и образования в русской и зарубежной фантастике» (2005), «Сказки
русских писателей» (2006), «Энциклопедия детства» (2008), «О волшебных мирах, о
сказочных существах и о других детских радостях» (2010). В 2010г. В
издательстве наука вышла книга «Антоний Погорельский: Сочинения, Письма»,
представляющая собой наиболее полное наследие творчества писателя. В
кинематографе своё видение сказки представили Юрий Трофимов («Чёрная курица»,
1975г.) и Виктор Гресь («Черная курица, или Подземные жители»,1980г.).
«Волшебная повесть» «Чёрная курица, или
Подземные жители» А.Погорельского является классическим произведением в жанре
литературной сказки. Мы видим в ней сосуществование реального и ирреального
пространства (пансион и подземное королевство), реальных и сказочных героев
(директор, учительша, родители, Тринушка и Чернушка, Король, рыцари),
присутствие игрового начала и мотива путешествия (отправление Чернушки и Алёши
в подземный мир), благодаря изображению Петербурга и пансиона мы узнаем о
реалиях эпохи автора, быте, нравах и обычаях конца XVIII века. Определяющую
роль играет наличие конкретного автора, речь произведения сопровождается
авторскими комментариями: «В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю
с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века»,
«Алеша, как сказал я уже выше…», «Куда! Наш Алеша и не думал об уроке!» и тп.
Романтическая «повесть» «Черная курица, или
Подземные жители» стала памятником русской детской литературы, дворянской
культуры детства. Она интересна взрослым и юным читателям на протяжении
нескольких столетий. Нравственная и эстетическая основы сказки помогают
воспитывать в маленьком слушателе лучшие качества человеческой личности. А
образ Алёши послужил развитию истории автобиографической прозы о детстве как в
XIX (С.Т. Аксаков, Л.Н.Толстой, Н.М. Гарин-Михайловский), так и в XX веке (А.Н.
Толстой, М.Горький).
Глава II. Идейно-жанровое разнообразие цикла
«Пёстрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою,
магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласым» В.Ф.
Одоевского
Разнообразие увлечений князя Владимира
Фёдоровича Одоевского (1804 — 1869) не могло не сказаться на его литературном
поприще. Занятия философией, естественными науками, музыкой, историей,
лингвистикой позволили писателю создать необычный, пёстрый, тематически
разносторонний цикл произведений, объединённый под жанром сказки. В связи с
разнонаправленностью взглядов писателя, не удивителен тот факт, что его сказки
отличаются от традиционных дидактических и нравоучительных. Наряду с этими
определениями произведения В.Ф. Одоевского можно назвать научно-фантастическими
и социально-философскими. Сказки ориентированы не только на детей, но и на
взрослых читателей. В данной главе мы рассмотрим первый подобного рода сборник
«Пёстрые сказки с красным словцом…», осветим историю его создания, отзывы
литературных критиков и современников писателя, а также состояние вопроса в
современном литературоведении.
§ 1. История создания «Пёстрых сказок» В.Ф.
Одоевского
По собственному признанию В.Ф. Одоевского
создание «арлекинских» сказок, написанных с доброй грустью и иронией,
адресованной современному обществу, вызывающих сочувствие к смешным невзгодам
человека, совпало с «самыми горькими минутами» его жизни, связанными с
увлечением Н.Н. Ланской. Писатель отмечает, что им руководило «торжество воли»,
что, возможно, объясняет структурность и формальность цикла, взаимосвязь его
компонентов, четкое следование одного за другим без какие-либо авторских
отступлений. Приверженность воле относится и к, замеченному многими, отсутствию
вдохновения и безжизненности сказок.
«Пёстрые сказки…» ― один
из первых воплощенных замыслов художника, в котором наблюдается возникновение
тем и мотивов, характерных для позднего творчества писателя. Сборник
демонстрирует нам формирование художественных принципов В.Ф. Одоевского, его
философских и эстетических исканий. Он содержит «образцы философского гротеска,
социально-нравоучительного рассказа, фольклорной, «бытовой» и «психологической»
фантастики» [13‚132].
Окончательному названию цикла предшествовало
иное — «Махровые сказки». Так именовался сборник на протяжении всего этапа
работы над ним. За несколько дней до выхода сказок из печати, 12 февраля 1833
г., А.И. Кошелев передал В.Ф. Одоевскому в письме мнение И.В. Киреевского. Он
жалел о замене «оригинального названия «Махровые сказки» заглавием «Пестрые
сказки», которое напоминает Бальзаковы «Contes bruns» («Озорные рассказы»)
[19]. Возможно, В.Ф. Одоевский изначально предполагал в содержании цикла отдать
предпочтение изображению отрицательных качеств людей, их истинной сути, под
прикрытием благоприятного внешнего вида. В эпитете «махровый» также видна дань
традиционной, закоренелой сказке, ориентированной на фольклор и нравоучение.
Переосмыслив поставленные перед собой задачи, писатель решил оставить только
указание на неоднородность сказок, на их пёстроту, отразившуюся в тематическом
разнообразии. Вывод о преобладании отрицательного или положительного начала в
героях сказок, он позволяет сделать самому читателю, не давая прямых
наставлений.
Замысел цикла рождался в новой литературной
атмосфере. В Москве писатель являлся председателем «Общества любомудрия» (1823
— 1825 гг.), которое было создано для обсуждения философских вопросов и
изучения трудов западных философов, характеризующееся приверженностью немецкому
идеализму. «До сих пор философа не могут себе представить иначе, как в образе
французского говоруна XVIII века; посему-то мы для отличия и называем истинных
философов любомудрами», — писал В.Ф. Одоевский [17‚163]. Отсюда философская
направленность ранних сказок, обличение социальных пороков. В это же время
происходит сотрудничество с В.К. Кюхельбекером — издание альманаха «Мнемозина».
Переехав из Москвы в 1826 г. в Петербург, автору «Пёстрых сказок» входит в иную
литературную среду. В.Ф. Одоевский начинает увлекаться мистической философией
Сен-Мартена, средневековой магией и алхимией, но наряду с этим прочно
закрепляется среди писателей «пушкинского круга», а характерный дух
«интеллектуального артистизма» начинает влиять на него и отражается на
сказочном творчестве.
Прежде всего, он усваивает традиции А.С.
Пушкина. В 1831 г. в свет выходят «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»,
изданные под псевдонимом «А.П.», сыгравшие в формировании цикла одну из главных
ролей. На родство произведений указывают уже с самого начала эпиграфы как А.С.
Пушкина, так и В.Ф. Одоевского, взятые из «Недоросля» Д.И. Фонвизина. «То, мой
батюшка, он еще сызмала к историям охотник» А.С. Пушкина и «Какова история. В
иной залетишь за тридевять земель за тридесятое царство» В.Ф. Одоевского
указывают нам на содержание циклов — на «истории». «Истории» подразумевают
небольшие рассказы от лица повествователя. В XIX в. их также было принято
называть анекдотами, т.е. занимательными историями о каком-либо случае,
какой-либо личности. Повествование о необычных происшествиях с обычными людьми
мы находим в «Пёстрых сказках». Открытие автора «Повестей…» героя-рассказчика
Ивана Петровича Белкина послужило появлению Иринея Модестовича Гомозейки, речь
о котором пойдёт позже.
Оказал влияние на писателя и
сказочно-фантастический мир украинского фольклора, воссозданного Н.В. Гоголем в
«Вечерах на хуторе близ Диканьки», рассказы которых были собраны и изданы
«старым пасичником Рудым Панькой». В.Ф. Одоевский счел их «и по вымыслу, и по
рассказу, и по слогу» выше всего, изданного доныне «под названием русских
романов» [106‚72].
М.А. Турьян указывает на наличие у Гомозейки черт
Чацкого. Она определяет героя как ««сумасшедшего», человека, выламывающегося из
узаконенных людским мнением и светом жизненных стереотипов и привычных
представлений». Аналогичный тип личности, по словам исследователя, можно найти
в разработках новелл и подготовительных материалов, назначавшихся в «Дом
сумасшедших» [13‚135].
Мать В.Ф. Одоевского усмотрела в рассказчике
«Пёстрых сказок» собственного сына. Это свидетельствует об автобиографичности
цикла: «…Но всего мне лучше понравился этот сидящий в углу, и говорящий,
оставьте меня в покое, это очень на тебя похоже… впрочем, нет гостиной, в
которой бы тебе не душно было…» [91‚36]. Ириней Модестович выступал также
противником «методизма», о предмете которого писал М. П. Погодину сам автор:
«…чтоб меня, русского человека, т. е. который происходит от людей, выдумавших
слова приволье и раздолье, не существующие ни на каком другом языке — вытянуть
по басурманскому методизму?.. Так не удивляйтесь же, что я по-прежнему не
ложусь в 11, не встаю в 6, не обедаю в З…» [28‚344].
Цикл «Пёстрые сказки с красным словцом,
собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных
ученых обществ, изданные В. Безгласым» включает в себя главу «От издателя»,
которая представляет нам историю появления сказок; «Предисловие сочинителя», из
которого мы узнаём о герое-повествователе. Сказки цикла можно разделить по
тематической ориентированности. Социально-философские сказки с элементами
научной фантастики — «Реторта», сказка-повесть «Жизнь и похождения одного из
здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко», которую также можно
назвать подражательной. Сатирические сказки на бытовом материале — «Сказка о
том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не
удалося в Светлое Воскресенье поздравить начальников с праздником», «Сказка о
мёртвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Литературная сказка на
фольклорной основе — «Игоша». Фантасмагория с элементами нравоучения — «Просто
сказка». Социально-обличительные — «Сказка о том, как опасно девушкам ходить
толпою по Невскому проспекту» и «Та же сказка, только на изворот» с «Деревянный
гостем, или сказкой об очнувшейся кукле и господине Кивакеле», философский
«Епилог», примыкающий к ним.
«Пестрые сказки» вышли в свет в начале 1833 г.:
дата цензурного разрешения — 19 февраля (подпись цензора В. Н. Семенова), билет
на выпуск — 8 апреля (в «Реестре печатных книг» подпись П. И. Гаевского). В
начале апреля «Молва» в разделе «Литературные слухи» анонсировала выход
«Пестрых сказок»: «В Петербурге известный литератор, даривший нас своими
фантазиями в гофмановском роде, издает полное собрание их под заглавием
«Пестрые сказки»» [75‚162]. 12 февраля 1833 г. А. И. Кошелев писал из Москвы:
«Твои поручения я исполнил, любезный друг Одоевский. Для «Молвы» мы даже
составили с Киреевским статейку. Обещали объявление о твоих сказках поместить в
скором времени» [19]. Однако статья в «Молве» не появилась. Восьмого апреля в
«Северной пчеле» (1833г., №37) было напечатано объявление о том, что книга Одоевского
«на сих днях поступит в продажу».
В Британской библиотеке в Лондоне находится
экземпляр «Пестрых сказок» с карандашными пометами В.Ф.Одоевского,
представляющими собой авторскую правку печатного текста. «Пестрые сказки» из
Британской библиотеки входят в число подарочных экземпляров, о чем
свидетельствует собственноручная запись В.Ф.Одоевского: «Сии экземпляры никогда
не были пущены в продажу». Три экслибриса точно восстанавливают историю книги.
Первый из них принадлежит графу П. К. Сухтелену — известному библиофилу, в
последние годы жизни — российскому послу в Швеции. Граф скончался в 1836 г.,
после чего книга вернулась к автору. В.Ф. Одоевский поставил на ней свой
экслибрис, и «Пёстрые сказки» заняли место в его книжном собрании.
Примерно через семь лет В.Ф. Одоевский приступил
к редактированию сказок, внеся ряд поправок в этот экземпляр. Через двадцать
лет подарил его своему другу и известному библиофилу С. А. Соболевскому с
надписью: «Дарится в библиотеку другого столь же знаменитого библиофила Сергея
Александровича Соболевского. 15 июля 1864. Кн. В. Одоевский». На книге появился
третий экслибрис — её нового владельца.
После смерти С.А. Соболевского его книжную
коллекцию унаследовала С. Н. Львова, продавшая ее в Германию. На лейпцигском
аукционе книготорговой фирмы «Лист и Франк» «Пестрые сказки» в числе
значительной части собрания С.А.Соболевского были приобретены Британским музеем
для своей библиотеки 9 октября 1873 г. Собрание не было сохранено в целостном
виде, поэтому уникальный экземпляр первого сборника не был до сих пор выявлен.
Исправления, внесенные В.Ф. Одоевским в
«сухтеленовский» экземпляр, явились первой правкой текста, где он внес наиболее
существенные смысловые коррективы и выправил замеченные опечатки. Интересным и
значительным представляется следующее исправление: в «Реторте» писателем
восстановлена фраза, не пропущенная цензурой («…тому свечку, другому свечку…»).
В «сухтеленовском» экземпляре зачеркнуто название заключительного текста:
«Эпилог».
В фонде В.Ф.Одоевского в Российской национальной
библиотеке хранится другой экземпляр «Пестрых сказок» с экслибрисом С.А.
Соболевского, но без дарственной надписи и помет.
В библиотеке Кембриджского университета хранятся
«Пестрые сказки» 1833 г. с анонимными записями, касающимися участия Н. В.
Гоголя в написании сборника В.Ф. Одоевского.
Окончательный состав «Пестрых сказок» по
сравнению с первоначальным замыслом оказался существенно расширенным. Особое
внимание писатель уделил художественному оформлению книги. Оно принадлежало Е.
Н. Риссу, П. Русселю и отчасти А. Ф. Грекову.
Поскольку «Пестрые сказки» носили во многом
экспериментальный характер, В.Ф. Одоевский в качестве своеобразного
лингвистического эксперимента счел возможным прибегнуть к «испанской»
пунктуации и некоторым другим пунктуационным особенностям, специально оговорив
их в главе «От издателя». Орфографию «Пёстрых сказок» отличает также намеренная
архаизация; например, писатель сознательно вводит написание буквы е вместо э.
Позже, включив ряд сказок в свои «Сочинения» 1844 г., В.Ф. Одоевский отказался
от «испанской» пунктуации и от архаизированной орфографии.
При жизни В.Ф. Одоевского «Пестрые сказки» как
целостный цикл не переиздавались. Шесть сказок из девяти писатель включил в
третий том своих «Сочинений» 1844 г.: пять из них составили раздел «Отрывки из
«Пестрых сказок»», шестая — «Игоша» — вошла в раздел «Опыты рассказа о древних
и новых преданиях». В XX веке цикл был переиздан в 1991г. издательством
«Книга», в 1996 г. в серии «Литературные памятники» издательством «Наука» был
выпущен труд, подготовленный М.А. Турьян. Издание включает в себя полный цикл
«Пёстрых сказок», дополнения, касающиеся истории образа И.М. Гомозейки, отзывы
современников, отрывки из редакций сказок и авторские правки, фотовклейки
обложки первого издания, а также статью ученого, посвященную исследованию цикла
В.Ф. Одоевского. С 1996 г. «Пёстрые сказки» не переиздаются первоначальным
циклом.
Отзывы современников В.Ф. Одоевского на «Пёстрые
сказки» были противоречивы. Отрицательно отозвался о цикле Н.А. Полевой. Он
отметил безжизненность сказок; указывая на мастерство Гофмана, критик отметил,
что «необходимо верить чудесному, разумеется, не с чувством простолюдина, но с
чувством поэта, и верить искренно, дабе заставить поддаваться обаянию и тех
людей, которым хотите вы передать свои ощущения». По его словам, В.Ф. Одоевский
не стал добродушным рассказчиком, а «только надел маску, сделанную столь
неискусно, что из-под неё видна его собственная физиогномия». Он сравнил форму
и внутренний смыл с аллегорией и нравоучением соответственно, тем самым уличил
писателя в обращении к «несообразному с нашим веком роду распространенной
басни». Н.А. Полевой увидел в произведениях лишь холодность, бесцветность и
«ничего не сказывающую аллегорию». Критик обвиняет В.Ф. Одоевского в подмене
чистого, доброго, искреннего и светлого «пылью остроумия», начитанностью и
поддельностью, а в заключение статьи делает вывод, что «для ума есть много
других поприщ» [13‚114-118].
Неоднозначными оказались взгляды В.Г.
Белинского. В статье «Сочинения князя В. Ф. Одоевского» он отмечал в «Пёстрых
сказках» «несколько прекрасных юмористических очерков», таких как «Сказка о
мёртвом теле неизвестно кому принадлежащем» и «Сказка о том, по какому случаю
коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое
Воскресенье поздравить начальников с праздником». Совершенно не понял критик
фантастической «пьесы» «Игоша». Он увидел в ней подражание Гофману и
предостерег писателя: фантазм немецкого романтика составлял его натуру, он «в
самых нелепых дурачествах своей фантазии» был верен идее, поэтому подражать ему
опасно — «можно занять и даже преувеличить его недостатки, не заимствовав его
достоинств». Талантливое изложение отмечает В.Г. Белинский в «Сказке о том, как
опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и «Той же сказке, только
на изворот» [31,118].
Уже на исходе жизни, готовя свои «Сочинения» ко
второму изданию, в «Примечании к «Русским ночам»» В.Ф. Одоевский подвел итог
многочисленным уподоблениям или противопоставлениям его Э.Т.А. Гофману. Он
окончательно сформулировал свое понимание художественного метода немецкого
писателя: «Гофман… изобрел особого рода чудесное… нашел единственную нить,
посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное
искусство» [15‚189].
В.Ф. Одоевский отметил две стороны чудесного:
чисто фантастическую и действительную. Он говорил, что читатель не обязан
верить всему необычному в произведении: «в обстановке рассказа выставляется всё
то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто». Таким
образом, отмечал писатель, Э.Т.А. Гофман смог примирить наклонность к чудесному
и жажду анализа, что «было делом истинного таланта».
Совершенно противоположное мнение высказал Е.Ф.
Розен. Сказки В.Ф. Одоевского он называет родом чудесного, при котором «не
только идея целого, но и значение каждого частного действия и явления должны
выйти наружу, ибо ясный, во всем разгаданный смысл придает занимательность и
самой уродливости, есть — так сказать — необходимый свет в этом волшебном
фонаре». Барон отмечал оригинальность воззрений автора, «пронзительный
философский ум», «неистощимое богатство фантазии». Высокая оценка сборника
видна в последнем абзаце статьи, где рецензент говорит о роскошном издании
сказок, прибавляя: ««Пестрые сказки» и по роскоши издания суть новость на нашем
Парнасе» [13‚111-113].
Положительно отозвался о сборнике Э.В. Бинеманн.
В письме В.Ф. Одоевскому он писал: «это средоточие восхитительной элегантности
и изящества, эту частицу «Тысячи и одной ночи»; но по крайней мере очевидно,
что сказки Шехерезады не могли меня так развеселить, как эти «Пестрые сказки»»
[13‚119].
М.П. Погодин говорил о любви автора к
человечеству, «чувством и убеждением проникнута вся его строка». Язык сказок —
остроумен, правилен и чист. Однако он отмечал и то, что наклонность к
необыкновенному иногда выходит из границ и вызывает недоумение [13‚127].
Интересен отзыв читателя А.И. Сабурова: «Мысли г-на Адуевского, имея отпечаток
колкой аллегории, совершенно справедливо и искусно касаются предметов, часто
встречающихся в общежитии и обществе… Вообще в книге сей слог чист и мысли
разнообразны и остроумны» [13‚167].
Неопределенным остается взгляд А.С. Пушкина на
прочтенные «Пёстрые сказки с красным словцом». По свидетельствам В.А.
Соллогуба, в одну из встреч на Невском проспекте А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского
между ними произошел разговор, относительно вышедшего сборника: «Пушкин
отделался общими местами: «читал… ничего… хорошо…» и т. п. Видя, что от
него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические
сказки чрезвычайно трудно…Тут Пушкин снова рассмеялся своим звонким … смехом… и
сказал: «Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает?
Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно»
[13‚126]. Эти воспоминания появились в печати уже после смерти В.Ф.Одоевского.
Однако еще при жизни писателя, в 1860 г., версию разговора о «Пестрых сказках»
обнародовал П.В. Долгоруков на страницах издававшегося им в Париже журнала
«Будущность». В пасквильной статье, стремясь дискредитировать дружеский
характер отношений А.С.Пушкина с князем, он пересказал эпизод, описанный
позднее В.А.Соллогубом, как сплетню. В.Ф. Одоевский не принял данного
высказывания и переписал часть статьи в свой дневник, снабдив авторскими
комментариями. А позднее был написан «Ответ В.Ф. Одоевского П.В. Долгорукову»,
где князь говорит, что «анекдот, выдуманный бесчестным клеветником, и по
времени, и по характеру наших отношений с Пушкиным не мог существовать ни в
каком виде и ни при каком случае» [13‚124-125]. Однако невозможно совершенно
опровергать данную «клевету», поскольку известно свидетельство юриста и
музыканта, посетителя салона В.Ф. Одоевского, В. Ленца. «Одоевский пишет тоже
фантастические пьесы», — сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне», —
вспоминает В.Ленц [13‚128]. Отголоски иронического отношения А.С. Пушкина к
фантастике слышны в воспоминаниях Ю. Арнольда, согласно которым, А.С. Пушкин
называл В.Ф.Одоевского «гофманской каплей» [13‚166].
Таким образом, мы видим, что многие не принимали
научно-фантастическое начало в сказках, отмечали несовершенство «Пёстрых
сказок» в художественном отношении, неправомерны высказывания относительно
безыдейности аллегорий, имеющих не только фантастическую основу, но и философский
подтекст. В.Ф. Одоевский позднее подтвердил формальное значение цикла, включив
в «Сочинения» сказки, имеющие «чисто литературное значение». Но нельзя не
отметить, что благодаря первому опыту в подобном жанре мы наблюдаем за
развитием творческих идей и зарождением художественного метода писателя. М.А.
Турьян отмечает, что в сказках «обозначились практически все направления
дальнейших художественных поисков писателя, ставшего едва ли не единственным в
нашей литературе выразителем «философского романтизма» [13‚168]. Это в
значительной степени говорит о важности изучения «Пёстрых сказок» для понимания
истоков идей и направлений художественной мысли последующих произведений В.Ф.
Одоевского.
В современном литературоведении исследованию
«Пёстрых сказок» В.Ф. Одоевского уделяется недостаточное внимание. Основная
направленность трудов сосредоточена на втором цикле «Сказки дедушки Иринея», в
который вошли известные всем с детства «Городок в табакерке»(1834 г.), «Мороз
Иванович»(1841 г.), «Разбитый кувшин»(1841 г.) и др., ставшие признанными
классическими произведениями детской русской литературы. Но, не выявив
своеобразие первого цикла, роли героя-повествователя, невозможно проследить
развитие авторской мысли и особенностей литературной сказки В.Ф. Одоевского.
Изучением «Пёстрых сказок» занималась М.А.
Турьян, подготовившая их отдельное издание в «Литературных памятниках». Большой
вклад в развитие литературоведения о В.Ф. Одоевском ещё в начале XX века внёс
П.Н. Саккулин с его двухтомником о жизни и творчестве писателя. На его труд
опираются многие ученые в наши дни. Гофмановским традициям в «Пёстрых сказках»
посвящены статьи А.В. Ботниковой, Н. Лебедевой, А.Т. Грязновой. Связь Н.В.
Гоголя и В.Ф. Одоевского рассматривают В.И. Сахаров, М.В. Лобыцина, Л.А. Эмирова,
Н. Генина; А.С. Янушкевич посвятила статью становлению философского нарратива в
русской прозе. Можно найти несколько работ, посвященных связи В.Ф. Одоевского и
А.С. Пушкина, а также роли первого в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Жанровую поэтику цикла рассматривала О.И. Тиманова в статье «Принципы сказочной
циклизации в творчестве В.Ф. Одоевского». В связи с тематическим содержанием
«Пёстрых сказок» интерес могут представить статьи, посвященные педагогической
деятельности писателя, его социальным, философским и научным взглядам (И.Ф.
Худушина, А.В. Коваленко, Н.М. Михайловская, С.А. Соколовская, Т.П. Шумкова и
др.).
§2ю Идейно-жанровое своеобразие цикла «Пёстрые
сказки с красным словом»
В сказках В.Ф. Одоевского мы находим новое
изображение реальности, включающее в себя не только мифологические, но и
научно-художественные черты с элементами аллегории и мистики. Писатель не хотел
прибегать к стандартным средствам создания сказки, с её волшебным
пространством, фольклорными героями. Его целью было найти новое представление о
мире в век, «обрезавший крылья воображению». Стремясь воплотить свои идеи не
только в жанре литературной сказки для детей, но и во взрослой повести, В.Ф.
Одоевский разрабатывал хронику «Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки,
или Описание его семейственных обстоятельств, сделавших из него то, что он есть
и чем бы он быть не должен» (1830-е гг.), в которой главный герой, подобно
автору, был увлечен идеей преобразований. Уже там центральный персонаж
называется автором «Пёстрых сказок»».
В.Ф. Одоевский проявляет интерес к
бессознательному, взаимодействие которого с сознательным воплощает «принцип
автономии души и тела». Писатель стремиться воссоединить возможность человека
на равных условиях принимать инстинктивное и рациональное. Целостное познание
мира, не лишенное веры в чудесное и способности творческого мышления, присуще
только ребенку. В.Ф. Одоевский называет трёх деятелей мышления человека:
предзнание, сознание и разумение — «сии три фактора необходимы безусловно. Нет
ни одного психологического явления, которое бы не подходило под сей закон. В
детях можно заметить даже отдельное, постепенное действие этих
факторов…»[12‚134].
Своей задачей В.Ф. Одоевский видел найти
средство, способное «отвратить» ум ребенка от грёз к окружающему миру. Этим
средством становится научно-познавательная, фантастическая сказка. «Грёза»,
ирреальное — это состояние души, «где игра воображения так чудно сливается с
действительностью». Повествование должно включать в себя целостное
представление о предмете, каждая отдельная часть должна быть дана в гармонии с
предыдущей.
В цикле «Пёстрые сказки с красным словцом» В.Ф.
Одоевский затрагивает разные сферы и поднимает темы, во многом неожиданные и
непривычные для своего времени. Объединенные одним героем-повествователем и
заключенные в рамочный сюжет, аллегорические сказки наряду с
сатирически-фантастическими повестями обретают новые смыслы.
Образ рассказчика в повестях 30-х г. не был
открытием. До Иринея Модестовича был пушкинский И.П. Белкин, гоголевский Рудый
Панько, булгаринский Архип Фадеевич. Новым было его содержание: Гомозейко —
ученый, «магистр философии». Поведению повествователя соответствовало и
говорящее имя: Ириней — от греческого eirēnē —
«мир, спокойствие»; Модестович — от латинского mŏdestus — «скромный»;
Гомозейко — старый русский глагол «гомозить, или гомозиться» — «беспокойно
вертеться, суетиться», — это было присуще просветительским традициям писателя
[116‚373]. Гомозейко знает все возможные языки, превзошел все существующие
науки, а основная его страсть — «ломать голову над началом вещей и прочими тому
подобными нехлебными предметами». Философ живёт в бедности, фрак его пришел в
«пепельное состояние», в нем уже нельзя выйти в свет, а это — «единственное
средство для сохранения своей репутации». Несмотря на то, что у героя нет
ничего общего с людьми гостиной, он даже в мороз бежит на бал «в одних
башмаках», появляется на всех балах и торжествах. «Мне, издержавшему всю свою
душу на чувства, обременённому многочисленным семейством мыслей, удручённому
основательностию своих познаний, — мне очень хочется иногда поблистать ими в
обществе», — признается Ириней Модестович.
П.Н. Сакулин справедливо назвал его «мучеником
гостиных». В светском обществе, ничего не смыслящем в истории, философии, медицине,
химии трудно найти человека со схожим мышлением и интересами; у слушателя
«сделались судороги и глаза его невольно стали поворачиваться из стороны в
сторону». О мистическом и фантастическом содержании рассказов Гомозейки мы
можем предположить, исходя из направления его интересов: он говорит издателю о
намерении купить редкую книгу по астрологии, хиромантии, физиогномике и др.
Ученый интересуется «странными науками», которые увлекали людей в древние века.
Эти мудрецы были отважные идеалисты, стремившиеся «вырвать» у природы её тайны
и сделать жизнь человечества счастливой. Их открытия «производили такое же
обширное влияние на человечество, какое бы ныне могло произвести соединение
паровой машины с воздушным шаром, — открытие, которое… не даётся нашему веку».
В этих и подобных высказываниях Иринея Модествовича мы слышим протест против
рассудочности и материализма и призыв к отысканию «начала вещей». Гомозейко
говорит о духовной нищете, об утрате человеком веры в чудесное, поэтического
начала. Для героя жизнь — бессмысленная суета: «Живёшь, живёшь, нарахтишься,
нарахтишься, жить — не живёшь, смерти не знаешь, умрёшь и ¿что
же останется? Сказать стыдно».
В первой «социально-философской аллегории»
«Реторта» Ириней Модестович говорит о том, что люди, в частности салонное
общество, загнаны в аппарат, служащий для перегонки или для воспроизведения
реакций, продукты которых заново подвергаются этому процессу. Каждый их них не
делает ничего значительного для окружающего мира; жизнь только впечатлениями и
эмоциями, без ума и бездействия осуждает ученый, а вместе с ним и В.Ф.
Одоевский. Душевная и духовная «духота» гостиниц, присущая им скука, приводят к
бессмысленности существования, к утрате вечных понятий любви, добра, ума.
Попадая в такое общество внешние перемены, описываемые рассказчиком, можно
соотнести и с изменениями внутреннего мира и мироощущения. Философ описывает,
каково ему было на дне реторты, выбраться из которой — основная задача жизни:
«мой новый, прекрасный чёрный фрак начал сжиматься и слетать с меня пылью»,
галстук «покрылся сажею», «башмаки прогорели»; «я сделался вдвое меньше», а «от
волос пошёл дым: мозг закипел в черепе».
Светский бал наскучил скучно даже чертёнку,
который дистиллировал в реторте высшее общество: «День-деньской вас варишь,
варишь, жаришь, жаришь, и много-много, что выскочит из реторты наш же брат
чертенёнок, не вытерпевший вашей скуки». Всё, что составляет наполнение реторты
— вода и копоть.
В «Реторте» мы впервые знакомимся с персонажами
последующих сказок: Пауком, Мёртвым телом, Колпаком, Игошей. Присутствует здесь
характерный для литературной сказки мотив приключения: «я представил
сотоварищам план…: пробираясь сквозь дыры, наверченные указкою, из страницы в
страницу, поискать: ¿не найдём ли
подобного отверстия и в переплёте, сквозь который можно было бы также
пробраться тихомолком?». Путешествие по страницам Латинского словаря
представлено в виде аллегории: главный герой растворяется в буквах и
превращается в сказку. Здесь возможно две интерпретации: текст подчиняет себе
человека, полностью завладевает его умом и заставляет жить прошлым, древним; с
другой стороны, Латинский словарь здесь — книга сказок, но подчиненная тёмной
силе, убивающей всё человеческое. В своей статье «Кто виноват?» В.Ф. Одоевский
называет книжно-журнальную печать «печальным кладбищем всех человеческих
мыслей» [10‚63].
Представление историй встреченных в словаре и
подобранных им персонажей Гомозейко начинает со «Сказки о мёртвом теле,
неизвестно кому принадлежащем». В.Я Сахаров определяет жанр этой части как
повесть. Действительно, здесь, за шутливым повествованием и фантастическими
событиями, воспроизводится естественное течение жизни. Повествование заключает
в себе определённый небольшой промежуток времени — основные события происходят
в течение суток, с момента завязки до основного действия проходит 3 недели. В
центре находится одно событие — поиск хозяина мёртвого тела «мужеска пола»,
место действия — г. Реженск; сюжет сосредоточен вокруг главного героя —
приказного Севастьяныча, а его поведение, образ жизни и поступки открывают
перед читателем злободневные проблемы реальности.
Перед нами в шутливо-иронической форме
представлено описание бытовых подробностей: Севастьяныч здесь — любитель
опорожнять по штофам «домашнюю желудочную настойку»; относящийся к своему делу
с особой канцелярской скрупулезностью «низового» сознания: решив подготовить
бумаги к завтрашнему заседанию, он «предварительно поправил светильню в
железном ночнике, нарочито для подобных случаев храмом старостою села
Морковина». Чувствуя себя преисполненным долга, Севастьяныч видит себя «уездным
толкователем законов», которые он бережно хранил в замасленной тетрадке,
доставшейся ему от батюшки, отставленного от должности за ябеды и доносы.
Способность воздействовать на чиновничьи умы называет он «магической силой»,
позволяющей держать в повиновении «и исправника и заседателей». Показателен
эпизод со спасением своего «благоприятеля», совершившего нехорошее дельце, за
которое виновник мог отправиться в «не совсем приятное путешествие». Перехитрив
закон, приказной берет свидетельство со знакомого обвиняемого, а затем, сделав
важный вид, с особой интонацией, практически заставляет обывателей подписать»
единогласное показание». Благодаря всем своим выдумкам для решения «знаменитых
дел Реженского земского уезда» душу его посещало «сладкое ощущение собственного
достоинства».
Фантастичекий персонаж — призрачный хозяин
«мёртвого тела» -введен в сюжет для изображения поведения «приказных
Севастьянычей» в, казалось бы, абсурдных, немыслимых ситуациях. Фантастика не
является частью реальности: диалог приказного и владельца тела, имеющего
слабость иногда выходить из него, происходит во сне. В их разговоре проявляется
всё та же сосредоточенность «опытного» чиновника. На все реплики «мёртвого
тела», Севастьяныч отвечает привычными «та-ак-с» и «кабы подмазать немного».
Нелепость ситуации не смущает персонажа, он, не поднимая головы, следит лишь за
правильность оформления бумаг, а за нелепым представлением гостя
«Цвеерлей-Джон-Луи», «иностранца» по чину, записывает привычным чиновничьим
языком: «В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия
Жалуева, объяснение».
В.Я. Сахаров в статье «О жизни и творениях В. Ф.
Одоевского» справедливо отметил, что «бытие Савастьяныча настолько бездуховно,
автоматично, что любая несообразность находит здесь своё место, не вступая с
этой жизнью в противоречие» [93‚8]. Даже после пробуждения физического,
духовного пробуждения не наступает. Помня об обещанных пятидесяти рублях,
приказной старается «выхлопотать» мёртвое тело.
Безусловно, необходимо отметить наличие
сказочных элементов в произведении. Характерным по построению синтаксических
конструкций для сказки является эпизод с грёзами Севастьяныча о собственном
доме: «вот идёт его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный
крупичатый каравай; вот тёлка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча;
большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот тёплая
лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свёрнутый лоскут
пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в
книжнике серенькие бумажки», — последняя часть может напомнить читателю
народную сказку о Кощее Бессмертном. Как у злодея за семью замками находится
ключ к его жизни, так и у приказного дальше всего схоронены «серенькие
бумажки», составляющие смысл его существования.
Сказочно-мистическим предстает перед нами
владелец тела: «в тёмном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то
явится, то опять пропадёт…». Мотив былины прослеживается в конце произведения,
где миф о появлении «мёртвого тела» превращается в предание, обрастающее
домыслами: «в одном соседнем уезде рассказывали, что… владелец вскочил в тело,
тело поднялось, побежало». В другом уезде «утверждают, что владелец и до сих
пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу» с просьбой выдать тело, а тот
«не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки».
В.Ф. Одоевский воспроизводит ситуацию курьёза и
бытового анекдота, при которых сказку-повесть вполне можно назвать социально
ориентированной и сатирической. По мнению автора, сатира — «выражение нашего
суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частию
ироническое» [16‚45]. Ярким примером такой сатиры можно назвать жизнь провинциальных
уездов, изображенных В.Ф. Одоевским.
Восприятие сказки критиками было разным. Н. Ф.
Сумцов видел её смысл в «наклонности русских дворян Савелиев Жалуевых оставлять
своё тело и превращаться в иностранных недорослей Цверлей Джон Луи» [97‚17]. А.
Ф. Кони считал, что Одоевский предвосхитил в сюжете сказки «Странную историю
доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. Стивенсона [57‚55]. Е. П. Званцева в
статье «Новое и традиционное в сказках В.Ф.Одоевского» отметила сходство одного
из эпизодов «Сказки о мёртвом теле» с «Органчиком» Салтыкова-Щедрина:
«Возможно, от этой сказки Одоевского идёт эпизод из «Истории одного города» с
головой органчика, выкинутой из телеги и приставленной к телу неизвестного
лейб-кампанца капитан-исправником» [50‚140]. М.А. Турьян отмечает сходство
сказки В.Ф. Одоевского с «Гробовщиком» А.С. Пушкина и «Носом» Н.В. Гоголя.
Однако фантастика Н.В. Гоголя оказывается «немотивированной», в отличие от
фантастики автора «Пёстрых сказок», разрешенной сном и пробуждением
[13‚158-159].
В жанре повести написана и следующая часть
«Пёстрых сказок» — «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в
стеклянной банке, или Новый Жоко». В.Ф. Одоевский даёт подзаголовок
«Классическая повесть», с самого начала указывая на пародийное содержание
произведения, подразумевая бытующие в то время сюжеты сентиментальной
французской прозы.
Название заключает в себе аллюзию к произведению
Ш. Пужана «Жоко, эпизод, извлеченный из неизданных писем об инстинкте животных»
(1824 г.). Повествование об обезьянке, верной своему хозяину, впоследствии её
погубившему, пользовалось большой популярностью. Английский исследователь Н.
Корнуэлл считает, что сатира В.Ф.Одоевского направлена французского писателя П.
Бореля, создавшего образ «волкочеловека» [‚253]. Такая гипотеза возможна,
поскольку в завязке мы узнаем о родословной паука-поветвователя, об его отце
Ликосе — с греч. «волк», «его грозном виде, его жестокосердечии». М.А. Турьян
называет «контр-версию» А. Погорельского «Путешествие в дилижансе»,
представлявшую собой «полемическую, анти-руссоистскую переделку нашумевшего
сюжета» [13‚142].
Автор даёт понять читателю, что события и сюжет
в полной степени вымышленные: персонаж — сказка сам по себе. Затрагивая тему
науки, герой называет учёных «злодеями», а их деятельность «холодными
преступлениями». Он не терпит вторжений в природу, одарившую их вид
притворством, хитростью, силой и храбростью, в которую она же «положила зародыш
злополучия». Отец паука, наделенный природной быстротой и могуществом,
предстает перед нами в образе «нового Жоко», изначально подчинившего себе
доверчивое существо, а затем безжалостно поедающего его детей. В.Ф. Одоевский
открывает нам антиутопическую картину мира, в которой неизбежен конец всего
живого. Здесь мир — банка, а всё естественное лишь зеркальное, преломленное
отражение. Всеобъемлющий звериный инстинкт заставляет семейство поедать друг
друга. Устрашающая картина даётся на фоне «доброго», «природного бытия»,
описанного Ш.Пужаном.
Мир заточения предстает в виде жилища,
«великолепие» которого невозможно изобразить. Обманным путём попавший в ловушку
паук, называя место заточения «темницей», всё же становится падок на
«блестящие, прозрачные стены», «кристальные колонны», «радужные цветы» и т.п.
Не понимая иллюзорности существования, герой пользуется «дарами судьбы или
мощного волшебника». На героя находит забвение, надуманное, созданное им самим,
после которого «звуки умолкли, ложное солнце погасло, и мрак облекал всю
Природу». Мы видим здесь характерное для сказки противопоставление реальности и
ирреальности: замутненное сознание паука соотносится с обычным выключением
света и прочным закрытием крышки банки.
В заключение «классической повести»
Ликос-младший задает ряд вопросов: Вы сами уверены ли, убеждены ли вы, как в
математической истине, что ваша земля — земля, а что вы — люди?… ¿Что,
если исполинам, на ней живущим, вздумается делать над вами, — как надо мною, —
физические наблюдения, для опыта морить вас голодом, а потом прехладнокровно
выбросить и вас, и земной шар за окошко?» и проч. Исследователи отмечают их
пародийность и полемический оттенок, свойственный вечерам у В.А. Жуковского
[13‚144]. Это парафраз пушкинского «Домика в Коломне»: «Зачем эти господа?
Зачем их холодные преступления? на какую пользу?». Из этого следует вывод, что
текст предназначался для чтения в пушкинском кругу, среди слушателей,
понимающих его несерьёзность и знакомых с оригинальной повестью.
Учитывая то, что «Жизнь и похождения…» — первая
написанная из «Пёстрых сказок», мы можем наблюдать зарождение идеи В.Ф.
Одоевского сказку по внешней оболочке, канве, наполнять за счет содержания и
подтекста философским гротеском, так явно проявившимся в событиях произведения.
Расшифровывая энтомологический смысл сюжета, М.А. Турьян приводит примеры
увлечения автора сказок зоологией. «Каннибализм обостряет борьбу за жизнь, в
которой побеждает наиболее сильная особь, независимо от ее возрастной или
половой принадлежности» — естественнонаучное объяснение иронического сюжета,
метафоры «пауки в банке», которой В.Ф. Одоевский придаёт философский смысл
[13‚145]. Таким образом, данную повесть можно рассматривать как первый опыт писателя
в области научной фантастики.
К разряду гротесковых и сатирических
сказок-повестей относится и «Сказка о том, по какому случаю коллежскому
советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в Светлое Воскресенье
поздравить своих начальников с праздником». В.Ф. Одоевский, вновь прибегая к
элементам бессознательного, через сон и игру, юмористически обличает быт
чиновничества. Главный герой — Иван Богданович Отношенье — чиновник 6-го
класса, жизнь которого наполнена безмолвием. Небольшое оживление, «тень жизни»
появляется лишь перед составлением годовых отчётов. Его существование —
механическое: каждое утро «он вставал в 8 часов; в 9 отправлялся в комиссию»,
используя зевгму, автор саркастически описывает характер его монотонной работы:
«не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну».
Жизнь всего отдела наполнена ожиданием одного — игры в бостон, «необходимой
принадлежности службы». Время, проведенное за карточным столом, было «сильными
минутами» в его жизни, Отношенье делался «львом»: «в эти минуты
сосредоточивалась вся его душевная деятельность, быстрее бился пульс, кровь
скорее обращалась в жилах, глаза горели, и весь он был в каком-то
самозабвении». Сознание чиновника ограничено, направлено лишь в одну сторону,
все его мысли о зелёном столе.
То, чем герой жил в реальности, во сне, в
бессознательном состоянии, оборачивается против него. Действие принимает
фантастический, фантасмагорический оборот, похожий по описанию на
перевоплощение мира помещения в мир сказки: «один из игроков … задул свечки; в
одно мгновение они загорелись чёрным пламенем; во все стороны разлились тёмные
лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из
рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали,
— и составилась целая масть Иванов Богдановичей…». Происходит «бунт вещей».
Карты поменялись с людьми местами, стали им подражать, что выражалось не только
в образе их действий, но и в занимаемой позиции, по высоте чиновничьего
статуса, по положению в обществе: «короли уселись на креслах, тузы на диванах,
валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали
по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам».
В.Ф. Одоевский обращается к теме мнимого блеска
городской жизни, за которым кроется низменная действительность. Устрашающим
является и то, что события происходят Страстную субботу. Игроков предупреждало
три выстрела, то есть три часа ночи, время, когда нечистая сила с лёгкостью
проникает в наш мир: «они приросли к стульям; их руки сами собою берут карты,
тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери
комнаты сами собою прихлопнулись».
Даже фантастическое, ирреальное не способно
внести в мир настоящую жизнь. Существование Ивана Богдановича — бессвязно,
бессмысленно и «тяготеет к абсурду». А.А. Григорьев, говоря о «незаконных
законах» общества в творчестве Н.В. Гоголя, также отмечает
социально-обличительные сочинения В.Ф. Одоевского, в частности сказку об
Отношении: ««во многих местах своих глубоких, тяжкою думою порожденных суждений
говорит [автор] о той же видимой, для него темной, силе, видит эту силу повсюду
и, наконец, вовсе не в шутку, считает одним из ее самых верных средств — карты,
уравнивающие все и всех… ».
Образцом собственного «фантастического»
повествования В.Г. Белинский назвал пятую часть цикла — «Игоша» [31].
Действительно, именно её можно причислить к традиционному жанру литературной
сказки, созданной на фольклорной основе. Существо игошу впервые описал В.И.
Даль в книге «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа». В отличие
от других персонажей славянской мифологии, так как Баба-Яга, Кощей Бессмертный,
Змей Горыныч, домовые и кикиморы составляют малую часть народных и литературных
сказок. В книге лексикографа Игоша определяется как «поверье, еще менее общее и
притом весьма близкое к кикиморам: уродец, без рук без ног, родился и умер
некрещеным; он, под названием игоши, проживает то тут, то там и проказит, как
кикиморы и домовые, особенно, если кто не хочет признать его, невидимку, за
домовика, не кладет ему за столом ложки и ломтя, не выкинет ему из окна шапки
или рукавиц и проч.» [120‚15]. Эти признаки берёт за основу и В.Ф. Одоевский,
уточняя только внешний вид и проказы «безрукого, безногого».
Сказка «Игоша» открывает перед нами внутренний,
психологический мир ребёнка, его способность к мечтаниям и суевериям. Наряду с
маленьким героем верят в домового и нянюшка, и извозчики. Сознание простого
народа отождествлено с детским, неиспорченным. Ему противопоставлен ум и
мышление просвещенных людей — маменька героя и его батюшка: «я ему рассказал
всё как было, он расхохотался». В.Ф. Одоевский воспроизводит принцип мышления,
отражённый в былинах, фольклоре, где каждая мысль имеет одно значение, а слово
и понятие истолковываются буквально. Мир ребёнка и рационально мыслящего
взрослого приводится в противопоставлении. В этом отражено увлечение В.Ф.
Одоевского психологией. Автор прослеживает цепочку возникновения представлений
о предмете на разных уровнях сознания.
Сосуществование реального и ирреального,
фантастического представлено в соотношении взрослого и детского миров. В сказке
нет привычного забвения или сна, всё построено на способности ребёнка
фантазировать и верить своим представлениям: «Игоша не давал мне покоя; то
ущипнёт меня, то оттолкнёт, то сделает мне смешную рожу — я захохочу; Игоша для
батюшки был невидим — и батюшка пуще рассердился».
Образ домового, самого не понимающего, что
плохо, а что хорошо, не умеющего по-другому, по-доброму смешон: «я тебе и
игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и верёвки
развязываю…, а ты ещё на меня жалуешься».
Особенностью сказки является намёк на
ретроспективное изображение событий. Из начала цикла мы узнаем о рассказчике
Иринее Модестовиче и, наблюдая здесь повествование от первого лица без указания
иного героя, можем предположить, что история принадлежит самому взрослому
учёному-философу. Во второй версии «Игоши», исключенной из цикла «Пёстрых
сказок», уже наблюдается очевидное воспоминание о прошлом и попытка
самоанализа, что характерно для художественно-философского принципа В.Ф.
Одоевского.
Таким образом, в «Игоше» мы видим характерное
для сказки фольклорное начало; сосуществование реального и ирреального, данное
через образ ребёнка и рационально мыслящего взрослого, также наблюдаемое в
«Чёрной курице…», с той разницей, что В.Ф. Одоевский способность к мечтанию,
грёзам и вере в волшебство причисляет ещё простому народному сознанию. Не без
основания отметил Н.Ф. Сумцов, что эта сказка «представляет постепенный процесс
развития в душе ребенка мифа» [97‚18].
Идейный замысел «Просто сказки» заключается в
небольшом эпиграфе из Ж.-П. Рихтера: «Геллер прежде меня заметил, что в ту
минуту, когда мы засыпаем, но ещё не совершенно заснули, всё, что для нас было
лёгким очерком, получает образ полный и определённый». Тема сна и яви —
сквозная на протяжении всего цикла «Пёстрых сказок». Лейтмотивом звучит идея
воплощения человеческого подсознания в ирреальности. «Просто сказка» одним
предложением-завязкой определяет художественное пространство произведения:
«Лысый Валтер опустил перо в чернильницу и заснул». Все предметы, изо дня в
день окружавшие его одушевляются и живут своей жизнью: кресла «передвигая
ножками, вступали в комнату», колпак произносит возвышенные речи о вязальной
спице, красная туфля заходит «кокетствуя и вертясь на каблуке» и тд. Создавая
аллегорию влюбленности колпака в туфлю, несущую в себе что-то «высокое и
таинственное», автор говорит о следовании манящим чарам тёмного, которым так
легко поддаются люди, обманувшись «нежным лепетом», «миловидностью» и внешней
привлекательностью. А поддавшись искушению, можно навсегда запачкать свою душу
и никогда не очиститься. Мысль автора вложена в речь мыльницы: «Зачем веришь
своей предательнице? Не душистое мыло ты найдёшь у неё, там ходят грубые щётки,
и не розовая вода, а каплет чёрная вакса! Воротись, пока ещё время, а после —
не отмыть мне тебя». Мы можем предположить, что Валтер в реальности совершил
нехороший поступок, «легкомысленный», опрометчивый, прельстившись ничего не
значащими обещаниями. Его душа — колпак, чистая и невинная прежде, теперь —
полна угрызений совести, «толстыми спицами колющей его внутренность».
Ирреальность, сон не способны изменить действительность, и «колпак остался
невымытым, потому что в эту минуту Валтер проснулся».
Помимо усмотренного нами нравоучительного
оттенка сказки, П.Н. Сакулин увидел здесь «высшую степень пошлости»,
изображение «житейской прозы» и «материализма» [91‚26]. Другую версию высказал
Н.Ф. Сумцов, приняв образ туфли за «литературных льстецов» [97‚17].
Совершенно иной характер представляют две
последние «Пёстрые сказки»: «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по
Невскому проспекту» и «Та же сказка, только на изворот» со вставной частью
«Деревянный гость, или сказка об очнувшейся кукле и господине Кивакеле». Скорее
иронией, чем сатирой, пронизаны строки этих произведений, противопоставленных в
названии, но идейно однонаправленных по смыслу. Аллегорическое превращение
русских девушек в кукол использует В.Ф. Одоевский для отражения повсеместного
подражания быта русских людей иностранным манерам. «Новоприезжий искусник» с
«бесовским составом»: французской головой, немецким носом и английским животом
— делает из русской красавицы холодную, бездумную, капризную куклу.
Автор вновь использует образ реторты, уже не для
изображения «копоти» светского общества, а для характеристики пагубного
воздействия чрезмерного чтения зарубежных романов, дистиллировав которые
получилась «какая-то бесцветная и бездушная жидкость», заполнившая потом,
наряду со сплетнями, слухами и прочим, сердце девушки. По-сказочному
метафорически описывает автор и само превращение: «окаянный басурманин»
перочинным ножом соскреб славянский румянец, «стёр с неё белизну… и красавица
сделалась жёлтая, коричневая»; «к наливной шейке приставил пневматическую
машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках», а язычок схватил
и повернул так, «чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского
слова». После этих действий кукла не может проявлять добра, тепла, не замечает
истинного искусства. Она создана только для всеобщего любования. Разговор с
юношей, попытавшимся спасти её, даёт понять, что внешняя оболочка юных
подражательниц не заключает в себе жизни; любовь, то, чем живёт «всё существо»
человека, ассоциируется лишь с весёлым балом.
В конце сказки автор подводит ироническое
нравоучительное заключение: «А кто всему виною? сперва басурмане, которые
портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше
десяти». В совокупности со всем содержанием произведения оно вызвало
саркастичекий отзыв В.Г. Белинского: «Эта сказочка навела нас на мысль об
удивительной сметливости русского человека всегда выйти правым из беды и
сложить вину если не на соседа, то на чорта, а если не на чорта, то на
какого-нибудь мусье…» [13‚121]. Сам писатель называл своё сочинение «шуткой».
Он подчеркивал то, что его обвинения в упрямой приверженности к «исконно»
русскому быту, «квасному патриотизму», необоснованны из-за неверной трактовки
произведения. «Кто понимает цену западного просвещения, тому понятны и его
злоупотребления», — пишет В.Ф. Одоевский.
Продолжению истории брошенной куклы предшествует
отступление повествователя, в большинстве своем, с призывом к полемике. В.Ф.
Одоевский спорит с «пишущей братией», смотрящей «из передней… в гостиную», не
знающей истинного положения вещей. Отступление наполнено духом аристократизма и
прославлением сословного класса, за что писателя осуждали критики. «¿Зачем
нападаете вы на то состояние общества, которое заставляет глупость быть
благоразумною, невежество — стыдливым, грубое нахальство — скромным, спесивую
гордость — вежливою?», — с оттенком высокомерия говорит писатель. Критики,
принявшие аллегорию на себя, говорили, что люди не куклы и не хотят ими быть.
Свой ответ В.Ф. Одоевский представляет в виде продолжения истории в сказке о
«деревянном госте».
В «Сказке об очнувшейся кукле и господине
Кивакеле» писатель вводит дополнительного героя и переставляет персонажей
местами. «Прародитель славянского племени», индийский мудрец, следуя традициям
сказочного жанра, горькой слезой оживляет «мёртвую жизнь» красавицы. Иронически
и подражательно используется здесь В.Ф. Одоевским высокая лексика: «скатилась с
его седой ресницы», «канула», «затрепетала… как обрывок нерва, до которого
дотронулся магический прутик». В таком же тоне продолжается повествования.
Искусством, звуками Бетховена, «созданиями Рафаэля и Анджело», герой возвращает
девушку в реальность, наполняет её любовью к жизни, искусством «страдать и мыслить»,
а «цепи обезьянного чародейства» разносятся прахом.
Но русской красавице приходится расплачиваться
за былую приверженность иностранному. Ей так и не удаётся постигнуть величия
любви. Сновидение с его поэтическими грёзами в реальности воплощается не в
прекрасном юноше из грёз; перед глазами «существо, которое назвать человеком
было бы преступление; брюшные полости поглощали весь состав его; раздавленная
голова качалась беспрестанно…; толстый язык шевелился между отвисшими губами,
не произнося ни единого слова; деревянная душа сквозилась в отверстия,
занимавшие место глаз, и на узком лбе его насмешливая рука написала: Кивакель».
Увлеченный лишь лошадьми, он вёл однообразный,
бездумный образ жизни, сопоставимый с существованием куклы. Приобретя способность
страдать, красавица не приобрела «искусства переносить страдания» и, как в
предыдущий раз, её бездыханное тело вновь оказалось под окном.
Философское заключение делает автор в «Епилоге».
Люди — куклы, кем-то управляемые, подвластные чужому влиянию и мнению. Эпилог
можно сделать эпиграфом ко всему циклу «Пёстрых сказок». Живое и человеческое
утрачивается с самого начала: люди обрастают текстом в словаре, превращаются в
пауков, превращаются в копоть и воду, становятся «мёртвым телом», обращаются в
карты и колпаки. Фантасмагории перестанут существовать или приобретут иной,
волшебный характер, если люди научатся мечтать и будут способны, хоть иногда,
нерационально воспринимать окружающий мир.
Цикл «Пёстрые сказки с красным словцом,
собранные Иринеем Модетоичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных
ученых обществ, изданные В. Безгласым» своеобразен как по тематике, так и по
жанру. Выбирая канву для своего произведения, образ реторты, В.Ф. Одоевский
погружает читателя в мир научно-фантастического повествования. В цикле
затрагиваются темы науки и искусства, культуры и общества. Все сюжетные линии
заключают в себе два плана — мир реальности и ирреальности. Ирреальность у
писателя воспринимается как сон, выражение бессознательного, в котором
присутствуют отголоски человеческого бытия. Выбор такого изображения
фантастического мира связан с исследованиями В.Ф. Одоевского в психологии и его
схемой линейной последовательности мысли человека: предзнание — сознание —
разумение.
Цикл «Пёстрые сказки» неоднороден по жанру и
идейной направленности: мы находим в нём собственно литературную сказку с
фольклорной основой, сатирическую сказку-повесть на бытовом материале,
подражательную (пародийную) повесть, социально-философскую повесть,
научно-фантастическую сказку-повесть и нравоучительную сказку. За счёт
снабжения каждого произведения аллегорией, фантасмагорией, иллюзорностью
существования, откликом на злободневность ситуации в сочетании с дидактикой и
нравоучением мы вполне можем говорить о жанре литературной сказки в творчестве
В.Ф. Одоевского, художественное повествование которой предназначено как для
юного, так и зрелого читателя.
Глава III Сказочные мотивы в романе А.Ф.
Вельтмана «Сердце и Думка»
«Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал
русскую старину в романтизме, доказал, до какой прелести может доцвесть русская
сказка, спрыснутая мыслию…», — так оценивал талант Александр Фомич Вельтмана
А.А. Бестужев-Марлинский. Историк, этнограф, археолог, славяновед, музыкант,
военный — автор «Сердца и Думки» — открыл миру удивительное сочетание жанра
романа и литературной сказки. Нас он будет интересовать, прежде всего, как
писатель, самобытный и оригинальный, предвидящий своё «сказочное» творчество с
самого детства. Литературное наследие А.Ф. Вельтмана мало изучено, не
определена его роль в развитии русской литературы. Большое количество рукописей
писателя до сих пор не издано, а роман-сказка «Сердце и Думка», о котором будем
говорить в данной главе, переиздавался всего лишь один раз. Мы осветим
характеристику творчества и личности романиста во взглядах современников и
исследователей XX — XXI вв., а также рассмотрим специфику употребления жанра
литературной сказки и его отражение в романе 1838 г. «Сердце и Думка».
§1. Личность и творчество А.Ф. Вельтмана в
отзывах современников и литературоведении XX-XXI вв
Путь к литературной сказке А.Ф. Вельтман начал с
раннего детства. Воспитателем его был денщик отца «дядька Борис», «отличный
башмачник и удивительный сказочник». Сам писатель вспоминал: «он ловко
привязывал меня к себе длинной сказкой, нисколько не соображая, что со временем
из меня выйдет сказочник» [1]. Однако путь его в литературу был долгим. Если
первый роман «Странник» увидел свет только в 1831 г., то историю Сердца и Думки
лишь в 1838 г., когда писателю исполнилось 38 лет. Однако уже с первых
литературных опытов прослеживаются темы фантастического путешествия
(«Странник», «Александр Филлипович Македонский. Предки Калимероса», «Рукопись
Мартына Задека» и др.), русского фольклора и сказаний («Кощей Бессмертный»). С
1830-х гг. повествование строится на реальной действительности,
социально-бытовом материале («Виргиния, или Поездка в Россию», «Карьера»,
«Неистовый Роланд» и др.) — всё это предопределяет появление произведения,
сочетающего в себе фантастическое и действительное — «Сердца и Думки». А мотив
приключения, характерный для литературной сказки, присутствует уже в заглавии
(Роман «Сердце и Думка. Приключение»). Позднее он является основой для
«Приключений, почерпнутых из моря житейского».
Обладая искренностью, добротой, фантазией и
воображением, неподдельным трудолюбием и интересом к своему делу, А.Ф. Вельтман
не мог не создать фантастического произведения. Отзывы современников
уважительны и доброжелательны. Посетители литературных вечеров в доме писателя
говорят о нём как о человеке «милом и симпатичном», крайне талантливом, умеющем
заинтересовать и привлечь публику: «он делал очень искусно из алебастра копии
небольших античных статуй… Он играл довольно искусно на гитаре и ещё на
каком-то изобретенном им инструменте», — отмечает Н.В. Берг [33‚371]. Он же
говорит о присущем А.Ф. Вельтману невероятном воображении: «Воображение его
было самое необузданное, упрямое, смело скакавшее через всякие пропасти,
которые других устрашили бы, но не было такой пропасти, которая устрашила бы
почтеннейшего Александра Фомича» [33‚368].
Приятную наружность и манеру общения отмечает
И.И. Срезневский: «Вельтман — истинный поэт, мужчина прекрасный собою, со
светлым, открытым лбом и блестящими глазами, пишет несравненно лучше, нежели
говорит, но говорит умно, весело и задумчиво вместе, добр, прост, окружен
книгами, беспрерывно работает, чем и живет…» [3‚10]. А.В.Дружинин усматривает
в писателе неоцененное достоинство: «живой, оригинальный склад ума, или
способность во всяком предмете открывать какую-нибудь новую сторону, то
забавную, то светлую, то неожиданно интересную» [6‚325]. Современники говорят о
фантазии писателя как об основной черте его таланта.
В некрологе, посвященном романисту, М. Н.
Погодин также говорит о воображении А.Ф. Вельтмана и его открытой и
восприимчивой душе: «С живым, пылким, часто необузданным воображением, которое
не знало никаких преград, и с равною легкостию уносилось в облака, даже и за
облака, или опускалось в глубь земли, переплывало моря и прыгало через горы,
Вельтман страстно был предан историческим разысканиям в самом темном периоде
истории… Жалко было сказать ему что-нибудь вопреки и разрушать его детское,
милое, искреннее очарование» [82‚405-406]. «К какому бы предмету ни прикасался
Вельтман, везде он, с неистощимым своим воображением, умел находить стороны
новые, любопытные живо, талантливо показывать их читателям» — несомненно, это
высказывание публициста относится как к литературной сказке, так и ко всему
оригинальному творчеству Александра Фомича.
С.П.Шевырев считает, что главная черта таланта
А.Ф. Вельтмана заключается в «своенравии фантазии, которая хочет господствовать
над всеми другими способностями, часто пренебрегает жизнию и всякою
историческою действительностию и любит наслаждаться только в том мире, который
сама она созидает» [112‚431].
О самобытности таланта А.Ф. Вельтмана ни один
раз писал В.Г. Белинский. Он отмечал его «живой, лёгкий, оригинальный талант»,
способность придать каждой шутке прелести и оригинальности. Видел критик ярко
выраженную наклонность к сказке: «…истинный чародей, истинный поэт!», взгляд на
древнюю Русь у него «чисто сказочный и самый верный». Способность увлечь
читателя за собой видел он в «Страннике», где «прихотливая и причудливая
фантазия автора» влекла за собой повсюду [30‚272]. Это высказывание можно
отнести и к приключенческому сюжету «Сердца и Думки». В.Г. Белинский выделял
две основные, на его взгляд, особенности творчества А.Ф. Вельтмана:
«странность» (талант-фантазия, «причудливый, капризный, любящий странности») и
народность. Народность романов как раз и выражается в том, что произведения
«дружны с духом народных сказок, покрыты колоритом славянской древности».
Положительный отзыв Л.Н. Толстого о творчестве
А.Ф. Вельтмана мы находим к книге А.М. Горького «Литературные портреты»: «Не
правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда
лучше Гоголя» [42‚162]. Кроме того, нельзя не сказать о влиянии как личности,
так и творчества А.С. Пушкина на А.Ф. Вельтмана. Именно поэма «Руслан и
Людмила» дала начала сказочному творчеству романиста. Он увлекся описанием
приключений романтических героев, создавая подражательную поэму «Этеон и
Лайда». А в Кишиневе, прослыв «кишиневским поэтом», он начинал обращаться к
сатирическому изображению общества. Сочетание социально бытовой сатиры и сказки
мы находим в романе «Сердце и Думка». Нужно сказать, что А.Ф. Вельтман один из
немногих, к чьим советам прислушивался А.С. Пушкин. И.П. Липранди
свидетельствует что автор «Странника» «один из немногих, который мог доставлять
пищу уму и любознательности Пушкина…». Александр Фомич «безусловно не ахал
каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним
в разбор, и это не ненравилось Александру Сергеевичу, несмотря на
неограниченное его самолюбие» [65‚252]. Дружба А.С. Пушкина и А.Ф. Вельтмана
продлилась до самой смерти поэта. Последнее событие потрясло романиста, весной
1837 г. он приступает к «Воспоминаниям о Бессарабии», где намеревается
рассказать о знакомстве с А.С. Пушкиным и их первых встречах. Эти воспоминания
были одними из самых приятных для А.Ф. Вельтмана. Н.А. Дубровский писал в
дневнике: «Вечером был у А.Ф. Вельтмана и просидел у него до 9 часов. Старик
тает, как свечка. Он был рад моему приходу. Рассказывал мне о своём знакомстве
с Пушкиным…» [25‚139].
Н.А. Некрасов в 1851 г. сказал об авторе «Сердца
и Думки» как об одном из «лучших наших повествователей и романистов… о которых
не может умолчать критик, заговорив о современной русской словесности» [3‚3].
Роман со сказочным началом «Сердце и Думка» был
издан в 1838 г. в московской «Типографии Н. Степанова» в 4-х частях. Он был
холодно встречен критиками. Даже В.Г. Белинский, всегда положительно
отзывавшийся о вельтмановских произведениях, признавался, что понял роман не
совсем. Он осуждал писателя за многочисленные группировки лиц, «беспрестанно
перебивающих друг у друга внимание читателя», «холодные аллегорические
арабески», за «излишнюю» затейливость и растянутость [32]. Действительно, порой
большое количество персонажей изображено на довольно маленьком художественном
пространстве текста, что может запутать читателя. Но подобные группы необходимы
для раскрытия приключений Сердца и Думки, их постоянного метания и попадания в
различные истории. А причинами этих перипетий выступают действия нечистой силы,
поэтому, если бы не было нагромождения образов, А.Ф. Вельтману не удалось бы
изобразить в полной мере сказочный сюжет. Кроме того, признавая наличие юмора в
произведении, критик уличил писателя в неестественности изображаемого, «во всем
этом видно желание смешить и для этого рисовать карикатуры». В пример он
приводит «Коляску» Н.В. Гоголя, где лица «действительные, и потому именно
смешные, что слишком действительные». Но даже в «Сердце и Думке» видел В.Г.
Белинский «оригинальный, игривый» вельтмановский талант, «только
художественности, творчества желали бы побольше».
Известен положительный отзыв читателя на
сказочный роман «Сердце и Думка», в котором он назван лучшим произведением А.Ф.
Вельтмана. Возможно, он является один из главных, поскольку его автором был
юный Ф.М. Достоевский [3‚17].
В 1897 г. С.О. Долгов в работе «А.Ф. Вельтман и
его план окончания «Русалки» Пушкина» говорит, что «отрицание правил, нежелание
поставить границы действительно богатой фантазии, склонность к самой запутанной
интриге» наряду с «несомненным дарованием, умеющим и очертить отдельные
характеры метко и выпукло, и представить отдельный эпизод живо и наглядно, и
унестись в таинственный, завлекательный сказочный мир» делали произведения
увлекательными, но после чтения оставляли чувство «не то неудовлетворенности,
не то разочарования» [44‚10-11].
В литературоведении 20-30-хгг. ХХ века
творчеству писателя посвящали свои работы В.Ф. Переверзев, З.С. Ефимова, Н.К.
Пиксанова, Б.Я. Бухтшаб и др. В них мы находим осмысление определённых
жанрово-стилистические тенденций романтизма А.Ф. Вельтмана. В исследованиях
поставлен вопрос об определении творческого метода писателя и его месте в
литературном мире XIX века. З.С. Ефимова основным содержанием вельтмановского творчества
видит комический гротеск. Талант писателя она называет «странным», так как его
творчество — «искание необычных форм, попытки создать новые законы
повествования… Он создает особую гротескную композицию, которая так забавляла
читателей и вызывала вместе с тем недоумения по поводу случайных ассоциаций,
композиционных срывов, неожиданных переходов из мира действительного в
фантастический» [46‚59] — всё это отразилось и на построении, и на восприятии
романа-сказки «Сердце и Думка». В.Ф. Переверзев обработал большое количество
материала по жизни и творчеству А.Ф. Вельтмана и одним из первых назвал его
«предтечей Достоевского».
С середины XX века изучением А.Ф. Вельтмана
занимались Ю.М. Акутин, В.Ю. Троицкий, Ю.В. Манн, Л.И. Кренина, И.П. Лупанова и
др. Свои работы они посвятили особенностям повествовательной прозы А.Ф.
Вельтмана. Широкий обзор творчества автора представил в 1979 г. Ю.М. Акутин в
сборнике повестей и рассказов. Там же он указывает на сближение первых повестей
А.Ф. Вельтмана с пушкинской прозой, их образы и темы присущи также повестям
Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского, Н.С. Лескова. Наибольшую близость исследователь
обнаруживает с творчеством Ф.М. Достоевского, в частности, в «трагических
историях униженных и оскорбленных» и в параллелях мужских и женских образов.
Отмечает он и восторженные отзывы о малой прозе писателя, например, в
«Библиотеке для чтения» за 1834 г.: «Повести Вельтмана! Да это клад! Когда
господин Вельтман начинает рассказывать повесть, он может быть уверен, что все
будут слушать его со вниманием и попросят повторить. Лучше его никто не
рассказывает: ему стоит только захотеть быть милым, забавным, трогательным,
наивным, беспритязательным рассказчиком, и он очарует всех своих слушателей»
[2‚8]. Интересна его статья 1975 г. «Издревле сладостный союз поэтов меж собой
связует…», в которой он рассматривает взаимоотношения А.Ф. Вельтмана и А.С.
Пушкина, не изученные полностью и в наши дни.
В исследовании «Русская народная сказка в
творчестве писателей первой половины XIX века» И.П. Лупанова говорит, что
сказка А.Ф. Вельтмана «входит в старину как факт специфического мировосприятия
прадедов, над которыми автор благодушно подсмеивается, или на правах
поэтического предания, сохраненного народной памятью» [67‚484-485]. В.И.Калугин
отмечает сочетание реального и ирреального в романах автора «Сердца и Думки»:
«картины сказочного мира соприкасаются с реально-историческими, сказка вводится
в историческую обстановку», при этом присутствуют три плана:
реально-исторический, сюжетно-бытовой и фантастически-сказочный [56‚13]. В.Ю.
Троицкий говорит о совмещении писателем интереса к фольклору и науке (истории,
этнографии, славяноведения, фольклористики): «А.Вельтман, как и Вл.Даль, был
прежде всего «собирателем» сюжетов и фактов народной старины и создателем
сказовой манеры повествования, обнаруживающей заимствование фольклорных приемов
сюжетосложения и известную подражательность разным жанрам народного творчества»
[105‚152-153]. Именно элементы славянской мифологии и фольклора мы видим в
романической сказке писателя.
Бесспорный вклад в развитие литературоведения об
А.Ф. Вельтмане внес А.В. Чернов. Помимо исследования всего творчества писателя,
он вместе с В.А. Кошелевым подготовил переиздание романа «Сердце и Думка» в
1986 г. в московском издательстве «Советская Россия». Ими написана
вступительная статья «Мудрая фантазия сказочника», где даётся обзор биографии,
основных этапов творчества писателя, его литературных связях и, наиболее
интересующий нас, анализ «Сердца и Думки».
А.В. Чернов и В.А. Кошелев за основу поэтики
романа принимают двойственность и игру, где «за внешней причудой…
просвечивается глубокая мысль, полная тревоги за человека». В «Сердце и Думке»
А.Ф. Вельтман соединил «романтические, фантастические мотивы с ярким
изображением русской действительности», а за основу сюжета принял разлад в
сознании человека [3‚17-18]. Исследователи отмечают глубокую философскую основу
произведения; здесь зарождается мотив бесконечного блуждания человеческой жизни
«средь волн моря житейского». Авторы вступительной статьи также указывают на
своеобразие таланта А.Ф. Вельтмана, на его грустную иронию по отношению к
проблеме разлада между желаемым и разумным в современной действительности и на
сатирическую манеру её изображения. Исследователи определяют этот роман как
«переходный», когда от «вымышленных исторических, утопических и фантастических
ситуаций писатель вступал в «море житейское» и переносил в реальное
повествование опыт сказочника, опыт своей мудрой фантазии». Подводя итог, они
упоминают о том, что не все современники поняли и оценили сказочный роман.
Необходимо сказать, что их труд крайне важен для продолжения вельтмановедения в
современной науке. Постепенно А.Ф. Вельтман переходит из «второстепенных
писателей» в «возвращённых» (термин О.Н. Щалпегина).1990 г. исследованием языка
прозы А.Ф. Вельтмана занимались С.И. Кормилов, С.А. Ковыршина, Р.Л.
Смулаковская; большое количество работ посвящено историко-приключенческой прозе
(О.В. Христолюбова, И.В. Банах, О.А. Скачкова, Н.В. Сушко, Е.А. Балашова, И.С.
Юхнова, Красникова М.Н. и др.). В XXI веке нет работ, посвященных исключительно
роману «Сердце и Думка», кроме двух небольших статей 2010 г. Е.И. Лукичевой, в
которых она рассматривает произведение в сопоставлении с творчеством А.
Погорельского и Э.Т.А. Гофмана.
Своей задачей мы видим определить своеобразие
употребления А.Ф. Вельтманом сказочных мотивов и установить их роль в романе
«Сердце и Думка».
§2. Специфика создания сказочного пространства в
романе «Сердце и Думка»
Мы уже упоминали, что сюжетной основой «Сердца и
Думки» является разлад между разумом и желанием. А.Ф. Вельтман опирается на
традиции литературных направлений как XVIII в., так и начала XIX в. От
классицизма он берет дифференциацию героев на положительных и отрицательных,
сатиру на общественные отношения, существующие в то время, наказание
отрицательных героев в конце произведения за свою самоуверенность. С традициями
романтизма произведение связывает противопоставление мечты и действительности,
психологическое начало, выраженное в расхождении чувства и мысли, Сердца и
Думки.
А.Ф. Вельтман, следуя традициям жанра
литературной сказки, сочетает в произведение два пласта: реалии современной
действительности городов (Москвы, Санкт-Петербурга, провинции Киева), с их
нравами, обычаями, определенным течением жизни, и сказочный мир, с Ведьмой,
Нелёгким, Бурей великой, Грозой и шабашем на Лысой горе. В «Сердце и Думке»
реальное и ирреальное существует в одном пространстве и времени: в текст не
включен сон (физический) или подробно описанное перемещение героев в
потусторонний, сказочный мир. Задачей А.Ф. Вельтмана было показать
современность, в которой поступки и судьбы людей зависят от условий жизни,
социального окружения, характера, воспитания. Для того чтобы объяснить
противоречия реальной жизни, автор вводит в текст фольклорно-мифологических
персонажей, последствия поступков которых становятся иносказательной мотивацией
действительности. Бессознательное в произведении выражается за счет забвения
героев под действием нечистой силы, при котором они продолжают свободно
находиться в обществе и вести привычный образ жизни. За счет изображенных
сказочных персонажей мы видим внутренние психологические противоречия людей, их
истинные жизненные позиции, цели и желания.
Согласие Сердца и Думки делает человека искренним,
душевным, откровенным, при этом обдумывающим свои высказывания, поступки,
задумывающимся о последствиях. Сердце — это «символ переживаний, чувств,
настроений человека» [117‚573]. Его можно покорять, волновать, благодаря нему
человек способен проявлять заботу, любовь, или же сердиться, раздражаться; оно
даёт возможность жить. Дума заставляет человека размышлять и мыслить. Её
употребление в уменьшительной форме (Думка) свидетельствует нам о юном, ничем
не обременённом, в какой-то степени легкомысленном мышлении молодой девушки,
Зои Романовны. Сердце и Думка — это сознание человека. Они неразрывны между
собой, люди со схожим складом ума, одинаковы и по внутреннему миру: «одна думка
— одно и сердце». Дума — «самый предмет, что задумано, мысль, мечта, забота»
[116,446]. Человек от природы одарен разумом и волей, и они необходимы ему в
совокупности. Наиболее точно смысл вельтмановского замысла отражает следующее
утверждение В.И. Даля: «Побудка (инстинкт) животного, соединенье низшей степени
рассудка и воли, заменяет ему дары эти, разрозненные в человеке и даже вечно
спорящие между собою — это сердце и думка. Высшая степень человечности была бы
та, где разум и воля слились бы в одно, сознательно во всем согласуясь взаимно»
[116,537].
А.Ф. Вельтман сетует на утрату человечности в
современной действительности. Уже в небольшом вступлении автор говорит «везде
есть люди, да нет человека». Люди утратили веру в волшебное, перестали видеть
за аллегорией реальность, учиться у сказки: «рассказывать грустно: никто не поверит».
Приняв очередную попытку донести до читателя историю разлада сердца и думки,
писатель избирает форму «сказки волшебной».
Мы уже сказали о непосредственном включении
сказки в художественное пространство романа. Затрагивать специфику изображения
«большого света», наряду с его традициями, увлечениями, жителями:
градоначальниками, офицерами, игроками, дамами, провинциальными помещиками (по
справедливому замечанию В.Г. Белинского превосходно описанных Н.В. Гоголем), —
мы будем в его взаимодействии с проделками нечистой силы и приключением Сердца
и Думки.
Писатель начинает повествование в традициях
фольклорной сказки, в пространстве волшебства: «В некотором царстве, в
некотором государстве, не дальнее место от Киева, на реке Днепре, стоял
городок, и жил в нём богатый помещик Роман Матвеевич с боярыней своей Натальей
Ильиничной и с единородной дщерью Зоей Романовной». В первом же абзаце мы
находим характеристику Зои, которая сразу даёт нам понять своенравность её
натуры. Девушка «всем хороша», но только «думает одно, а делает другое; хочет
ласковое слово сказать, а скажет задорное; хочет как бы поглаже, а выходит
коробом» и т.п. Характер её был «странен, непостижим». Перед читателем ещё не
предстала нечистая сила, разлучившая Сердце и Думку, а он уже понимает психологию
героини и противоречивость её внутреннего мира. Большую роль играет и
воспитание Зои, капризность и избалованность обусловлена тем, что дочь богатого
помещика никогда себе ни в чём не отказывала, жила в своё удовольствие и была
горячо любима родителями.
В противоположность ей изображен князь Юрий
Лиманский, живший по соседству в небогатой семье. Молодой человек — «красавчик,
светлая душа, умный, ученый». Он с детства самостоятелен, но чересчур скромен,
восприимчив и впечатлителен. Зоя и Юрий были с детства влюблены друг в друга,
но разумный и сердечный внутренний мир героя не мог жить в согласии
противоречивым нравом Зои. Неудивительно и то, что влюбленным приходится
расстаться, с этого момента и начинается сказочно-приключенческий роман.
Сама натура Зои предопределяет её склонность к
приключениям, и вполне характерно, что нечистая сила появляется именно в её
доме. Однако стоит отметить, что сказочные персонажи только помогают в
раскрытии образа, но причиной всех страданий являются сами герои. «Прощай,
безумная девушка! — произнёс Юрий, уезжая, — Будь твоё сердце в вечном разладе
с чувствами и желаниями твоими!». Тогда то, в «таинственную ночь на Иванов
день», сама Зоя призывает домой нечисть, «недоброе что-то задумывая».
Первая демонологическая линия связана с
изображением сказочного персонажа — Ведьмы. По сюжету она преследует свои цели:
«постараться поскорее состарить» Зою, «да и в ведьмы её». Изображение ведьмы
опирается на фольклорные традиции, народные сказки: «растрепанные седые
волоса», «широкие полы юбки», распахнутые как «перепончатые крылья летучей
мыши», ведьма «нырнула в трубу и очутилась в комнате». Следование христианской
демонологии мы можем подтвердить описанием ведьмы в книге С.В. Максимова:
«Великорусских ведьм обыкновенно смешивают с колдуньями и представляют себе не
иначе, как в виде старых… баб с растрепанными, седыми космами, костлявыми
руками и с огромными синими носами. Ведьмы, по общему мнению, отличаются от
всех прочих женщин тем, что имеют хвост (маленький) и владеют способностью
летать по воздуху на помеле, кочергах, в ступах и т. п. Отправляются они на
темные дела из своих жилищ непременно через печные трубы» [68‚134].
В восточнославянской мифологии цель полёта ведьм
— Лысая Гора под Киевом, где они отчитываются перед высшей нечистой силой. В
работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» указывает на это
В.И. Даль: «Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится собственно на
Украине, а Лысая гора, под Киевом, служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам
отправляют свой шабаш» [120‚18-19]. Выбор такого персонажа А.Ф. Вельтманом не
случаен. Именно ведьма в фольклоре могла обманывать, заманивать, путать
сознание, поэтому способ показать неопределенность, запутанность внутреннего
мира Зои через присутствие колдуньи представляется наиболее удачным и
обоснованным.
Ведьма обольстительными речами уговаривает Зою
отдать своё сердце. Находясь всю жизнь под опекой родителей, девушка в мечтах
стремиться повидать мир, «я бы желала всё видеть, всё знать», — говорит она.
Так разлучаются её Сердце и Думка. Ведьма даёт «сердечку сорочьи крылышки».
Девушка стала подвластна нечистой силе, «послушно скинула крестик, повесила к
образам». В реальности Зоя утратила всё душевное, «всё прекрасное, всё
пленяющее чувства как будто исчезло для неё», слова окружающих стали казаться
пошлыми, а поступки бессмысленными. Внешне же она стала привлекательнее, в ней
«все земные совершенства».
Заключение сердца в обличие сороки неслучайно.
«Да добро бы простая птица, примером сказать, ворона; а эта не простая: всё
проклятые оборотни», — говорит встретившийся ей по дороге в большой свет ямщик.
Сорока-вещица по преданиям — перевоплощенная ведьма, предвестница беды. Именно
в таком виде отправляется сердце Зои в Москву. Интересным будет отметить здесь
свидетельства этнографического характера: «А вот в Москву ни одна [сорока] не
залетит: видишь, сказывают, заклял их святой Алексей…». По преданиям митрополит
Киевский и всея России Алексий, именуемый церковных текстах митрополитом
Московским и всея России чудотворцем, в XIV в. избавляясь от ведьм, проклял
всех сорок. А.Ф. Вельтман трансформирует предание, создавая вокруг Москвы
невидимую защитную стену: «чок-чок ещё раз!.. Приподнялась повыше, опустилась
пониже, рвётся к Москве… Нет! ограда, да ещё и невидимая!». Другая народная
легенда гласит, что Иван Грозный собрал всех ведьм России на Красной площади,
чтобы сжечь их: «Охватило полымя ведьм — и они подняли визг, крик и мяуканье.
Поднялся густой черный столб дыма, и полетели из него сороки, одна за другою —
видимо-невидимо. Разгневался тогда Грозный царь и послал им вслед проклятие.
«Чтобы вам отныне и довеку оставаться сороками!» [123]. После проклятья ведьмы
остались сороками и не приближаются к Москве ближе, чем на шестьдесят вёрст.
Сердце Зои было вынуждено вселиться в тело
человека, чтобы проникнуть через невидимый заслон в Москву. Невольницей
становится девушка Лели. Постепенно в повествование вплетается образ города, с
его лавками, магазинами, пёстротой, роскошью и богатством. Неотъемлемой частью
отображения колорита эпохи становится бал, описание нарядов, манер, танца.
В ожидании первого в жизни подобного мероприятия
душа Любеньки, «понесла желанное счастье, глаза заблистали, румянец вспыхнул, а
сердце забилось». По воле судьбы суждено ей встретиться с Юрием Лиманским. Лели
не в силах контролировать себя под властью Сердца и князь «овладел ею навеки».
Непостоянство девической натуры обуславливает всё дальнейшее развитие сюжета.
Мы оказываемся свидетелями большого количества любовных перипетий, виновник
которых — беспокойное Сердце, ищущее веселья, страстей и приключений.
Переселяясь из одной девушки в другую (Лели-Мери-Лида-Варенька-Фанни-Любовь
Аполлоновна (снова Лели)), Сердце играет с чувствами юных красавиц, но до конца
остаётся преданным Юрию Лиманскому. А.Ф. Вельтман показывает невозможность
разлучения Сердца и разума. Без последнего нечего делать чувствам на воле, в
большом свете. Сердце «металось из дома в дом, из угла в угол, из недра в недро
и не находило нигде надежного приюта».
Во время отсутствия Сердца, характер Зои был
непреклонен, она была спокойна и ни о чём не заботилась. В эпизоде с балом в
доме Романа Матвеевича в честь её именин героиня предстаёт перед читателем
равнодушной ко всему, бездейственной, лишь оценивающе смотрящей на людей и
субъективно оценивающей их: «она равнодушно осматривала всех и, казалось,
думала: откуда собралось столько глупых людей мужского и женского пола? — чего
им от меня хочется?». Однако даже без Сердца её нрав остаётся пылким,
неспокойным, что особенно видно в иронической сцене с «кошкой и мышкой»: «Зоя
тешится, назначает фигуру за фигурой…Полковника можно было выжать как губку,
напитанную водой».
Поняв, что план по превращению Зои в ведьму
может сорваться из-за возвращения Сердца и любви Лиманского, старая колдунья
решает выпустить на волю Думку девушки.
А.Ф. Вельтман обращается к фольклорным
традициям, используя форму народного заговора, песни: «Лети,
сердце-пташечка,//В родимое гнёздышко://Выводи, пернатая,//Не серых
воробышков,//Не рябых кукушечек,//Не орлов, не соколов, //А Сову
Савельевну!..», «Сердечушко в гнёздышко,// А думка на волюшку».
Изображение А.Ф. Вельтманом Думки в образе Совы
также не случайно. Во-первых, издавна эта птица является символом мудрости,
ума, думы. Во-вторых, в мировоззрении христиан сова стала олицетворять
пособницу нечистой силы и колдовства. Считается, что сова обманывает других
птиц, заманивая их в сети птицеловов, так же, как сатана обманывает людей. Крик
совы — это «песня смерти».
С путешествием по миру Думки связан в романе
образ Петербурга и сюжетная линия персонажей, околдованных Совой Савельевной.
Город представляется читателю через созерцание его Поэтом с «Думой на челе»:
«прекрасная ночь Севера», «величественная Нева», «только созерцающий неподвижен
посреди шумного моря и бурного неба», «великолепный град Севера». Петербург у
А.Ф. Вельтмана — культурная столица России, не зря восприятие его дано через
творческую личность и именно Думка под «большим светом» подразумевает этот
город. Москва показана через душу, переживания, блеск лавок и одежд,
переживания Сердца, Санкт-Петербург содержит те же любовные перипетии, только
их виновником становится разум, путаный, но желающий проникнуть в самые
глубинные места человеческой мысли.
С приключениями Думки вводится в повествование
ещё одна группа героев: Мельани, Агриппинё, Зеноби, Пельажи, Надин, Барб и их
кавалеры. Среди юных девиц не было «стройности ни в сердцах, ни в умах», не зря
в это общество попала Сова Савельевна, натура юной Зои. Всё было подчинено воле
судьбы, «играющей на людском разладе». Здесь же автор рассуждает о человеческом
маскараде, «мистификации ума». Утрата доверия людьми, общественного духа,
искренней веселости и преданности — одна из основных проблем современного
времени, а причиной её является разлад между душой и мыслью. Беспокойная Думка
не может найти места ни на одном из лиц этих людей, что заставляет её
перемещаться с одной девушки на другую, остужающая пыл их горячих сердец.
В это время у себя дома Зоя, разлученная с
Думкой, от остроты своих чувств не может прийти в себя. Она не может удержать
слёз, «сердце так и хочет выпрыгнуть». Натура её остается противоречивой, к
своим потенциальным женихам девушка проявляет то соучастие, то равнодушие, то
гневается, то заливается слезами. Отсутствие разума не позволяет Зое смотреть
объективно на окружающий мир, все её чувство подчинены беспокойному Сердцу:
«сердце может только любить и сердиться; Зоя никого не любила, оставалось
сердиться на всех вообще». В голове красавицы нет воспоминаний, мыслей, задумчивости,
лишь «горячее дыхание от внутренней полноты».
Несмотря на разлуку физическую и душевную Юрия и
Зои Думка помогает подчинившемуся петербургским страстям молодому человеку
объединить свои его ум и сердце, осознать возможность невозвратимой утраты при
замужестве любимой. Проделки Ведьмы не удаются и молодые люди женятся. Однако
необходимо отметить, что, оставаясь в забвении на протяжении всего романа, Зоя
«упала без памяти» в конце. Воссоединение Сердца и Думки не создает цельного
образа героини. В очередной раз автор подчёркивает, что её врождённый
противоречивый нрав в реальной действительности сам мотивирует присутствие
нечистой силы и разлада.
Ввиду воплощения души и разума в Сороке и Сове
Савельевне необходимо сказать о приёме персонификации, использованном А.В.
Вельтманом. Персонификация характерна для художественных произведений,
построенных на мифологической, магической, фантастической основе, что
доказывает отношение романа «Сердце и Думка» к жанру литературной сказки. К
тому же, уместно говорить здесь не только о литературном олицетворении, но и о
психологической «персонификации сознания». Внутренний мир Зои, её мысли,
чувства были представлены в отдельных образах, путешествующих по свету. При
помощи персонификации автор понятнее доводит до читателя образ жизни героев,
свойства их сознания. Через аллегорию проявляется действительность: стремление
к свободе, понятие воли и пути осознания самого себя. Персонажи в романе-сказке
— агенты сознания. В их совокупности мы воспринимаем внутреннюю сущность Зои.
Монологи Думки и Сердца, а также многочисленных персонажей из групповых
эпизодов позволяют увидеть изменение «Я» повествователя в тексте: «Куда ж
полететь мне? — думала она», «Ах! какое счастье! я буду его видеть», «Ах, какой
счастливый случай! Он довезёт до большого света! — подумала Совушка, моргнула
глазами, хлопнула крыльями, перекинулась в Думку-невидимку и присела на широком
челе…». Помимо этого автор использует несобственно-прямую речь Думки и Сердца,
большое количество диалогов. Поскольку мы видим общество в совокупности, можно
сказать о социологической персонификации. Именно понятие этой отрасли говорит
нам о желании автором показать перекладывание вины за события или ситуации
реальности на сказочных персонажей. При этом отчетливо видна перемена в
настроении и состоянии героини.
А.Ф. Вельтман затрагивает тему современной ему
действительности, где основную роль в разладе разума и чувства играет Нелёгкий.
Выбор именно такого называния нечистой силы возвращает нас к древним верованиям
и обычаям. В «Словаре русского языка XVIII века» мы находим просторечное
употребление этого слова: по суеверным представлениям Нелёгкий — неугодный
Богу, связанный со злым духом, чёртом, дьяволом [118‚211]. В.И. Даль подбирает
большое количество синонимов этого слова: «нелегкая сила, неладная, недобрая,
нечистая, вражеская, бесовская» [120]. С. В. Максимов указывает на основные
признаки поведения чёрта, бесов на людях: превращения, искушения, проказы и
проч. [68‚4]. Нелёгкий А.Ф. Вельтмана яркое тому подтверждение.
Нелёгкий в «Сердце и Думке» отвечает за
проявление негативных сторон человека, в частности чиновничества. Недовольство
внутреннее становится открытой неприязнью, опасение за карьеру становится
манией преследования. «Его было очень достаточно для соблазна чиновников по
военной и гражданской части, всех званий и состояний жителей городка»,
-описывает нам его род деятельности автор. Вера обращалась в сомнение, чувства
вызывали подозрения, а тишина в душе и сердце превращается под влиянием
Нелёгкого в невзгодье. Задача его не заполучить чьи-либо Сердце и Думку, а
просто попроказничать и навести в умы смуту.
Сущность людей сама мотивирует поступки чёрта,
подтверждение тому изображения злорадствующего, завидующего общества после
роскошного бала или многочисленные отступления повествователя о человеческой
жизни, например: «Гости — страшное слово у нас: с ними нераздельна мысль о
беспокойстве, о принуждении себя, о приёме, об усаживании, о занятии
разговорами…», здесь уже «надежда на выгоду или на сбыт». С юмором говорит
А.Ф. Вельтман и об увлечении месмеризмом, что мы встречали в «Магнетизёре» А.
Погорельского. Нелёгкий в обличии «последователя Мессмера» воздействовал на
Судью настолько сильно, что тот «во время суждения о важных делах» постоянно
засыпал, а позже заснул и на сватании к Зое Романовне.
В.А. Кошелев и А.В. Чернов отмечают межлитературную
связь А.Ф. Вельтмана и М.Ф. Достоевского. Исследователи говорят о сходстве
Нелёгкого из романа-сказки «Сердце и Думка» и Чёрта из романа «Братья
Карамазовы» во взгляде на жизнь. Чёрт Ивана Карамазова: «…Единственно по
долгу службы и по социальному положению я принужден был задавить в себе хороший
момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне
оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не
честолюбив…». Похожие рассуждает Нелёгкий: «Я не честолюбив и не искателен;
притом же величина ничего не значит… из одного человека можно больше сделать,
чем из мильона голов; один в мильон раз лучше мильона: одного можно так
раздуть, что он в состоянии будет съесть полчеловечества». Для Черта Ивана Карамазова
тоже одна праведная душа «стоит иной раз целого созвездия — у нас ведь своя
арифметика». Нелёгкий нередко высказывает мысли, волновавшие автора. Например,
он предлагает план, который может помешать развитию человечества: «Одно
средство: сбить их сомнением в истине понятий; народить разногласных систем и
сделать истину не одностороннею, не двухстороннею, но многостороннею, чтоб
каждый человек имел свое собственное понятие и сам сомневался в нем; завидовал
бы понятиям других и вместе противоречил им». Отсюда авторы статьи делают
вывод, что человек, не признающий моральных норм, сам создаёт нравственные
критерии, из которых родились «раскольниковская идея «убийства по совести», и
карамазовское «все позволено»» [3‚20].
К сказочным мотивам можно отнести и скрытое
соперничество Нелёгкого с Ведьмой. Колдунья обращается за помощью к чёрту,
когда узнает о намерении Зои выйти замуж, тот не оказывает в услуге. А в финале
на шабаше обхитрил Бурю и Ведьму, получив расположение первой, которая
приказала «Киевскую Ведьму за обман вытянуть в нитку и штопать ею все старые
чулки!». Последняя глава сказочная сама по себе. Здесь представлены «великая
Ивановская ночь», Лысая гора, Буря великая Гроза Громоносная, Баба-Яга, Кощей,
Иван Царевич, Берендеев сын, Домовые, Русалки, Лешие и др. Каждый из персонажей
сетует на современную действительность, указывает на проблемы как в природе,
так и в большом свете, многие из которых актуальны в наши дни.
Роман А.Ф. Вельтмана «Сердце и Думка»,
несомненно, обладает признаками литературной сказки. На протяжении всего
повествования перед нами появляются мифологические, фольклорные персонажи,
герои народных сказок, магические обряды и песни. Автор изображает
действительность 30-х годов XVIII века, используя фантастические мотивы,
аллегории. Вместе с тем произведение наполнено философскими размышлениями о
жизни, социально-нравственными противоречиями личности. А.Ф. Вельтман
представил читателю историю душевного разлада, противоречия между чувством и
разумом. Введение в сюжет Ведьмы, Нелёгкого и прочей нечистой силы стало
приемом, при помощи которого он нарисовал картины быта, попытался объяснить
характер и поведение героев через описание социальных условий. Писатель перенёс
в реальное повествование знакомые ему с детства традиции сказки, совмещая их с
опытом «мудрой фантазии». Несмотря на неблагосклонные отзывы современников
роман «Сердце и Думка» интересен для дальнейшего изучения и достоин войти в
ряды классической литературной сказки XIX века.
Заключение
Специфика жанра литературной сказки в
современном литературоведении остаётся трудноопределимой и не полностью
изученной. В этом направлении работали многие учёные, и у каждого есть своё
определение термина «литературная сказка». Мы в свою очередь выделили основные,
на наш взгляд, признаки и критерии данного жанра: наличие конкретного автора,
аллюзий к фольклорным мотивам и мотивам народной сказки, совмещение реального и
ирреального пространства, сосуществование реальных и мифологических персонажей,
присутствие игрового начала, отражение нравственных норм и социально-бытовых
реалий времени автора.
За основу своего исследования мы взяли
классическую детскую литературную сказку А. Погорельского «Чёрная курица, или
Подземные жители» (1829 г.), разнообразный по тематике и жанрам цикл В.Ф.
Одоевского «Пёстрые сказки с красным словцом» (1833 г.), роман-сказку А.Ф.
Вельтмана «Сердце и Думка» (1838 г.). Несмотря на приблизительно одинаковое
время создания произведений, каждый автор по-своему представил литературную
сказку, обозначил собственные идеи и следовал своим принципам создания текста.
На сказочное творчество А. Погорельского
повлияло его близкое общение с племянником Алёшей, что способствовало созданию
нравоучительной «волшебной повести» для детей, и врожденная склонность к шутке
и мистификации. В.Ф. Одоевский писал благодаря воле, не вдохновению. Его
увлечения различными областями науки позволили создать «пёстрые» повести и
сказки, содержание и идейная направленность которых предопределили развитие
научно-художественной и фантастической литературы. В сборнике мы находим как
сказку на фольклорной основе для детей, так и сатирически-обличительные и
социально-философские повести для взрослых читателей. А.Ф. Вельтман был
сказочником с детства. Всё его творчество было насыщено историей, бытописанием
и фольклором. Роман-сказка «Сердце и Думка» написан в тот период, когда автор
переходил от фантастики и утопии к «житейской» прозе. Произведение наполнено
сатирой на быт современного писателю общества, существующего наряду с
персонажами мифологии и легенд.
Каждое произведение соответствует названным
признакам жанра литературной сказки. Однако авторы по-своему представили
художественное пространство произведений, соотношение реальности и
ирреальности. У А.Погорельского ирреальность постепенно проникает в действительность.
Она является плодом фантазий и мечтаний мальчика Алёши. Миром бессознательного,
сна выступает Подземное королевство с его жителями. Дидактика направлена на
юного читателя, сопереживающего ровеснику.
Ирреальность В.Ф. Одоевского не выходит за
пределы сна. Это выражение бессознательного с отголосками бытия человека.
Персонажи его произведений следуют по пути: предзнание — сознание — разумение.
Писатель подводит действующих лиц к восприятию инстинктивного и рационально на
равных условиях, но ввиду быта современного салонного общества и мира
чиновников это получается далеко не всегда.
А.Ф. Вельтман не создаёт отдельного
художественного пространства для сказочных героев. Они мыслят и действуют
наряду с городскими персонажами. Представление основной проблемы современной
действительности — разлада между разумом и чувством — автор даёт в виде
действий людей, подчинённых воле нечистой силы. Писатель показывает нам
истинные желания и потребности людей, причиной которых являются воспитание,
условия жизни и окружение человека. Поступки реальных героев сами мотивируют
появление мифологических персонажей. В этом выражается наклонность человека
уходить от ответственности за свои поступки. Зачастую вина перекладывается на
плечи других людей или потусторонние силы.
Благодаря письмам, мемуарам и отзывам
современников мы охарактеризовали творческую личность каждого писателя, что
способствовало выявлению автобиографических черт в их сочинениях.
Проанализировав указанные произведения, мы сказали о своеобразии каждого из
них, определили роль сказочных персонажей, выявили отличительные особенности
литературной сказки А. Погорельского, В.Ф. Одоевского и А.Ф. Вельтмана.
Интересным для дальнейшего исследования
представляется второй сборник сказок В.Ф. Одоевского «Сказки дедушки Иринея»
(1841 г.). Сопоставляя его с «Пёстрыми сказками» можно проследить за изменением
целей, задач писателя, за направлением его художественной мысли. Практически не
изученным остаётся роман-сказка А.Ф. Вельтмана «Сердце и Думка». Однако, прежде
всего, необходимо переиздание романа для знакомства с ним читателей, поскольку
А.Ф. Вельтман до сих пор числится в ряду «забытых» писателей XIX века.
Библиография
Художественная литература
Вельтман
А. Повесть о себе // ОР ГБЛ, ф. 47, р. I, к. 28, ед. хр. 16, л. 2 об.
Вельтман
А. Ф. Повести и рассказы / Подготовка текста, составление, вступительная статья
и примечания Ю. М. Акутина. — М.: «Сов. Россия», 1979.
Вельтман
А.Ф. Сердце и Думка: Приключение: Роман в 4 ч. / А. Ф. Вельтман; Подготовка
текста; Вступ. ст. и примеч. В. А. Кошелева, А. В. Чернова; Худож. М.З.
Шлосберг. — М.: Сов. Россия, 1986.- 256 с.
Вяземский
П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки / П. А. Вяземский; Вступ.
ст., с. 5-24, и примеч. А. Л. Зорина, Н. Г. Охотина; Ил. А. В. Озеревской, А.
Т. Яковлева. — М.: Правда, 1988. — 480с.
Городок
в табакерке / Сост. и вступ. статья С. Серова; Ил. И. Билибина, Е. Рачева, Е.
Самокиш-Судковской. — М.: Правда,1989. — 656 с.
Дружинин
А.В. Письма иногороднего подписчика // Дружинин А.В. Собрание сочинений. Т.VI.
СПб.., 1865.
Кюхельбекер
В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Издание подготовили Н. В. Королева, В. Д.
Рак. — Л.: Наука, 1979.
Мещерский
А. В. Из моей старины: Воспоминания князя А. В. Мещерского. // Русский архив,
1900. — Кн. 2. — Вып.7. — С. 370-371.
О
народном просвещении в России. (Всеподданнейшая записка попечителя Харьковского
университета Перовского) // Рус. старина. 1901. № 5. С. 363-367.
Одоевский
В. Ф. «Кто виноват?» // Библиотека для чтения, 1836, т. XIV, с. 50-64
Одоевский
В. Ф. Записки для моего праправнука. Повести. Статьи. Письма. Критика и
воспоминания современников. Московские адреса / Сост., вступ. ст. и примеч. В.
И. Сахарова. — М.: Русскiй мiръ, 2006.
Одоевский
В. Ф. Избранные педагогические сочинения // Под ред., с вступ. ст. и прим. В.
Я. Струминского. — М.: Учпедгиз, 1955.
Одоевский
В. Ф. Пёстрые сказки / Издание подготовила М. А. Турьян. — СПб.: Наука, 1996. —
204 с.
Одоевский
В. Ф. Пёстрые сказки; Сказки дедушки Иринея. — М.: Худож. лит., 1993. — (Серия
<Забытая книга>).- Текст, с. 23-104; коммент., с. 247-261
Одоевский
В. Ф. Русские ночи / Издание подготовили Б.Ф, Егоров, Е. А. Маймин, М. И.
Медовой. — М.: Наука, 1975. — 319 с.
Одоевский
В. Ф. Сочинения князя В.Ф. Одоевского: Ч. III.- Санкт-Петербург: Иванов, 1844.
Одоевский
В.Ф. «Секта идеалистико-элеатическая»// Мнемозина, 1824, ч. IV, с. 163.
Остафьевский
архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2, кн. 1: (1820-1823).
Отдел
рукописей Российской национальной библиотеки, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 2,
№ 637, л. 28.
Письмо
В.А. Жуковского: помогая А.А. Дельвигу // Русский архив, 1876. — Кн. 2. — Вып.
7. — С.364
Погорельский
Антоний. Сочинения. Письма / Издание подготовила М.А. Турьян. Ответственный
редактор Б.Ф. Егоров. — СПб.: Наука, 2010. — 755 с.
Пушкин
А. С. Полное собрание сочинений, 1837-1937: В 16 т. / Ред. комитет: М. Горький,
Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. Д. Бонч-Бруевич, Г. О. Винокур, А. М. Деборин, П.
И. Лебедев-Полянский, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, Д. П. Якубович. —
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1959. Т. 13. Переписка, 1815-1827 / Ред. Д. Д.
Благой. — 1937. — 651 с.
Толстой
А. К. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. — М.: Художественная
литература, 1964 г. — 584с.
Толстой
Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Юбилейное издание (1828-1928). Серия
3: Письма / Под общ. ред. В. Г. Черткова. Изд. осуществляется под наблюдением
Гос. ред. комис. в составе А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича, М. Н.
Покровского и И. И. Степанова-Скворцова. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928-1964. — Т.
59-89. Т. 66: Письма, 1891 (июль — декабрь). — 1953. — 529 с.
Научная литература
Акутин
Ю. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует…// «Наука и жизнь», №11,
1975.
Алексеева,
Л.Н. Образ ребенка в сказке «Черная курица» // Лит. в шк. — М., 1997. — N6. —
С. 139-146
Бабанов
И. К вопросу о русских знакомствах Э.-Т-.А. Гофмана // Вопр. лит. 2001. № 6. С.
155-162
Барсуков
Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Кн. 3.
Бахтина
В.А. Эстетическая функция сказочной фантастики.- Саратов: Изд-во СГУ, 1972.
Белинский
В. Г. Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский…//Собрание
сочинений. В 9-ти томах. Т. 1. Статьи, рецензии и заметки 1834-1836. Дмитрий
Калинин. Вступит, статья к собр. соч. Н. К. Гея. Статья и примеч. к первому
тому Ю. В. Манна. Подготовка текста В. Э. Бограда. — М.: «Худож. лит.», 1976.
736 с.
Белинский
В. Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 7. Статьи, рецензии и заметки,
декабрь 1843 — август 1845 // Редактор тома Г. А. Соловьев. Подготовка текста
В. Э. Бограда. Статья и примечания Ю. С. Сорокина. — М.: «Художественная
литература», 1981.
Белинский
В.Г. Виргиния, или Поездка в Россию. А. Вельтмана. Сердце и думка. Приключение.
Соч. А. Вельтмана.// Том второй. Статьи и рецензии 1836-1838. Основания русской
грамматики. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1953.
Берг
Н.В. Записки // Русские мемуары: 1826-1856. Избранные страницы. М.: Правда,
1990. 736 с.
Ботникова
А. Б. Э.-Т.-А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. С. 56-68.
Ботникова,
А.Б. Трансформация принципов немецкой романтической сказки в русской
литературной сказке первой половины XIX века: (А.А.Погорельский, В.Ф.
Одоевский) // Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей. — М., 1987.
— С. 52-66
Брауде
Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка» / Л.Ю. Брауде // Известия АН СССР.
Серия лит. и яз. — Т. 36. — № 3. — 1997.
Брио
В.В. Творчество А. Погорельского. К истории русской романтической прозы:
Автореф. дис. … канд. филол. наук / МГУ им. М.В.Ломоносова. — М., 1990. — 26
с.
Ведерникова
Н.М. Мотив и сюжет в волшебной сказке // Филол. науки. 1970. № 2. С. 57-65.
Воейков
А. Ф. Разбор поэмы «Руслан и Людмила», сочин. Александра Пушкина //
Пушкин в прижизненной критике, 1820-1827 / Пушкинская комиссия Российской
академии наук; Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге.
— СПб: Государственный пушкинский театральный центр, 1996. — С. 36-68.
Гаричева
Е.А. Святочные истории А. Погорельского «Черная курица» и Ф.Достоевского
«Мальчик у Христа на елке» // Проблемы детской литературы и фольклор. —
Петрозаводск, 2009. — С. 212-221
Генина
Н. Коммуникативная стратегия нарратива и особенности фантастического
мирообраза: «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя и «Пестрые сказки»
В.Ф.Одоевского // Дискурс. -Новосибирск, 2007. — N 14/15. — С.163-166
Горький
М. Лев Толстой.// «Литературные портреты», — М., 1963.
Грязнова
А.Т. Средства фантастики в романтической сказке А. Погорельского «Черная
курица, или Подземные жители» // Рус. яз. в шк. — М., 1997. — N 4. — С. 65-70
Долгов
С. А.Ф.Вельтман и его план окончания «Русалки» Пушкина. М., 1897.
Ерусланова
Н.В. Образ сказочного народа в волшебной повести Антония Погорельского «Черная
курица, или Подземные жители» // Русская сказка. История и теория жанра. — М.,
2009. — C. 53-63
Ефимова
З.С. Начальный период деятельности А.Ф.Вельтмана// Русский романтизм. Л., 1927.
С.59
Ефремов
А. П. «Эволюция представлений о грехе в детской литературе» // Детский сборник:
статьи по детской литературе и антропологии детства / Сост. Е. Кулешов и И.
Антипова. М.: ОГИ, 2003. С.373-392
Жуковский
В.А. // РА 1891. Кн. 2. № 7. С. 364
Званцева
Е. П. Жанр литературной сказки в творчестве Антония Погорельского // Проблемы
эстетики и творчества романтиков. Калинин, 1982. С. 42-53.
Званцева
Е. П. Новое и традиционное в сказках В. Ф. Одоевского // Проблема традиций и
новаторства в русской литературе XIX-начала XX века. Горький, 1981.
Зворыгина
О.И. Проблема жанра русской литературной сказки // Художественный текст:
варианты интерпретации : труды ХII Всерос. науч.-практ. конф. (Бийск, 18 — 19
мая 2007 г.): в 2 ч. — Бийск: БПГУ им. В.М. Шукшина, 2007. — Ч. 1. — С.
245-249.
Зусман
В., Сапожков С. Литературная сказка // Литературная учеба. 1987. № 1. С.
228-230
Игнатов
С. А. Погорельский и Э. Гофман // Рус. филол. вестн. 1914. Т. 72. С. 249-278
Иезуитова
Р.В. Литература второй половины 1820-х 1830-х годов и фольклор // Русская
литература и фольклор: первая половина XIX века. Л.: Наука, 1976. С. 136-142.
Калугин
В.И. Романы Александра Вельтмана// Вельтман А.Ф. Романы. М., 1985.
Кони
А. Ф. Очерки и воспоминания. СПб., 1906. С. 55
Кормилов
С.И. Антоний Погорельский как предшественник русских классиков // Забытые и
второстепенные писатели XVII-XIX веков как явление европейской культурной
жизни. — Псков, 2002. — Т. 2. — С. 41-56
Кудрявцева
Л. Волшебное сновидение, или Пробуждение души // Альманах библиофила. — М.,
1993. — Вып. 28. — С. 86-95
Лазарчук
Р.М. «Рыцарь нашего времени» Н.М.Карамзина и «Черная курица» А.Погорельского:
(Проблема преемственности) // Studia metrica et poetica. — СПб., 1999. — С.
191-199
Ласунский
О. Тайны литературной маски // Книжные сокровища мира. — М., 1989. — С. 83-93
Леонова
Т.Г. Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке:
Поэтическая система жанра в историческом развитии/ Т.Г. Леонова. — Томск:
Изд-во Томск. ун-та, 1982.
Липовецкий
М.Н. О чем «помнит» литературная сказка? (Семантическое ядро
историко-литературных модификаций жанра.) // Модификация художественных форм в
историко-литературном процессе. Вып. 1. Свердловск; Изд-во Свердл. ун-та, 1988.
С. 5-22.
Липовецкий
М. Н. Поэтика литературной сказки : На материале русской литературы 1920-1980-х
годов / М. Н. Липовецкий. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. 183 с.
Липранди
И.П.. Из дневника и воспоминаний// «Пушкин в воспоминаниях современников».- М.,
1950.
Лотман
Ю.М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства (XVII —
начало XIX века) / Ю.М. Лотман. Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 1994.
Лупанова
И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. —
Петрозаводск, 1959.
Максимов
С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила / соч. С. В. Максимова. — СПб.: Т-во
Р. Голике и А. Вильборг, 1903.
Маркович
В. М. Балладный мир Жуковского и русская фантастическая повесть эпохи
романтизма // Жуковский и русская культура. М., 1987.
Мартыненко,
Л.Б. Роль фольклорных мотивов и образов в фантастических повестях первой трети
XIX века (О.Сомов, А.Погорельский, Н.Гоголь) // Наука о фольклоре сегодня:
междисциплинарные взаимодействия. — М., 1998. — С. 233-235.
Медриш
Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. Саратов: Изд-во Сарат.
гос. ун-та, 1980.
Мелетинский
Е.М Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М.: Изд-во вост. лит., 1958.
264 с.
Мелетинский
Е.М., Нехлюдов С.Ю., Новик Е.С. Проблемы структурного описания волшебной сказки
// Уч. Зап. Тартуского, 1969. Вып. 236. С. 63-92.
Михайловская
Н. М. Романтические повести В. Ф. Одоевского (к вопросу о творческих связях В. Ф.
Одоевского и Э. Т. А. Гофмана) //Вопросы истории и теории литературы.
Челябинск, 1972. Вып. 9-10. С.17-35.
Молва,
1833. Ч. V. № 41.
Московский
вестник, 1829. — Ч. 15, № 6.
Неелов
М.Н. О категориях волшебного и фантастического в современной литературной
сказке // Художественный образ и историческое сознание. Петрозаводск: Изд-во
Петрозав. гос. ун-та, 1974.
Непомнящий
B.C. Сказки // Пушкин в школе. М.: Просвещение, 1978.
Новости
литературы,1825. №3., С.133-134
Овчинникова,
Л. В. Русская литературная сказка XX века : История, классификация, поэтика :
Учебное пособие / Л. В. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М : Флинта :
Наука, 2003. — 312 с.
Петрунина
H.H. Пушкин и традиции волшебно-сказочного повествования (к поэтике «Пиковой
дамы») // Русская литература. 1980. № 3. С. 34-46
Погодин
М.П. А.Ф.Вельтман, биографический очерк // Русская старина. 1871. Т.IV, №10
Померанцева
Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975. 183с.
Померанцева
Э.В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 1965. 220 с.
Пропп
В. Я Русская сказка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 335 с.
Пропп
В. Я Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976. 325 с.
Пропп
В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 360 с.
Проскурина
Ю. М. Э. Т. А. Гофман и В. Ф. Одоевский (К вопросу о национальной специфике
фантастики) // Учен. зап. Свердловского и Тюменского пед. ин-тов. Тюмень, 1970.
Сб. 118. Вып. 2. С. 109-122;
Пустошкина
Т.В. «Дитя больше, чем оно есть…» : (Мифологема детства в нравоучительной
повести А.Погорельского «Черная курица, или Подземные жители») // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 9, Филология, востоковедение, журналистика. — СПб.,
2007. — Вып. 3, ч. 2. — С. 62-66
Сакулин
П.Н. Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель.
М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1913. Т. 1. Ч. 1. VI, 616 с.
Сакулин
П.Н. Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель.
М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1913. Т. 1. Ч. 2. [2], 479 с.
Сапожков
С., Зусман В. Литературная сказка // Литературная учеба. 1987. № 1. С. 228-230.
Сахаров
В.И. О жизни и творениях Владимира Одоевского // Одоевский В.Ф. Повести. М.:
Худ. лит., 1977. С. 5-15.
Сахаров,
В.И. Гоголь и В.Ф. Одоевский: (По новым материалам) // Гоголь и литература
народов Советского Союза. — Ереван. 1986. — С. 52-61
Семейкина,
Н. Э.Т.А. Гофман и А. Погорельский: (Из истории сравнительного изучения
русского и немецкого романтизма) // В мире Э.Т.А. Гофмана. — Калининград, 1994.
— Вып. 1. — С. 208-211
Соколовская,
С.А. Фантастическое в философско-эстетической концепции В.Ф.Одоевского:
Автореф.дис. …канд. филос. наук / МГУ им.М.В.Ломоносова. Специализир. совет
(Д 053.05.21) по филос. наукам. — М., 1989. — 18 с.
Сумцов
Н.Ф. Князь В. Ф. Одоевский. Харьков, 1884.
Сурат
И.З. К вопросу о восприятии литературной сказки в русской критике 1830-х годов.
М.: Наука, 1984.
Сурат
И.З. Русская литературная сказка; история и поэтика // Вопросы литературы.
1984. № 8. С. 262-268.
Тиманова
О.И. «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского и традиция
литературного «путешествия» // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. Сер.: Филол.
науки. — Волгоград, 2009. — N 2(36). — С. 190-193
Тиманова
О.И. Мифопоэтические контексты «волшебной повести» Антония Погорельского
«Черная курица, или Подземные жители» // Вестник Ленинградского
государственного университета имени А. С. Пушкина, № 4 (16), серия филология,
СПб, 2008. С. 19-27
Тиманова
О.И. Принципы сказочной циклизации в творчестве В.Ф.Одоевского // Пушкинские
чтения…2007. — СПб., 2007. — С. 31-38.
Тиманова
О.И. Русская повесть 1820-1840-х годов и сказка: (Роль «детского сознания» в
формировании жанровой основы волшебной повести А.Погорельского-Перовского
«Черная курица, или Подземные жители») // Жанры в истoрико-литературном
процессе. — СПб., 2000. — C. 36-47.
Тиманова
О.И. Художественное пространство и время в «Черной курице» Антония
Погорельского: язык сказки и мифа // Воспитание языковой личности и изучение
литературы. — СПб., 2002. — С. 80-85.
Троицкий
В.Ю. Романтизм в русской литературе 30х годов XIX в. Проза// История романтизма
в русской литературе. Вып.2. Романтизм в русской литературе 20-30х годов XIX в.
(1825-1840). М., 1979.
Труды
кафедры русской литературы Львовского гос. ун-та. Львов, 1958. Вып. 2.
Тудоровская
Е.А. О структуре волшебной сказки // Рус. фольклор. Л.: Наука, 1972. Т. 13. С.
148-159.
Худушина
И.Ф. Социальные и философские воззрения В.Ф.Одоевского / Ин-т философии АН
СССР. — М., 1987. — 119 с.
Цикушева,
И.В. Жанровые особенности литературной сказки (на материале русской и английской
литературы) / И.В. Цикушева // Вестник Адыгейского Государственного
Университета. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2008. — № 1. — С. 21-24.
Чернышева
Т. О старой сказке и новейшей фантастике // Вопросы литературы. 1977. № 1.
Шевцова
Д.М. «Своеобразие жанра волшебной сказки Антония Погорельского «Черная курица,
или Подземные жители» // IV Сургучевские чтения. Локальная литература и мировой
литературный процесс. Ставрополь, 2007. C. 373-377
Шевырев
С. Ратибор Холмоградский. Сочинение Александра Вельтмана.// Москвитянин. 1841.
Часть V. №10.
Шустов
М.П. Сказки А. Погорельского и В. Одоевского как первый опыт «реконструкции»
фольклорной сказки в русской литературе XIX века // Проблемы современной
русистики: язык — культура — фольклор. — Арзамас, 2004. — C. 264-267
Янушкевич,
А.С. «Пестрые сказки» В.Ф. Одоевского: становление философского нарратива в
русской прозе // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. —
Новосибирск, 2008. — С. 552-568
Ярмыш,
Ю. О жанре мечты и фантазии / Ю. Ярмыш // Радуга. — Киев, 1972. — № 11. — С.
176-180.
Энциклопедические издания, словари
Даль
В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / [Соч.] В.И. Даля. Ч. 1-4. —
Москва : О-во любителей рос. словесности, учр. при Имп. Моск. ун-те, 1863-1866.
— 1-4 т.
Ожегов
С.И. Толковый словарь русского языка: Ок.65000 слов и фразеологических
выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. — 26-е изд., перераб. и
доп. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование»,
2008. — 736 с.
Словарь
русского языка XVIII века. — Л.: Наука, 1984-Вып. 14. Напролет-Непоцелование.
Шаповалова
О.А. Этимологический словарь русского языка / О.А. Шаповалова. — Изд. 4-е. —
Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 238, [1] С.
Интернет-источники
Даль
В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа / Соч. Владимира
Даля. — 2-е изд., без перемен. — Санкт-Петербург ; Москва : М.О. Вольф, 1880
(Санкт-Петербург). — [4], 148 с.; 19.
<#»725770.files/image001.gif»>
Чёрная курица, или Подземные жители
Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации
В. Пивоварова.

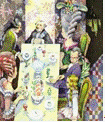

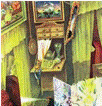
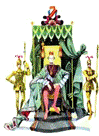
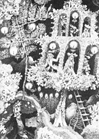
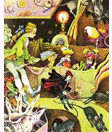
Чёрная курица, или Подземные жители
М.: Планета, 2009 г.
Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации
Г. Юдина.
Антоний Погорельский: Сочинения, Письма
М.: Наука, 2010 г.
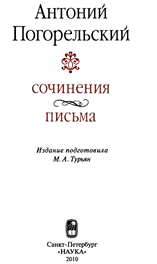
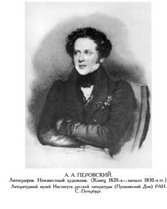
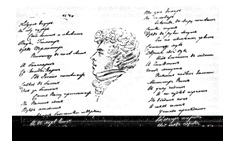
«Пёстрые сказки с красным словцом»
Издание 1833 г.
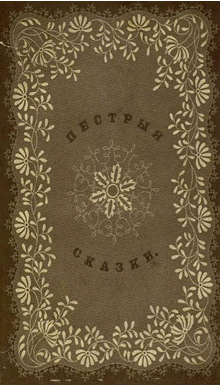
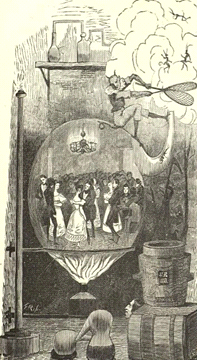
«Пёстрые сказки»
М.: Наука, 1996 г.
Серия: Литературные памятники
А.Ф. Вельтман
«Сердце и Думка»
Издание 1838 г.
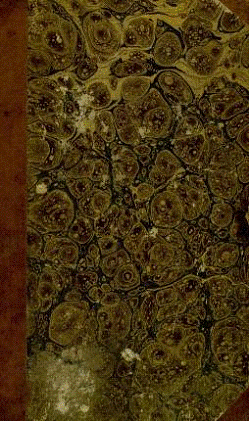
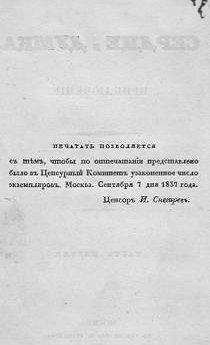
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
«ЛИЦЕЙ»
Писатель Антоний Погорельский
и его роль в развитии русской литературы.
Выполнила
ученица 9 «Б» класса
Ерасова Виктория.
Научный руководитель
Егупова Альбина Геннадьевна.
Балашиха 2010
План реферата.
I.Обоснование темы……………………………………………..с.2
II. Обзор литературы……………………………………………с.2
III. Основная часть.
1. Родословная Антония Погорельского…………………..с.3
2. Биография Антония Погорельского……………………..с.4-7
3. Литературная деятельность А.А.Перовского……………с.7-10
4. Антоний Погорельский – автор первой фантастической
повести……………………………………………………..с.7-10
5. Антоний Погорельский – автор нового в русском языке
слова «двойник»……………………………………………с.10-13
6. Антоний Погорельский – автор первой сказки для детей
в прозе………………………………………………………с.13-19
7. Антоний Погорельский – автор первого в России
бытового, семейного романа………………………………с.19-22
IV. Выводы………………………………………………………..с.22
V. Источники………………………………………………………с.23
VI Использованная литература………………………………….c.23
I. Обоснование темы.
Знакомясь с историей Балашихинский усадьбы Горенки, я узнала, что граф Алексей Кириллович Разумовский, владелец усадьбы, имел несколько побочных детей. Среди них писатель Антоний Погорельский. Он не так знаменит, как другие, изучаемые в курсе литературы XIX века. Но всем известна его сказка «Черная курица или Подземные жители». Наш кружок «Литературное краеведение» разрабатывает экскурсионный маршрут «Историческое и культурное наследие усадьбы Горенки», и мне предстоит там вести страницу «Антоний Погорельский и Горенки». Я решила подробно изучить судьбу писателя, прочитать некоторые произведения и понять роль Антония Погорельского в развитии русской литературы.
II. Обзор литературы.
В основе реферата лежит монография Турьяна М.А. Жизнь и творчество Антония Погорельского. – М., «Художественная литература», 1975. Основные этапы жизни и творчества Погорельского я узнала из этой книги. Частично я использовала взятый оттуда анализ произведений писателя. Также мной использованы различные сайты интернета.
Родословная Погорельского была составлена на основе Литературной энциклопедии в 11 томах, 1929-1939.
Я прочитала повести из цикла «Двойник» и сказку для детей «Черная курица».
III. Основная часть.
1. Родословная А.Погорельского.
Алексей Алексеевич Перовский родился в 1787 году в подмосковном селе Перово — усадьбе Разумовских. Там некогда императрица Елизавета Петровна тайно венчалась со своим фаворитом. Перовский был внебрачным сыном графа Алексея Кирилловича Разумовского и «девицы» Марии Михайловны Соболевской. Союз этот оказался прочным: он длился до самой смерти Разумовского и дал многочисленное и яркое потомство. Граф имел десять детей от мещанки Марии Соболевской. В 1810-х годах император Александр I по ходатайству графа пожаловал всем его «воспитанникам» дворянское звание, однако, категорически отказался сделать то же самое для их матери. Незаконные дети Алексея Кирилловича получили фамилию Перовские.
Самый род Разумовских отнюдь не мог похвастать древностью: лишь к середине восемнадцатого столетия он головокружительно вознёсся из черниговских крестьян до первых приближённых двора и государственных деятелей благодаря благосклонности Елизаветы Петровны к красавцу пастуху и певчему сельской церкви Алексею Розуму. Отец писателя, граф Алексей Кириллович Разумовский, приходился сыном президенту Академии художеств и последнему гетману Украины Кириллу Разумовскому, а также племянником елизаветинскому фавориту А. Разумовскому и внуком регистровому казаку Григорию Розуму.
Графские «воспитанники» оказались чрезвычайно достойными людьми. Особенно прославились сыновья. Так, Лев Перовский был военным, а позднее министром внутренних дел и уделов. До крупных чинов дослужился и Василий Перовский, в середине 19-го века он исполнял должности самарского и оренбургского генерал-губернатора. В 1833 году его посетил в Оренбурге Александр Сергеевич Пушкин, собиравший на Урале материалы для «Истории Пугачёвского бунта». Несколько позже в Отдельном Оренбургском корпусе, который также подчинялся В. Перовскому, отбывал ссылку рядовым солдатом поэт и художник Тарас Шевченко. Алексей Перовский, стал видным деятелем народного просвещения и писателем-романтиком под псевдонимом Антоний Погорельский. Что касается дочерей Перовских, то, например, одна из них, Анна, вышла замуж за графа Константина Толстого, брата выдающегося художника и медальера Фёдора Толстого. В 1817 году у них родился сын — будущий замечательный поэт, писатель и драматург и автор интереснейших ужасных рассказов Алексей Константинович Толстой. Мужем другой дочери, Ольги, стал новгородский помещик М. Жемчужников. От этого брака было двое сыновей, тоже впоследствии прославившихся. Из семьи Перовских вышла и известная террористка-народница Софья Перовская.
2. Биография А.А.Погорельского.
Настоящее имя Погорельского – Алексей Алексеевич Перовский. Жизненная судьба Алексея Алексеевича Перовского по скудости сохранившихся сведений известна нам лишь в самых общих очертаниях. Он человек блестящий и всесторонне образованный, напоминавший прекрасным своим обликом и лёгкой хромотой Байрона, влиятельный сановник, друг Пушкина, Вяземского, Жуковского.
«Случайный» отпрыск одного из самых знаменитых «случайных» семейств в России, Алексей Перовский проводит детство в Почепе — брянском имении отца, где тот, удалившись с воцарением Павла I-го от государственных дел, живёт в это время. Дети живут в роскоши, но – на положении сирот и воспитанников. Отец — человек надменный, желчный, истовый масон и вольтерьянец, мизантроп, равно способный к христианскому смирению и жестокостям, — выступал поначалу в роли благодетеля, и, похоже, дети допускались к нему нечасто. Есть свидетельства, что к старшему — Алексею — граф Алексей Кириллович особенно благоволил.
Тем не менее, Перовские получают блестящее разностороннее домашнее образование. Когда Разумовский – не без труда — добивается возведения их в дворянство, будущий писатель получает возможность продолжить образование в Московском университете. Это произошло в августе 1805 года. Уже через два года, в октябре 1807 года, он заканчивает университет и получает высшую учёную степень — доктора философии и словесных наук. Прочитанные им при этом три обязательные пробные лекции (две из них Перовский, сверх установленных требований, прочёл на немецком и французском языках) были посвящены ботанике, предмету страстного увлечения отца, привитого к сыну: 1) «Как различать животных от растений и каково их отношение к минералам» на немецком «Wie sind Thiere und Gewachse von einander unterschieden und welches ist ihr Verhaltnis zu den Mineralien» 2) «О цели и пользе Линеевой системы растений» на французском «Sur le but et l’utilite du systeme des plautes de Linne» 3) «О растениях, которые бы полезно было размножать в России» на русском. Обращение к профессорам, предварявшее третью, русскую лекцию, изобличало в молодом кандидате в доктора поклонника Карамзина. Лекции эти можно считать своеобразным подступом к серьёзным литературным трудам, настолько явственно проступает в них ориентация на повествовательные приёмы Карамзина, горячим поклонником, которого был молодой автор. В них же заключено зерно увлечений Перовского и сельским хозяйством, чему в немалой степени способствовало его участие в управлении огромными имениями отца. За два года и два месяца Погорельский окончил Московский Университет со степенью доктора философских и словесных наук, присвоенной за три лекции на трех языках, посвященные естественнонаучным проблемам
Однако Перовского в эти годы отличает не одна весёлость, но и «здравый» ум, независимый и проницательный взгляд на «лиц, обычаи и нравы», которые он внимательно следит «наедине». Внутреннее становление, выбор жизненной позиции осуществлялись не просто так, в поисках её Перовский неоднократно делает попытки сближения с масонами, хочет стать членом ложи, и только неожиданное сопротивление отца, видного и влиятельного масона, воспрепятствовало этому намерению: «Алексею Алексеевичу рано ещё с нашими беседами заниматься, а надобно ему наперёд оглядеть мир с его красотами».
Молодой человек пытается занять себя и деятельностью на общественном поприще: он становится членом Общества испытателей природы, его подпись значится в числе основателей Общества любителей российской словесности (1811-1830). В чопорную и монотонную протекавшую деятельность последнего из них Перовский пытается внести некоторое разнообразие, предложив председателю Общества А. А. Прокоповичу — Антонскому для публичных чтений свои шутливые стихи «Абдул-визирь». Вскоре он уже упоминается и среди действительных членов Общества истории и древностей российских. Но и здесь он, очевидно, не находит удовлетворения и в работе обществ участия фактически не принимает. Москва не оправдала надежд, и в январе 1812 года Перовский покидает её и снова устремляется в Петербург — на этот раз секретарём министра финансов по департаменту внешней торговли.
Однако служить ему здесь довелось недолго — с вторжением Наполеона в Россию Перовский, подобно многим, увлечённый общим патриотическим порывом, уже не мог мыслить себя штатским чиновником, — в июле он наперекор отцу становиться казачьим офицером. В чине штаб-ротмистра его зачисляют в 3-й Украинский казачий полк. Самый характер конфликта с отцом весьма показателен: запрещение Разумовского сыну ехать на театр военных действий было столь резким и категоричным, что сопровождалось даже угрозой лишить «незаконного» наследника материальной поддержки и имения. В ответ на это Перовский писал ему: «Можете ли Вы думать, граф, что сердце моё столь низко, чувства столь подлы, что я решусь оставить своё намерение не от опасения потерять вашу любовь, а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей мысли…»
Решение Перовского осталось неизменным, и военная служба его продлилась до 1816 года. В составе 3-го Украинского полка он проделал труднейшую военную кампанию осени 1812 года, принимал участие в партизанских действиях, сражался под Тарутином, Лосецами, Морунгеном, Дрезденом и при Кульме. Отличаясь храбростью и горячей патриотической настроенностью, Перовский прошёл типичный для передового русского офицерства боевой путь, освобождал свою родину и Европу от нашествия наполеоновских полчищ, разделяя со своими товарищами тяготы воинской службы, сражался с врагами, бедствовал, побеждал. В октябре 1813 года, после взятия Ляйпцига, прекрасно зарекомендовавший себя и к тому же свободно говоривший по-немецки молодой офицер был замечен генерал-губернатором королевства Саксонского (Саксония выступала в войне на стороне Наполеона) князем Н. Г. Репниным-Волконским и назначен к нему старшим адъютантом. В мае 1814 года Перовский был переведён в лейб-гвардии Уланский полк, стоявший в Дрездене. Здесь Перовский прожил более двух лет.
В 1816 году Перовский вновь появляется в Петербурге: расставшись с военным мундиром, он получает чин надворного советника и становится чиновником особых поручений в департаменте духовных дел иностранных исповеданий, поступив сюда под начало А. И. Тургенева. Здесь быстро возобновляются его литературные связи. В Петербурге Жуковский, Карамзины. Перовский окунается в среду «арзамасцев», для него, «арзамасца» по духу и складу характера, несомненно, близкую и созвучную. Атмосфера весёлого и безоглядного сокрушения архаических канонов находит в нём несомненный отклик. Во всяком случае, он явно охладевает к идее государственного служения-при всех связях Перовский не удостоился за это время ни одной награды — и «поворачивается» к словесности.
В это время в семье Перовских происходит важное событие, во многом определившее ход его дальнейшей жизни: у его сестры, красавицы Анны Алексеевны Разумовской, бывшей замужем за графом К. П. Толстым, рождается сын Алексей, будущий писатель Алексей Константинович Толстой, хорошо знакомый любителям жанра ужасов по таким рассказам, как «Упырь» и «Семья вурдалака». Однако брак этот не сложился: сразу после рождения ребёнка Анна Алексеевна оставляет мужа, и Алексей Перовский увозит сестру и полуторамесячного племянника в своё имение, сельцо Погорельцы Черниговской губернии. Отныне и до конца дней он посвящает себя заботам о них и воспитанию горячо любимого им Алексаши.
В ближайшие годы Перовский делит, по-видимому, своё время между Погорельцами и Петербургом, где состоит на службе. Во всяком случае, известно, что осенью 1818 года он — в кругу петербургских друзей, следующим летом навещает Карамзиных в Царском Селе.
Приехав в Петербург, служил в департаменте духовных дел иностранных исповеданий. В 1822 году поселился в унаследованном имени Погорельцы на севере Украины, где начал писать повести. Весной 1822 года умирает в Почепе граф А. К. Разумовский, а уже в июле Перовский подаёт в отставку и поселяется в наследственном теперь сельце своём Погорельцы. Вместе с ним живёт и Анна Алексеевна с сыном. Здесь, в тиши украинской деревни, в уединении, скрашенном присутствием дорогих людей, превосходной библиотекой и изысканной обстановкой барского дома, рождается писатель Антоний Погорельский.
Несколько лет Перовский почти безвыездно живёт то в Погорельцах, то в другом наследственном имении — Красном Роге, занимается садоводством, поставкой корабельного леса на николаевские верфи. Занимался воспитанием маленького сына своей сестры — А.К.Толстого.
В 1825 году назначен попечителем Харьковского учебного округа, с 1826 года — учебных заведений, автор записки «О народном просвещении в России».
Осень 1826-го и зиму следующего года Перовский проводит между Петербургом и Москвой; в Москву уезжает Анна Алексеевна с сыном, здесь живёт во втором замужестве — за генерал-майором Денисьевым — и мать Перовских.
Живет в Петербурге и Москве, ездит за границу. С 1830 года – в отставке.
По возвращении в Россию в 1831 году Перовский живёт то в Погорельцах, то в одной из столиц, почти не расставаясь со своим близкими, фактически заменившими ему семью. Сохраняются в то же время и прежние дружеские связи. Его имя в эти годы не раз мелькает на страницах пушкинских писем.
В 1836 году у Перовского обостряется «грудная болезнь» (очевидно, туберкулёз), и он в начале лета в сопровождении Анны Алексеевны и племянника отправляется для лечения в Ниццу. Но по дороге туда в Варшаве 9 (21) июля Алексея Перовского застаёт внезапный и скорый конец.
3. Литературная деятельность А.А.Перовского.
Основные сочинения Погорельского уместились в два небольших тома.
Ему принадлежат стихотворения и переводы в русле карамзинизма и шуточные стихи, не предназначавшиеся для печати, несколько статей. В двух статьях он остроумно высмеивал чинную чопорность и нелепую придирчивость критиков «Руслана и Людмилы».
Главное в наследии Погорельского – художественная проза, печатавшееся в 1825-1833 года под ироническим псевдонимом Антоний Погорельский.
Углубляясь в историю литературы, в пору младенчества русской прозы, мы не раз обнаруживаем рядом с именем Погорельского слово «первый»: из-под его пера выходит первая русская фантастическая повесть, один из первых бытовых, «семейных» романов, первая сказка для детей в прозе.
«Лучший из худших, то есть, если угодно, очень хороший писатель… » — эта парадоксальная оценка, принадлежавшая Н. Г. Чернышевскому, относится к Антонию Погорельскому.
В 1820-1830-х годах Перовский стоял у истоков русской романтической прозы.
Литературное наследие его невелико, однако и оно едва изучено. Архив его почти бесследно исчез, беспечно предоставленный писателем воле судьбы и игре случая. В последние годы жизни, совершенно оставив литературную деятельность, равнодушный к писательской славе, Погорельский мало о нём заботился. Как утверждает легенда, управляющий его имением, страстный гурман, извёл бумаги своего патрона на любимое кушанье — котлеты в папильотках.
Вступив в литературу «карамзинистом», причастный затем к пушкинскому кругу, Погорельский творчески продолжился не только в таких ближайших младших современниках, как Гоголь или В. Одоевский, но и в значительной мере в следующем литературном поколении — прежде всего в племяннике — воспитаннике своём Алексее Констаниновиче Толстом, на творческое формирование которого он оказал немалое влияние.
Первый литературный опыт Перовского: в 1807 году он переводит на немецкий язык «Бедную Лизу» Карамзина, считая её «восхитительным произведением», «великолепным» и «прекрасным» именно «по способу своего изложения». Труд свой, изданный в Москве, Перовский посвящает «его превосходительству г-ну тайному советнику и действительному камергеру графу Алексею Разумовскому». Церемонность и «этикетность» этого посвящения достаточно выразительно рисует характер отношений между отцом и сыном, в факте посвящения есть и какой-то исторический парадокс: в ближайшие же годы Разумовский, уже в качестве министра народного просвещения, будет получать доносы П. И. Голенищева-Кутузова на опасного вольнодумца Карамзина. «Если бы мой опыт и удался наилучшим образом, — писал Перовский, — то и тогда, не будь Вашего одобрения, я счёл бы его весьма несовершенным. Моё единственное желание, чтобы Вы восприняли эти листки как знак совершенного уважения и как единственно доступное мне доказательство безграничной благодарности, которой я Вам обязан. Вашей светлости преданнейший слуга… »
Спустя год после «Бедной Лизы», в 1808 году, выходят отдельной книжкой прочитанные в университете лекции Перовского — на этот раз с посвящением брату Алексея Кирилловича Льву Кирилловичу Разумовскому. Известен и подносной экземпляр книги сестре графа Наталье Кирилловне Загряжской-той самой Загряжской, с которой породнился впоследствии через жену свою Пушкин и которую так полюбил. Всё это, казалось бы, второстепенные, но весьма показательные факты признания незаконного сына А. К. Разумовского ближайшими знатными родственниками. Это, несомненно, имело для молодого Перовского важные и благие последствия. Лев Кириллович жил в Москве не только широким и богатым барином, но и тесно дружил с Карамзиным, семейством Вяземских, с известным знатоком музыки графом М. Ю. Виельгорским. Тогда же, в университетские годы, сближается с ними, а также с Жуковским и Перовский. Сходится он и с младшим Вяземским (скорее всего, в 1807 году). Вместе они «переплыли быстрой младости поток», вместе прошли по жизни, сохранив близость до конца дней.
Жизнь в Германии, вхождение в немецкую культуру, разнообразные художественные впечатления, знакомство с новинками немецкой романтической литературы серьёзно повлияли на формирование эстетических вкусов будущего писателя. Очень вероятно, что в эти годы он по свежим следам знакомится с первыми сборниками рассказов Э. Т. А. Гофмана: «Фантазии в манере Калло » (1814), «Ночные рассказы» (1816), романом «Эликсир дьявола» (1815). Многие сюжеты и мотивы, заимствованные как раз из этих произведений, спустя десятилетие воскреснут и впервые обретут жизнь на русской почве под пером писателя Антония Погорельского. С этого времени причудливая фантастика гофмановских сказок надолго будет и занимать, и пленять русские умы.
В это же время он знакомится и с Пушкиным. Имя юного поэта ему наверняка известно ещё ранее. С возвращением в Петербург круг общения оказался достаточно узким: вечера у Жуковского, Александра Тургенева, у самих Перовских — в это время в Петербурге и брат Алексея, Василий Алекссевич — друг Жуковского, впоследствии оренбургский военный губернатор, сопровождавший Пушкина по пугачёвским местам.
В 1820 году Алексей Перовский заявляет о себе и как литератор: вновь пробует силы в поэзии — на этот раз «серьёзной». Однако дошедшие до нас опыты той поры — не вполне отделанная баллада «Странник-певец» и послание «Друг юности моей», адресованное, скорее всего, сестре в связи с рождением племянника, — не дают достаточного материала для каких бы то ни было оценок, тем более что оба стихотворения остались в рукописи. Единственная его стихотворная публикация этого времени — перевод одной из од Горация, напечатанный в журнале Греча «Сын отечества» (1820, Ч. 65). Так или иначе, опыты эти, написанные, хотя и талантливым, но вполне традиционным пером, автора, вероятно, не удовлетворяют, и другие образцы стихотворства Перовского нам не известны.
Однако отнюдь не ода Горация обратила внимание на новое литературное имя.
В конце июля — начале августа 1820 года выходит отдельным изданием первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила», и вокруг неё разворачиваются ожесточённые журнальные бои. Самая полемика эта возникла в атмосфере активного наступления ревнителей канонов классицизма на новое – романтическое — литературное направление и явилась прямым её следствием. Статьи в московских и петербургских журналах упрекали Пушкина в нарушении сложившихся норм жанра и стиля и в пренебрежении законами «нравственности». В защиту поэта от лица его единомышленников и друзей с блестящими статьями выступил Алексей Перовский — и статьи эти в спорах вокруг «Руслана и Людмилы» заняли особое место. В этом первом своём заметном печатном выступлении Перовский представлял определённую литературную позицию, выражавшую взгляды старших «арзамасцев», в первую очередь Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева, и обнаруживавшую в нём не только ценителя и почитателя восходящей поэтической звезды, но и приверженца нового направления, литератора пушкинского круга. Яркая одаренность, острота и меткость суждений, а также способность к литературной мистификации, удачно и тонко использованной в качестве полемического приёма, — всё это раскрылось в статьях Перовского в полной мере.
Ареной основных битв стал журнал «Сын отечества». Против Пушкина выступил здесь А. Ф. Воейков — «арзамасец», тяготевший, однако, по своей литературной ориентации к «классицистской» нормативности, и Д. П. Зыков, друг П. А. Катенина, архаиста и открытого противника «Арзамаса», которого Пушкин и его друзья считали автором статьи. И Воейков в своём печально знаменитом «Разборе», и Зыков в «вопросах», составлявших статью и направленных на разоблачение сюжетных, композиционных и художественных «нелепостей» «Руслана и Людмилы», — оба выступали с позиций нормативных поэтик XVIII века.
Антикритики Перовского рождались в кругу сторонников Пушкина и, видимо, предварительно там обсуждались. Во всяком случае, о первой из них (против Зыкова) Тургенев извещал Вяземского ещё до печати, а по поводу статьи Воейкова, возмутившей «арзамасцев», он тому же корреспонденту сообщал: «О критике на Пушкина я уже писал к тебе и откровенно говорил Воейкову, что такими замечаниями не подвинешь нашей литературы. Вчера принёс ко мне Алексей Перовский замечания на критику, и довольно справедливые. Я отправлю их в «Сына»».
Пародируя комическую сторону «допроса», учинённого юному поэту Зыковым, едко иронизируя над мелочной придирчивостью Воейкова, Перовский вместе с тем выступает против самих принципов классицистской поэтики, которые исповедуют его литературные противники, намекая и на неблаговидность нападений на высланного поэта. Он требует для Пушкина — «юного гиганта» — критики не только «истинной», но и благожелательной, подчёркивая тем самым высокий авторитет нового поэтического гения, в котором, как и «арзамасцы», видит надежду русской словесности. «Мои чиновники: Воейков (также служивший в это время под началом Тургенева) и Алексей Перовский батально ругаются за Пушкина», — писал в эти дни А. Тургенев Вяземскому.
Критические выступления Алексея Перовского были высоко оценены и самим Пушкиным. Следя за полемикой из южной ссылки и не зная ещё об авторстве Перовского, он писал 4 декабря 1820 года Н. И. Гнедичу: «… тот, кто взял на себя труд отвечать ему (Воейкову) (благодарность и самолюбие в сторону), умнее всех их». Позже, в 1828 году, в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы», вспомнив о «вопросах» Зыкова, Пушкин назвал ответ Перовского ему «остроумным и забавным».
В том же 1820 году Алексея Перовского избирают членом Вольного общества любителей российской словесности. К этому времени во главе его становится Фёдор Глинка, и видную роль в обществе начинают играть будущие декабристы: К. Ф. Рылеев, Николай и Александр Бестужевы, В. Кюхельбекер. Сюда же входят А. Дельвиг, А. Грибоедов. Со многими из них Перовский сближается лично. Во всяком случае, по важному свидетельству И. Н. Лобойко, он встретился с некоторыми из них на одном из званых вечеров у Перовского. Не следует, конечно, преувеличивать значение и характер этих связей. Как вспоминал позже А. К. Толстой, то огромное доверие, которое он испытывал к своему дяде, постоянно «сковывалось опасением его огорчить, порой — раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений… Помню, — пишет Толстой, — как я скрывал от него чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои пуританские принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободолюбия и протестантского духа, с которыми бы он никогда не примирился… ». Конечно, Перовский, человек весёлый, общительный и умный, в первую очередь необыкновенно привлекал к себе, по словам того же Лобойко, «добродушным и занимательным обхождением». И, однако, не только этим объясняется несомненная близость его в эту пору к передовым петербургским кругам.
4. Антоний Погорельский – автор первой фантастической повести.
В 1825 году выходит повесть «Лафертовская маковница», подписанная новым литературным именем-псевдонимом Антоний Погорельский (от имения Погорельцы). Произведение сразу обратило на себя всеобщее внимание. Сочетание фантастической сказки, рассказанной к тому же озорно и непринуждённо, с сочно выписанным бытом московских окраин, было внове; внове оказалось и дерзкое небрежение автора к «здравой» необходимости «разумного» объяснения чудесного: в русской литературе появилась первая фантастическая повесть. В населённом мелким московским людом Лефортове, в убогом домике отставного почтальона Онуфрича, читатель встречается с образом лафертовской маковницы – старой колдуньи, которая выбирает для дочери почтальона, а своей внучке, бесприданнице Маше, жениха Аристарха Фалалеевича, на поверку оказывающегося любимым чёрным котом бабушки-ворожеи. Разрушив колдовские чары и отказавшись от неправедного богатства, оставленного бабушкой, Маша выходит замуж за полюбившегося ей пригожего сидельца, словно в награду девушки оказавшегося богатым наследником.
Необычность сюжетной концовки и отсутствие вполне разрешающего фантастический план аккорда смутили, прежде всего, издателя «Новостей» — всё того же Воейкова, снабдившего повесть своей «Развязкой». Он счёл необходимым объяснить все детали и перипетии фантастического сюжета с точки зрения здравого смысла, а также бытовых и психологически оправданных реалий. «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно, имел здесь целью показать, — писал Воейков, — до какой степени разгорячённое и с детских лет сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в превратном виде». С точки зрения Воейкова, богатство старухи не что иное, как «богатая дань суеверных людей», приходивших к ней гадать, чёрный кот, превратившийся в господина Мурлыкина, — плод расстроенного «мнимым колдовством маковницы» воображения Маши — благо, Мурлыкин «на беду свою был черноволос, круглолиц и носил густые бакенбарды» и т. д. Извинение этому издатель находил в «суеверии русского простого народа, мало знакомого с просвещением», тем более, что суеверие, к возмущению, его распространилось даже среди просвещённых парижанок. Для рационалиста Воейкова напряжённая и ироничная романтическая фантастика «Лафертовской маковницы» оказывается совершенно непонятной, чуждой и – неприемлемой. Новый способ художественного мышления вызывает противодействие: по существу, его «примечание издателя» явилось продолжением старого спора с Перовским, возникшего пять лет назад по поводу «Руслана и Людмилы». Не случайно, издавая несколько лет спустя «Двойника», Перовский заключает вошедшую туда «Лафертовскую маковницу» полемическим — совершенно в духе его критических статей, — исполненным насмешливой иронии авторским диалогом с Двойником, прямо адресующим читателя к сентенциям Воейкова: «… напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки», — говорит Двойник. — «Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья. — Для суеверных людей развязок не напасёшься, — отвечал я. — Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает «Литературные новости»1825 года. Там найдёт он развязку, сочинённую почтенным издателем «Инвалида», которую я для того не пересказал вам, что не хочу присваивать чужого добра».
Весьма примечательна реакция на повесть Пушкина. «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот!- писал он в восхищении брату из Михайловского 27 марта 1825 года. — Я перечёл два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр (ифоном) Фал. (елеичем) Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повёртывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли? » (Пушкин оговорился, назвав кота Трифоном. На самом деле Аристарх Фалелеич). Много позже в «Гробовщике», несомненно близком по стилистике «Лафертовской маковнице», Пушкин сравнит своего будочника Юрко с почтальоном Онуфричем Погорельского.
Природа фантастики в повести представляет собой слияние двух традиций: народной сказки и гофмановских мотивов. О последних следует сказать отдельно. Увлечение творчеством Гофмана в России первой половины 19 века носило повсеместный характер, а. Погорельский одним из первых обратился к его произведениям как к источнику литературных приёмов, мотивов и сюжетных ситуаций. О Гофмане в повести напоминает многое. Это старуха колдунья, которая совмещает своё мистическое ремесло с обыденной торговлей медовыми маковниками и платным гаданием, причём «из красноречивых уст её изливались рекою пророчества о будущих благах, — и упоённые сладкой надеждой посетители при выходе из дома нередко награждали её вдвое более, нежели при входе». Читатель тех лет не мог не вспомнить при этом «Золотой горшок» и Луизу Рауерин, совмещавшую колдовство с продажей яблок, и её чёрного кота, способного, как и кот старухи из «Лафертовской маковницы», к перевоплощениям.
Ещё важнее сходство основных структурных принципов: у Погорельского, как и у Гофмана, повествование строится на постоянном переплетении сверхъестественного и реального. Однако художественное своеобразие повести заключается в использовании автором так называемой народной фантастики. Речь идёт о народных суевериях, предрассудках, чертах народной сказки и представлениях простого человека о добре и зле, которые и создают необыкновенный колорит повести. Юмористические черты в облике кота-чиновника, мотив нечистой силы денег, характерный для романтиков «меркантильной» эпохи, предвосхищают у Погорельского поэтику Н. В. Гоголя.
Например, в повести несколько раз упоминается число «три» в связи с колдовством старухи. Первый раз — в рассказе о мести колдуньи полицейскому, написавшему на неё донос, говорится, что она отомстила ему трижды: «… скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершении всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала». Следует обратить внимание на последний способ мести: по народным поверьям, если начали без видимой причины гибнуть домашние животные, особенно коровы, значит, чем-то обидели, разозлили колдуна. Ведь корова в то время-кормилица, без которой большой семье не выжить.
Приехав в Петербург, Перовский не только вступает на литературное поприще и возобновляет литературные связи; возвращается он и к государственной службе: ему предложена должность попечителя Харьковского учебного округа. В ведении Перовского оказывается не только Харьковский университет, но и Неженская гимназия высших наук, где учился тогда Гоголь. Однако новые служебные обязанности не требовали его постоянного присутствия в Харькове, и Перовский вновь возвращается в Погорельцы, где, между прочим, немало времени уделяет и воспитанию племянника. Через год он вновь в Петербурге, куда на этот раз едет для переговоров с министром народного просвещения А. С. Шишковым по поводу бедственного состояния вверенного ему университета. По приезде в Петербург Перовский назначается ещё и членом Комитета по устройству учебных заведений и производится в действительные статские советники. В том же 1826 году по распоряжению Николая I Перовский пишет записку «О народном просвещении в России», явившуюся рецензией на доклад известного своими реакционными идеями попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого «О прекращении преподавания философии во всех учебных заведениях». Напомним, что в это же время — также по предложению Николая I-пишет свою известную записку о народном просвещении и Пушкин.
5. Антоний Погорельский – автор нового в русском языке слова «двойник».
В 1826 году он возобновляет знакомство с возвращённым из ссылки Пушкиным. С наступлением весны Перовский с сестрой и племянником почти на полгода уезжают в Германию. В Веймаре они посещают Гёте — А. К. Толстой описал позже этот памятный визит в своих автобиографических заметках. По возвращении Перовского из Германии в 1828 году выходит в свет первая его книга – «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». О книге сочувственно отозвался «Прусский инвалид» (1828, ч. 83), отметивший, что «не многие повести так занимательны, так остроумны. Не многие рассказаны и связаны с таким искусством». «Северная пчела» писала: «Автор искусно воспользовался разными поверьями, тёмными слухами и суеверными рассказами о несбыточных происшествиях и передал их нам ещё искуснее, умея возбуждать любопытство и поддерживать его до самой развязки» (СПч. 1828. №38).
Произведение на первый взгляд кажется, нам очень странным, но вчитываясь в суть, понимаешь, какое оно интересное. Слово «двойник» он первый ввел в русский язык и литературу по аналогии с немецким. Погорельский заимствовал отдельные образы и мотивы у Э. Т. А. Гофмана и отчасти у других немецкий романтиков, но перетолковал их весьма свободно, не принял мистическую идею двоемирия и трагического мироощущения, которое они выражали.
«Двойник» строится на игре и мистификации. Скучающего в деревне и строящего воздушные замки Антония приходит развлекать его точная копия, добродушное и вежливое привидение. Их беседы и деликатные споры в течение шести часов, преимущественно о таинственной жизни, включают короткие истории и четыре самостоятельные повести. Цикл рассказов — четыре новеллы, объединённые диалогическим обрамлением, самый характер и сюжеты вставных повестей, содержание бесед автора с Двойником, — всё это сразу же адресовало критиков к традициям западноевропейского романтизма, прежде всего к Л. Тику и Гофману с его «Серапионовыми братьями». В дальнейшем композиционное построение «Двойника» — первый такого рода опыт на русской почве — стал одним из излюбленных приёмов русских романтиков, получив продолжение и развитие в таких, например, выдающихся памятниках литературы романтизма, как «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Русские ночи» В. Ф. Одоевского или «Вечера на Хопре» М. Н. Загоскина. Однако в отличие от Гоголя и Одоевского, у которого повествование ведут четыре героя, проводящие время в развёрнутых философских спорах и воссоздающие внешнюю, «философскую» картину мира, двое «ведущих» у Погорельского — фактически одно и то же лицо, одно человеческое сознание, внутри которого противоборствуют рационально-просветительское и романтическое начала. Не случайно в описании внешности Двойника Погорельский даёт точный свой автопортрет. Этот, как и другие лёгкие и изящные автобиографические «медальоны» в цикле, вновь невольно напоминают о пристрастии к литературной мистификации. И «открытое» автобиографическое начало, рисующее собственное его поместье, и элегические размышления о счастье, сюжетно и образно перекликающиеся со стихотворным посланием «Друг юности моей», также, несомненно, имеющим сугубо личный характер, — всё это до некоторой степени обличает в Погорельском литератора особого рода, не чуждого той степени высокого артистичного дилетантизма, при котором жизненные, ситуационные или художественные стимулы играют далеко не последнюю роль.
Книга Погорельского, рождённая в атмосфере утверждавшего себя в русской литературе романтизма, в полной мере отразила этот «слом» направлений, движение писателя-сентименталиста карамзинской ориентации, разделявшего и просветительские идеи, к новому художественному мировоззрению. Самоё «двойничество» Погорельского представляет собой психологическую раздвоенность сознания именно такого рода. Речь у автора с Двойником идёт о «новомодных» предметах-предчувствиях, предсказаниях, привидениях, магнетической силе, и обсуждение их колеблется всё время между двумя крайними точками: пристальным интересом к названным темам и попыткам их рационального объяснения. Не случайно в этих дебатах находит себе место пространное рассуждение Двойника о свойствах человеческого ума, восходящее к философии материалиста Гельвеция. Эти тенденции «рациональной» фантастики, именно «рациональностью» своей отличающиеся от западных романтических образцов и в самых начальных, а порой и наивных формах сформулированные впервые Погорельским в «Двойнике», были подхвачены и развиты потом в русской романтической прозе, и полнее всего — Одоевским. Именно по этому принципу развивалась в основном русская фантастическая повесть. Названные особенности как раз и дают «ключ» к прочтению весьма разнохарактерных вставных новелл «Двойника», каждая из которых восходит к определённому литературному источнику.
Первая новелла — «Изидор и Анюта» — прямо адресует нас к карамзинской «чувствительной» повести. Погорельский сполна отдаёт ей дань и вместе с тем колеблет её устои. Непривычная для этого жанра романтическая напряжённость действия, «таинственный» трагический финал, наряду с эти превосходные картины разорённой Наполеоном Москвы — всё это уже очевидные симптомы нарушения «чистоты» жанра.
Вторая новелла — «Пагубные последствия необузданного воображения»-также посвящена истории несчастной любви (так она первоначально и называлась), однако рассказана она уже совсем в ином ключе. В критической литературе, начиная с прижизненных откликов, эта повесть не раз с полным основанием связывалась с именем Гофмана. Однако наблюдение это справедливо лишь до известных пределов. В самом деле, Погорельский так открыто, местами почти дословно повторяет сюжетную коллизию гофмановского «Песочного человека», что нельзя не увидеть в этом сознательную намеренность приёма. Здесь также как у Гофмана, влюблённость молодого человека в куклу, то же его трагическое прозрение, безумие и конец. И тем не менее разница между двумя произведениями весьма существенна. Погорельский разрушает замкнутое существование гофмановских героев в мире мечты и поэзии, в мире полусна-полуяви и неожиданно переводит тональность повествования в иной, социально-дидактический регистр. Справедливо, что с Погорельского началась русская «гофманиана», ибо это – первое обращение русского писателя к Гофману, однако также справедливо, что с Погрельского началась и особая традиция освоения в России творчества великого немецкого романтика. Именно по пути привнесения социально-дидактических мотивов пойдёт в своих «гофмановских» фантастических повестяхстрастный поклонник немецкого писателя Н. А. Полевой; так же будет интерпретировать его и самый крупный русский романтик-фантаст Одоевский-в частности, мотив «кукольности» светского общества повторится у него в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», в «Той же сказке, только наизворот», вошедших в цикл «Пёстрых сказок» (1833).
Что касается третьей новеллы «Двойника» — «Лафертовской маковницы»-то её «условное правдоподобие», ориентированную на фольклорную стихию, в художественном отношении оказалось наиболее совершенным и убедительным: повесть неизменно выделялась в цикле как наиболее удавшаяся. Как мы помним, эта часть выходила отдельно ещё тремя годами раньше.
Последний рассказ «Двойника» — «Путешествие в дилижансе» — был также плодом литературных впечатлений. Он явился своеобразным откликом на модную повесть французского писателя и учёного Пужана Жоко, анекдот, извлечённый из неизданных писем об инстинкте животных» (1824). Интерес писателя, естественника по образованию, к такого рода темам вполне понятен. Однако любопытно, что Погорельский, отталкиваясь от сюжетной коллизии произведений Пужана, создаёт свой –полемический — вариант повести о Жоко. Мелодраматической версии первоисточника-истории влюблённости самки-орангутанга в человека — он противопоставляет руссоистский рассказ о материнской привязанности обезьяны к похищенному ребёнку. Правда, и Погорельский не обходится без некоторого мелодраматического накала страстей — его герой сам убивает свою воспитательницу Туту, однако это нисколько не снижает полемического пафоса русского варианта. Если при этом учесть, что перевод повести Пужана в 1825 году появился в «Московском телеграфе», а в 1828 году написанная на её основе Габриэлем и Э. Рошфором мелодрама (русский перевод Р. М. Зотова) пошла на московской сцене, заключённый в последней новелле «Двойника» скрытый смысл становится особенно понятным.
Книга Погорельского широкого читательского успеха не имела и, в общем, осталась не до конца понятой. Даже С. П. Шевырёв, хорошо знавший немецкую романтическую литературу, в частности Гофмана, в новеллах о кукле и обезьяне увидел лишь «крайность своенравной и даже необузданной фантазии, преступившей границы всякого вероятия» (Московский вестник, 1828, ч. 10, № 14). Однако в откликах на «Двойника» все единодушно отмечали как редкое в современной литературе достоинство прекрасный, лёгкий и «заманчивый» слог. Мастерство превосходного устного рассказчика, не раз восхищавшее слушателей Погорельского, сказалось в его писательской манере сполна. Вяземский позже писал, что он «очень хорошо передаёт себя в слоге своём». Так или иначе «Двойник» остался не только памятником эпохи литературного «перелома», он явился и по-своему «провидческой» книгой, ибо тонкое литературное чутьё Погорельского помогло ему точно уловить и наметить ряд важных тенденций, развитых литературой романтизма, и нашедших потом наиболее совершенное своё выражение у Достоевского.
Антоний выступает рассказчиком «Изодиры и Анюты» и ранее опубликованной «Лафертовской маковницы», Двойник — «Пагубных последствий необузданного воображения» (приведение у Погорельского против излишнего воображения), «Путешествия в дилижансе». В «Изидоре и Анюте», слабой сентиментальной предромантической вещи, офицер Изодор в освобожденной от французов в Москве по ночам разговаривает с призраком погибшей невесты и затем умирает. Но рассказ служит поводом для спора о существовании привидений. Двойник в них сомневается больше, чем Антоний. Вообще же, спорщики легко соглашаются или незаметно для себя меняются местами в споре, будь то разговор о родах ума и измерении его степеней, или о возможности для человека влюбиться в механическую куклу, как в «Пагубных пристрастиях…» (это упрощенная, без всякого философского подтекста переделка «Песочного человека» Гофмана), или о том, почему мучила совесть полковника, который сгоряча застрелил некогда подобравшую и воспитавшую его в лесу обезьяну («Путешествие в дилижансе»). Хотя фантастический Двойник парадоксально проявляет себя рационалистом заметно чаще, чем Антоний, оба собеседника принимают удивительное как естественное и удивляются не самому удивительному (этим также предварялась поэтика Гоголя). Странное и важное приравнивается к обыкновенному и незначительному, начиная с псевдонима автора и заглавия «Двойник, или Мои вечера в Малороссии»: никому неведомое существо или обычные вечера в обычной Малороссии. Критики не заметили принципиальной и художественно перспективной установки автора, истолковав содержание книги в основном как чисто «серьезное».
6. Антоний Погорельский – автор первой сказки для детей в прозе.
В следующем, 1829 году выходят ещё два «волшебных» произведения Погорельского: новелла «Посетитель магика» (согласно авторскому примечанию, перевод с английского) в журнале «Бабочка», с популярной в Европе легендой об Агасфере, и детская сказка «Чёрная курица, или Подземные жители», написанная Погорельским, скорее всего, для племянника. По-видимому, в конце 1828 года Жуковский писал Дельвигу, издававшему альманах «Северные цветы»: «У Перовского есть презабавная и по моему мнению прекрасная детская сказка «Чёрная курица». Она у меня. Выпросите её себе». Однако сказка вышла отдельным изданием, и ей, сразу покорившей читательские сердца, была суждена долгая жизнь. Одобрительные отзывы о ней поместили некоторые журналы, например «Московский телеграф» (1829, Ч. ХХV. №2).
… По холодным улицам зимнего Петербурга едет карета. Её пассажир – седой человек с удивительно добрыми и какими-то детскими глазами — глубоко задумался. Он думает о мальчике, которого собирается навестить. Это его племянник, Алёша-маленький. Ведь самого пассажира тоже зовут Алёша-Алексей Алексеевич Перовский. Перовский думает о том, как одинок его маленький друг, которого родители отправили в закрытый пансион и даже навещают редко. К Алёше часто ездит только его дядюшка — потому что очень привязан к мальчику и еще, потому что он хорошо помнит своё одиночество в таком же пансионе много лет назад. Алексей Перовский был сыном вельможи графа Разумовского, владевшего несметными земля и пятьюдесятью тремя тысячами крепостных крестьян. Сын такого человека мог быть почти принцем, но Алёша был незаконнорождённым. Только когда он стал уже взрослым, отец решился признать сына. Граф Разумовский любил Алексея. Но человек он был горячий, способный на страшные вспышки гнева. И вот в одну из таких злых минут он и сослал сына в закрытый пансион. Как Алёша был одинок в холодных казённых комнатах! Он очень тосковал и вот однажды решил бежать из пансиона. Памятью о побеге осталась на всю жизнь хромота: Алёша упал с забора и повредил ногу. Потом Алёша вырос. Воевал против Наполеона в Отечественную войну 1812 года — быть храбрым боевым офицером ему не помешала даже его хромота. Однажды Алёша-маленький рассказал дяде об одном случае: как гуляя на пансионатском дворе, он подружился с курицей, как спас её от кухарки, которая хотела сделать из неё бульон. А потом этот реальный случай превратился под пером Перовского в волшебную сказку, добрую и мудрую. Сказку, которая учила мальчика честности и мужеству.
Автор определил её жанр как волшебная повесть для детей. Сказка прелестна в своей безыскусной поучительности и яркости наивного вымысла о чудесной птице, помогающей доброму и честному мальчику — и уходящей от него, когда он стал легкомысленным и тщеславным ленивцем. В ней правдиво изображена жизнь старого Петербурга, убедительно раскрыт внутренний мир ребёнка, впервые в русской литературе после Рыцаря нашего времени Н. М. Карамзина ставшего главным героем произведения, ненавязчиво выведена мораль и тонко проявлено характерное для Погорельского органическое сплетение обыденности, юмора и фантастики. Впоследствии сказка была особенно любима Л. Н. Толстым, вошла в золотой фонд отечественной детской словесности, выдержав десятки переизданий на многих языках мира. Её содержание не исчерпывается рассуждениями, что надёжно только добытое трудом, что нехорошо предавать товарищей и что ужасно совершать непоправимые поступки. Во-первых, Погорельский счастливо изобрёл один из самых изящных литературных сюжетов. Во-вторых, сейчас можно сколько угодно удивляться тому, что он так ясно и мудро рассказал о почти неуловимых движениях души невзрослого человека: в то время до появления «Детства» Л. Н. Толстого оставалось ещё 26 лет, «Детства Тёмы» Н. Г. Гарина-Михайловского — 66, а «Детства Люверс» Б. Л. Пастернака-96. Если «Двойник»-собрание первых русских фантастических повестей, то «Чёрная курица» — первая русская авторская сказка в прозе для детей. В ней есть элементы поэтики «взрослых» произведений писателя (заглавие, алогичное сопоставление «животного» и «чиновничьего»: «Мой министр – не курица, а заслуженный чиновник!»- слова короля подземного царства), интересные картины петербургской жизни. При этом она хорошо приспособлена к детскому восприятию, хотя и отличается острым драматизмом развязки. Излишний дидактизм сказки был вовсе не чрезмерным на фоне ранней детской литературы.
В 1829 году газете «Бабочка» за подписью «С английского: Антоний Погорельский» печатается маленькая ультраромантическая повесть «Посетитель магика» о визите обреченного на вечные скитания бессмертного грешника к философу и чародею Корнелию Агриппе (Погорельский его «переселил» из XVI в XII век). Источник ее не установлен, не исключена мистификация (так, в 1875 году подзаголовок «С итальянского» дал своей оригинальной поэме «Дракон» Алексей Толстой, воспитанник Погорельского), характеры и движение сюжета органичны для Погорельского: маг своими чарами оказывает услугу, собственно, сверхъестественному существу, а узнав его, отказывается от денег преступника, оскорбившего Христа, — средневековый колдун
В том же 1829 году Перовского избирают в члены Российской академии. Он — в Петербурге, и среда его общения здесь — пушкинская. С самим поэтом он -в коротких дружеских отношениях и на «ты». По воспоминаниям Вяземского известно, например, что уже за несколько лет до этого Пушкин читал в доме Перовского в Петербурге своего «Бориса Годунова». Сближается он в это время с Дельвигом, и редакция готовящейся к изданию «Литературной газеты» видит в нём желанного автора. Перовский входит в большую литературу как писатель пушкинского круга.
С января 1830 года начинает выходить «Литературная газета», и в первых же её номерах появляется отрывок из нового романа Погорельского «Магнетизёр» (не имевшего, правда, продолжения), где в прекрасную бытовую живопись — описание провинциального купеческого семейства — вновь вторгается «таинственное».
7. Антоний Погорельский – автор первого в России бытового, семейного романа.
Казалось, Погорельский явно упрочивает за собой репутацию писателя «фантастического», но уже месяц спустя та же «Литературная газета» анонсирует другое крупное его произведение — совсем в ином роде, из жизни Малороссии, в котором отмечаются «живость картин, верность описаний, счастливо схваченные черты нравов малороссийских и прекрасный слог». Речь шла о самом значительном создании Погорельского — романе «Монастырка».
Появление его имело некоторую предысторию, объясняющую особый накал страстей в широко развернувшейся вокруг него полемике. Дело в том, что незадолго перед этим, в конце 1829 года, на книжных прилавках появился роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин». Написанный, как и «Монастырка», в жанре «нравоописательного романа», он, однако, своими охранительными идеями, псевдоисторичностью и псевдобытописательством вызвал резкое противодействие в прогрессивных кругах. Тем не менее, противопоставить ему было нечего, и читательский успех «Выжигина» оказался огромен. Резкое неприятие булгаринского творения пушкинским кругом явилось и следствием, и продолжением острой идейно-литературной борьбы. Появившаяся же из-под пера Погорельского история неискушённой воспитанницы Смольного монастыря Анюты, рассказанная просто, искренне и не без психологической достоверности, убедительная в своей реальности, верно схваченная жизнь Украины -всё это выгодно отличало его новый роман от «Ивана Выжигина». Не чуждый некоторой сентиментальности и искусственности сюжета, роман раскрывал внутреннюю логику характеров, и картины быта и нравов обретали в нём силу жизненной правды. »Вот настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов», — писал Вяземский, представляя читателю первый том «Монастырки» и героев романа: Анюту — «прототипа всех милых, простосердечных, откровенных монастырок бывших, настоящих и будущих»; Клима Сидоровича Дюндика — «лицо оригинальное, означенное резкими и забавными чертами и годное для изучения нравственного»; Марфу Петровну, «которая женщина себе на уме и вопреки духовного наставления вовсе не боится мужа, а напротив держит его в ежовых руковицах», двух её дочерей, «выучившихся французскому языку по книге «Jardin de Paradis pour lecon des enfants… ». Во всех этих лицах, не исключая и «племянника Марфы Петровны, господина Прыжкова, урождённого Прыжко», который вздумал промышлять на роменской ярмарке забавой парижских шалунов, Вяземский находил ту точность психологической и бытовой характеристики, которая делает их реально узнаваемыми фигурами провинциальной помещичьей среды. именно это, согласно Вяземскому, отличало «Монастырку» от нравоописаний Булгарина, не находящих в обществе прямых соответствий и переносящих на русский быт готовые схемы, заимствованные из иноязычных литератур. Формула «первый роман нравов» была в этом отношении полемической ; она противопоставляла «Монастырку» как Булгарину, так и Нарежному, имевшим перед Погорельским только хронологическое первенство. «Нарежный был Теньер, и ещё русский Теньер романа. <… > Романы Нарежного обдают нас варенухою, и куда автор ни вводит нас, а всё, кажется, не выходишь у него из корчмы. Действующие лица в новом романе совершенно других примет». В этом отзыве довольно точно схвачены литературные особенности «Монастырки»: бытовая сфера, освобождённая от несущественных, случайных черт, взятая в своих характерных проявлениях, и, с другой стороны, очищенная от натуралистического, «низкого», «грубого». Скажем сразу же, что в этом была и сила, и слабость «Монастырки» по сравнению с упомянутыми романами Нарежного, чьё бытописание ярче, смелее и свободнее. «Монастырка» же во многом зависит ещё от сентиментальной и романтической традиции, в которой держалось представление о бытовой сфере как о «низкой», требующей «очищения». Роман Погорельского, конечно, не реалистический роман; в нём есть и традиционно романтические ситуации и лица: таков, например, благородный цыган Василий, с которым связана целая сюжетная линия. Но он был значительным шагом вперёд по сравнению с «нравственно-сатирическим» романом, и к тому же верно отметил Вяземский, «язык и слог его» совершенно отвечали «требованиям природы и искусства». Это была также стрела, пущенная в Булгарина: его обвиняли именно в отсутствии «слога», в безжизненной правильности литературной речи.
Для характеристики отношения к «Монастырке» в пушкинском кругу небезынтересно вспомнить признание Баратынского, тонкого ценителя литературного стиля. Прочитав «Вечера на хуторе близ Диканьки», он писал: «Я приписывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его».
Статья Вяземского появилась в «Литературной газете» и прозвучала как боевой сигнал. Булгарин должен был отвечать и защищать свои принципы дидактического бытописания. Ещё до выхода романа Погорельского он был предубеждён против автора. 25 июня 1830 года он писал жалобу шефу жандармов Бенкендорфу: «Меня гонят и преследуют сильные ныне при дворе люди: Жуковский и Алексей Перовский за то именно, что я не хочу быть орудием никакой партии». Так или иначе, но открыто нападать на «сильного при дворе» сановника и «сильного» литературного конкурента Булгарин не решается; он в своей «Северной пчеле» (№№ 32-37) увенчивает автора «Монастырки» розами, имевшими, однако, довольно острые шипы. Начав статью буквально с тех же уверений в своей «внепартийности», что в письме к Бенкедорфу, Булгарин расценивает «Монастырку» как роман «более юмористический, нежели сатирический», принадлежащий к числу тех « милых» произведений, в которых «не должно искать ни великих истин, ни сильных характеров, ни резких сцен, ни поэтических порывов», где представлены «обыкновенные случаи жизни, характеры, кажется, знакомые, рассуждения, слышимые ежедневно, но всё это так мило сложено, так искусно распределено, так живо нарисовано, что читатель невольно увлекается… »В этих вынужденных похвалах очень важно замечание об «обыкновенности» лиц и жизненных ситуаций, — именно этот упрёк, как известно, адресовал А. Бестужев «Евгению Онегину», и именно эта «обыкновенность», неприемлемая для романтической эстетики, открыла русской литературе новые пути.
Наряду с сомнительными похвалами и с признанием безупречности литературного слога Булгарин адресует ряд полемических выпадов как непосредственно Погорельскому, так и автору статьи в «Литературной газете»; так, он решительно не соглашался, что «Монастырка»-«единственный русский роман, изображающий нравы в настоящем виде». Не обошёлся Булгарин и без довольно грубых выпадов личного свойства.
Пушкинская группа писателей продолжала наступление. В альманахе «Северные цветы на 1831 год», в «Обозрении российской словесности за вторую половину 1829 года и первую половину 1830 года» Орест Сомов разбирает уже сочинения Погорельского и Булгарина рядом. Обвиняя последнего в анахронизме и полном непонимании «общего характера русского народа», считая к тому же, что «Булгарин пишет как иностранец, который постиг механизм русского языка», критик, напротив, видит в романе Погорельского очерки характеров, «схваченных с самой природы», и как знаток Малороссии «отдаёт всю справедливость наблюдательности и меткости автора», психологической и этнографической верности романа.
Московские журналы, держась в стороне от петербургских литературных схваток, встретили «Монастырку» сдержаннее. Единодушно разделяя мнение о мастерстве Погорельского-рассказчика, они, тем не менее, оценили «Монастырку» как роман подражательный. По мнению критика «Московского телеграфа» (ч. 32, №5), это не более «как приятное описание семейственных интриг», в котором не следует искать «ни страстей, ни мыслей, ни глубокого значения». Критик объяснял «неумеренные» похвалы «Литературной газеты» личными дружескими связями писателя. Мнение «Московского телеграфа» вполне разделял и другой журнал-«Атеней» (ч. 2, №7). Брошенное Булгариным определение «Монастырки» как Милого», непритязательного романа нашло у москвичей сочувствие и поддержку; они не упустили случая задеть «литературных аристократов», каковыми считали пушкинско — дельвиговский кружок и которому, естественно, причисляли и Погорельского.
Однако острые и, в сущности своей, «партийные» споры не помешали шумному успеху романа. Им зачитывались в столицах и в провинции, и интерес к его продолжению не ослабевал в течение нескольких лет. Погорельский же заставил себя ждать довольно долго. Но когда, спустя три года, вышла, наконец, вторая часть «Монастырки», появление её было воспринято как заметное событие не только в узколитературных кругах: роман к тому времени обрёл широкую читательскую аудиторию.
Критические отклики на завершённый уже роман оказались спокойнее по тону и не были столь явно отмечены кипением страстей. Тот же «Московский телеграф» на этот раз писал, что «занимательность» этого «не высокого, не гениального, но чрезвычайно приятного, милого» произведения «так естественна, так проста и следственно близка всякому, что искусство автора почти незаметно — а это едва ли не большее искусство». «Это ясный, простой рассказ умного, образованного человека». Другое московское издание-«Молва», — не без ехидства напомнив читателям о «громком плеске приятельской газеты» при появлении первой части романа, отозвалось, тем не менее, о «Монастырке» как о «приятном литературном явлении».
Спустя два десятилетия, уже после смерти писателя, откликаясь на выход двухтомника его сочинений, Н. Г. Чернышевский назвал «Монастырку» «очень замечательным явлением» для своего времени. По его мысли, в отличие от Н. Полевого или Марлинского Погорельский описывал не «страсти», а «нравы», и поэтому их успех, как и успех романов Загоскина, «не мог вредить «Двойнику» и «Монастырке»; к тому же произведения Погорельского, владевшего, по его мнению, замечательным талантом рассказчика, стоят « в беллетристическом отношении несравненно выше всех этих романов». Эта спокойная и объективная оценка, подтверждавшая взгляд на «Монастырку» пушкинского круга, вполне была оправдана временем: на протяжении 19 века «Монастырка» оставалась одним из самых читаемых романов и даже вызвала к жизни литературные подражания. С точки зрения историко-литературной роман этот, во многом ещё несовершенный, явился тем не менее провозвестником того «семейного» реалистического романа, который получил в русской литературе дальнейшее блистательное развитие вплоть до романов Льва Толстого.
«Монастырка» была последним произведением Антония Погорельского. В промежутке между двумя её частями, в 1830 году, в «Литературной газете» было ещё напечатано его шутливо-философское послание барону Гумбольдту — «Новая тяжба о букве Ъ». Больше имя писателя на страницах печати не появлялось.
IV. Выводы.
Изучение жизни и творчества Антония Погорельского (Алексея Алексеевича Перовского) привело меня к мысли о том, что развитие русской литературы проходило при значительном участии этого писателя. Он явился автором первой фантастической русской повести. Его продолжатель – Одоевский. Он автор первого бытового романа. Его продолжатель – Гоголь, а «мысль семейную» продолжил Лев Толстой. Он принес детям первую сказку в прозе. Его продолжатель опять же Лев Толстой. Он внес новое понимание немецкого слова «двойник», предложил особую композицию повестей в виде цикла. Его продолжатель – Гоголь.
Понимание роли Погорельского в развитии русской литературы привело меня к мысли о том, что невозможно изучать русскую литературу XIX века, не упоминая Антония Погорельского как новатора и учредителя новых традиций.
Для учащихся нашего города изучение его творчества было бы особенно интересным. Ведь задача молодежи – изучать и сохранять культуру и традиции своей малой родины.
V. Источники.
А.Погорельский. Двойник.
А.Погорельский. Черная курица или Подземные жители.
VI. Использованная литература.
Антоний Погорельский. Биография.- www. pogorelskiy. org. ru
Алиев А. Дворянское гнездо (о Погореловых).
Автор «Чёрной курицы». — Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
Антоний Погорельский. — Архив фантастики Виталия Карацупы. — www. archivsf. narod. ru.
Биография Погорельского — www.isvis.ru/_avt_pogor.htm
Иезуитов Р.В. Русская фантастическая проза эпохи романтизма.
Литературная энциклопедия в 11 томах, 1929-1939……..
Малая С. Погорельский Антоний.
Пилюгина А. Природа фантастического в повести А. Погорельского.
Русский биографический словарь.
Турьян М.А. Жизнь и творчество Антония Погорельского. – М.,
«Художественная литература», 1975.
Энциклопедия «Кругосвет»
Этап
усвоения новых знаний.
1.
Антоний Погорельский: страницы биографии.
В
1783 г. в Тульской губернии, в имении отца, родился поэт Василий
Андреевич Жуковский. Мы с вами читали о том, что после смерти отца он учился
в частном пансионе.
Еще один писатель, Алексей Алексеевич
Перовский, родился спустя четыре года после Жуковского, в 1787 году, и тоже
некоторое время учился в частном пансионе. В таких учебных заведениях
обучалось очень много детей русских дворян. Что же это такое — частные
пансионы?
Существительное пансион
образовано от латинского слова со значением «платеж, взнос». В XVIII и
XIX вв. пансионами называли учебные заведения, где дети дворян жили на
полном содержании и обучались разным наукам.
Представьте себе русских дворян, которые
живут в своих поместьях, часто очень небогатых, разбросанных в разных частях
России. Дворянская семья живет, например, в поместье, от которого полдня пути
на лошадях до уездного города (говоря современным языком, до районного
центра), два-три дня (или даже больше) — до губернского города
(т. е. до нынешнего областного центра). Вокруг села, где живут
крестьяне. Школ для крестьян в XVIII веке почти не было, для дворян гимназии
были только в губернских городах.
В семьях рождаются дети. По закону того
времени дворяне должны дать своим детям хорошее образование и воспитание.
Чтобы обучить ребенка разным языкам и наукам, нужны учителя. Где же взять
учителей в далеком поместье? Вот и приходилось родителям расставаться со
своими дорогими детьми на много лет, чтобы отвезти их в столицу, в пансион,
где дети могли бы жить и учиться за определенную — довольно
большую — плату. Потратив много денег на дорогу и заплатив за
несколько лет вперед, родители обычно возвращались домой, в свое поместье.
Телефонов в то время не было, телеграфа
тоже; чтобы послать письмо, надо было специально ехать в уездный город.
Родители отвезли ребенка, доверили его содержателю пансиона…
— Какие бы чувства испытали вы,
оказавшись в такой ситуации?
Отдавали детей в пансионы и дворяне,
которые жили в самой столице. Столица в те времена была не в Москве, а в
Санкт-Петербурге.
Мы сегодня будем читать сказку, в которой
главный герой живет в таком пансионе.
Но сначала вернемся к Алексею Алексеевичу
Перовскому. Он некоторое время учился в пансионе, затем родители нанимали ему
частных учителей — тогда это называли домашним образованием.
Потом он поступил в Московский университет и закончил его со степенью доктора
философских и словесных наук. Когда началась Отечественная война
1812 года, Алексею Перовскому было 25 лет. Как офицер, он участвовал в
этой войне, а затем в заграничном походе русских войск.
В 1817 г.
у Алексея Перовского родился племянник, тоже Алексей, который стал знаменитым
в России человеком. Это был Алексей Константинович Толстой, близкий друг
императора Александра II, его флигель-адъютант и, что самое главное,
знаменитый русский писатель и поэт. Но в двадцатые годы он не был еще
знаменитостью, а был простым мальчиком из дворянской семьи. Алексей Перовский
очень любил своего племянника и сочинил для него сказку «Черная курица, или
Подземные жители», но опубликовал ее не под собственным именем, а под псевдонимом.
— Что такое псевдоним?
Псевдонимы бывают не только у писателей;
псевдоним может взять себе актер, журналист, художник. В современном
компьютерном мире мы встречаемся с псевдонимами очень часто, только называем
их иначе: ник.
Итак, Алексей Перовский взял себе
псевдоним Антоний Погорельский.
2. Пересказ сказки «Черная курица, или Подземные жители».
—
вам дома нужно было прочитать сказку. Давайте попробуем её кратко
пересказать.
Слушают
учителя.
Отвечают
на вопрос.
Псевдоним — придуманное
литературное имя, которым писатель подписывает свои произведения.
Кратко
пересказывают по цепочке сказку.
Этап
первичного закрепления.
1.
Беседа по прочитанному.
— Как вы
докажете, что перед нами сказка, а не просто повесть из жизни мальчика XVIII
века?
— Какие
события и явления можно назвать в этом повествовании сказочными,
фантастическими?
— Какие
особенности сказки заставляют нас иногда верить, что перед нами не сказка, а
реальная история?
— Какие
факты, описания показывают нам действительную, реальную жизнь того времени,
достоверно рисуют перед нами события и обычаи той эпохи?
— Могла
ли такая сказка быть народной?
— какой
вывод можем сделать?
— Похож
ли Алеша на героев народных волшебных сказок? Положительный он герой или
отрицательный? Бывают ли такие герои в народных сказках?
— Если
бы мы получили волшебное семечко сейчас, помогло бы оно нам написать
сочинение, выиграть олимпиаду по математике или, скажем, по географии либо
придумать собственную компьютерную программу?
2.
Нравоучительное содержание сказки
—
Как изменялся характер, по-старинному говоря, нрав Алеши после того, как он
получил волшебный подарок?
—
Есть художественные произведения, авторы которых просто развлекают читателей.
Есть произведения, авторы которых учат. Как вы думаете, к какому виду
принадлежит эта сказка?
—
Чему учит пример превращения Алеши?
—
Автор в этой сказке учит нас на примере Алеши, но не только. Есть несколько
абзацев, в которых мы видим прямые наставления. Найдите эти абзацы.
Отвечают
на вопросы.
Сочетание
реального и фантастического — одна из особенностей литературной сказки.
Герой
народной сказки однозначен: он или хороший, или плохой; или герой, или
злодей. В народной сказке никогда не описывается характер: перед нами четко
обозначенный тип. В сказке Антония Погорельского описано изменение нрава, т.
е. характера, главного героя. Мы следим за причинами, за динамикой этих
изменений, и это заставляет нас лучше понимать свои собственные поступки и
более ответственно относиться к своей жизни.
Семечко помогало
воспроизводить, повторять, от Алеши не требовалось творчества. Написать
сочинение, решить нестандартную задачу или создать свою программу без
творческих усилий невозможно. Творить можно лишь опираясь на собственную
внутреннюю силу и знания
Отвечают на
вопросы.
1) «Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: „Алеша,
не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит;
благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но
не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не
будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!“»
(с. 142).
2) «— Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от
пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в
дверь, а выходят в щелочку, и потому если хочешь исправиться, то должен
беспрестанно и строго смотреть за собою» (с. 146—147).
3) «…Для исправления самого себя необходимо начать тем, чтоб откинуть
самолюбие и излишнюю самонадеянность» (с. 147).
Погорельский Антоний (Алексей Алексеевич Перовский)
Перовский Алексей Алексеевич (1787 – 1836) – писатель, который вошел в историю русской литературы под псевдонимом Антоний Погорельский. Он сочинил немало произведений для взрослых читателей, но также писал и детские сказки. Самая известная из них – «Черная курица или Подземные жители», которую школьники проходят в 5 классе.
Чем больше вы имеете от природы дарований и способностей, тем скромнее и послушнее надлежит вам быть. Ведь, Бог не для того дал вам ум, чтобы употребляли его во зло. (А. Погорельский «Черная курица»)
Богатое детство и хорошее образование
Алексей Перовский родился в 1787 году, к сожалению, точная дата неизвестна. Он был внебрачным сыном Алексея Разумовского – очень влиятельного и богатого человека, который был близок ко двору Екатерины Второй. А вот матерью его была Мария Соболевская, женщина не такого благородного происхождения, даже с крестьянскими корнями. Но видимо, что в ней было что такое, что пленило Разумовского, и он сделал ее своей гражданской женой.
Более того, Соболевская вместе с детьми (она родила не только Алексея) жила в роскошном особняке графа и ни в чем не была ущемлена. Кстати, все внебрачные дети Разумовского носили не его фамилию, они назывались Перовскими.
Сам будущий писатель получил очень хорошее образование – сначала при помощи многочисленных репетиторов, которых приглашал отец, а после окончил Московский университет (1805-1807 гг.). По образованию будущий писатель был философом, имел докторскую степень словесных и философских наук.
Но после окончания университета Перовский увлекся ботаникой. В то время он занимался управлением отцовских угодий. А потому живо интересовался всем, что относится к сельскому хозяйству. Даже написал несколько научных трудов на эту тему, которые вышли в 1808 году – «О растениях, которые полезны для России», «Как отличить животных от растений» и «О пользе и целях системы растений». Кстати, по стилистике эти труды очень напоминали произведения Николая Карамзина – это впоследствии отметили все историки. Хотя ничего удивительного тут нет, так как Перовский был ярым поклонником писателя, а потому охотно перенял какие-то литературные приемы.
Интересный факт: Мария Соболевская является бабушкой знаменитого писателя Алексея Толстого, который подарил нам «Буратино». А Алексей Перовский соответственно, приходится ему дядей.
Война с Наполеоном

Алексей записался в армию добровольцем, хотя его отец был категорически против. Молодой человек участвовал во многих сражениях – сначала в самой России, а потом уже и в Европе, когда русские войска гнали французов домой. После победы полк, в котором служил Перовский, был расквартирован в Дрездене
В Германии Алексей провел около 2-х лет. В это время он увлекся немецкой литературой, особенно ему нравились произведения Гофмана (в том числе сказки). Позднее в свои повестях и рассказах Перовский использовал литературные приемы немецкого автора.
Интересный факт: Два брата Перовского также были на войне. Один участвовал в Бородинской битве, попал в плен, а после освобождения дослужился до генерала и губернатора Оренбурга. Другой брат во время войны был ранен, но впоследствии стал министром внутренних дел. А вот Алексей пошел по творческой тропе и стал писателем.
Литературный дебют и выбор псевдонима
Надо сказать, что литературные способности Алексея Перовского проявились еще в детстве. Сохранилась тетрадка с его сочинениями, которую он однажды подарил отцу на именины.
А еще будучи студентом он с удовольствием вращался в литературных кругах. Например, был лично знаком с тем же Карамзиным, а также с Жуковским, который познакомил его с Тургеневым. Но потом была госслужба, война и лишь в 1816 году Алексей Перовский возвращается в Петербург. Тогда он знакомится с самим Пушкиным, и начинает пробовать себя в поэзии. Например, занимается переводами Горация.
В 1822 году умирает граф Разумовский и оставляет своему сыну в наследство деревню Погорельцы. Алексей переезжает туда из Петербурга, чтобы основательно переключиться на писательскую деятельность. И кстати, именно с этого момента он берет себя псевдоним Погорельский – в честь той самой деревни. Ну и имя Антоний показалось ему интересней и более поэтичней, чем Алексей.
Период творчества
Первым произведением Антония Погорельского стала повесть «Двойник или Мои вечера в Малороссии». Это произведение вызвало восторг у самого Александра Пушкина, с которым писатель в то время был уже в очень хороших отношениях.
После этого Погорельский решил окончательно уйти с государственной службы и посвятить себя творчеству. В 1825 году она написал «Лафертовскую маковницу». Эта повесть считается первым литературным опытом в России с элементами фантастики. И опять же в числе главных почитателей оказался сам Пушкин. Он открыто говорил о своем восторге после прочтения «Маковницы». И это сделало Погорельского знаменитым в культурных кругах Петербурга, да и всей России.
В 1829 году Погорельский пишет сказку «Черная курица, или Подземные жители». Эта занимательная история считается первой в русской литературе авторской сказкой. Даже произведения самого Пушкина выйдут чуть позже. Погорельский написал ее для своего племянника Алеши. Да-да, это все тот же Алексей Толстой, который в будущем тоже станет писателем.
Это произведение считается венцом писательской карьеры Погорельского. В советское время историю не раз переиздавали, и включили в школьную программу. По ней ставили спектакли и даже сняли художественный фильм с Евгенией Евстигнеевым и Валентином Гафтом в главных ролях.
Одним из последних известных произведений Погорельского стал роман «Монастырка», рассказывающий о жизни выпускницы Смольного института. Он вышел в 1830 году. Возможно, Антоний Погорельский написал бы еще больше повестей и романов, но он достаточно рано умер. Ему еще не было 50, когда он заболел туберкулезом. Писатель отправился на лечение в Ниццу, но так туда и не добрался – скончался по дороге.