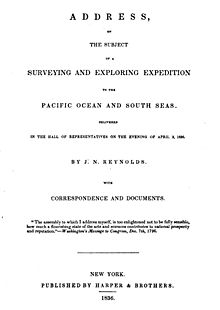Title page of the first book edition, Harper, New York (1838) |
|
| Author | Edgar Allan Poe |
|---|---|
| Country | United States |
| Language | English |
| Publisher | Harper & Brothers |
|
Publication date |
July 1838 |
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838) is the only complete novel written by American writer Edgar Allan Poe. The work relates the tale of the young Arthur Gordon Pym, who stows away aboard a whaling ship called the Grampus. Various adventures and misadventures befall Pym, including shipwreck, mutiny, and cannibalism, before he is saved by the crew of the Jane Guy. Aboard this vessel, Pym and a sailor named Dirk Peters continue their adventures farther south. Docking on land, they encounter hostile black-skinned natives before escaping back to the ocean. The novel ends abruptly as Pym and Peters continue toward the South Pole.
The story starts out as a fairly conventional adventure at sea, but it becomes increasingly strange and hard to classify. Poe, who intended to present a realistic story, was inspired by several real-life accounts of sea voyages, and drew heavily from Jeremiah N. Reynolds and referenced the Hollow Earth theory. He also drew from his own experiences at sea. Analyses of the novel often focus on possible autobiographical elements as well as its portrayal of race and the symbolism in the final lines of the work.
Difficulty in finding literary success early in his short story-writing career inspired Poe to pursue writing a longer work. A few serialized installments of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket were first published in the Southern Literary Messenger, though never completed. The full novel was published in July 1838 in two volumes. Some critics responded negatively to the work for being too gruesome and for cribbing heavily from other works, while others praised its exciting adventures. Poe himself later called it «a very silly book». The novel later influenced Herman Melville and Jules Verne.
Plot summary[edit]
The book comprises a preface, 25 chapters, and an afterword, with a total of around 72,000 words.
On board the Ariel (Chapter I)[edit]
The first section of the novel features Pym’s small boat being destroyed.
Arthur Gordon Pym was born on the island of Nantucket, famous for its fishing harbor and whaling. His best friend, Augustus Barnard, is the son of the captain of a whaling ship. One night, the two boys become drunk and decide, on Augustus’s whim, to take advantage of the breeze and sail out on Pym’s sailboat, the Ariel. The breeze, however, turns out to be the beginnings of a violent storm. The situation gets critical when Augustus passes out drunk, and the inexperienced Pym must take control of the dinghy. The Ariel is overtaken by the Penguin, a returning whaling ship. Against the captain’s wishes, the crew of the Penguin turns back to search for and rescue both Augustus and Pym. After they are safely back on land, they decide to keep this episode a secret from their parents.
On board the Grampus (Chapters II – XIII)[edit]
His first ocean misadventure does not dissuade Pym from sailing again; rather, his imagination is ignited by the experience. His interest is further fueled by the tales of a sailor’s life that Augustus tells him. Pym decides to follow Augustus as a stowaway aboard the Grampus, a whaling vessel commanded by Augustus’s father that is bound for the southern seas. Augustus helps Pym by preparing a hideout in the hold for him and smuggling Tiger, Pym’s faithful dog, on board. Augustus promises to provide Pym with water and food until the ship is too far from shore to return, at which time Pym will reveal himself.
Due to the stuffy atmosphere and vapors in the dark and cramped hold, Pym becomes increasingly comatose and delirious over the days. He can’t communicate with Augustus, and the promised supplies fail to arrive, so Pym runs out of water. In the course of his ordeal, he discovers a letter written in blood attached to his dog Tiger, warning Pym to remain hidden, as his life depends on it.
Augustus finally sets Pym free, explaining the mysterious message, as well as his delay in retrieving his friend: a mutiny had erupted on the whaling ship. Part of the crew was slaughtered by the mutineers, while another group, including Augustus’s father, were set adrift in a small boat. Augustus survived because he had befriended one of the mutineers, Dirk Peters, who now regrets his part in the uprising.
Peters, Pym, and Augustus hatch a plan to seize control of the ship: Pym, whose presence is unknown to the mutineers, will wait for a storm and then dress in the clothes of a recently dead sailor, masquerading as a ghost. In the confusion sure to break out among the superstitious sailors, Peters and Augustus, helped by Tiger, will take over the ship again. Everything goes according to plan, and soon the three men are masters of the Grampus: all the mutineers are killed or thrown overboard except one, Richard Parker, whom they spare to help them run the vessel. (At this point, the dog Tiger disappears from the novel; his unknown fate is a loose end in the narrative.)
The storm increases in force, breaking the mast, tearing the sails and flooding the hold. All four manage to survive by lashing themselves to the hull. As the storm abates, they find themselves safe for the moment, but without provisions. Over the following days, the men face death by starvation and thirst.
They sight an erratically moving Dutch ship with a grinning red-capped seaman on deck, nodding in apparent greeting as they approach. Initially delighted with the prospect of deliverance, they quickly become horrified as they are overcome with an awful stench. They soon realize that the apparently cheerful sailor is, in fact, a corpse propped up in the ship’s rigging, his «grin» a result of his partially decomposed skull moving as a seagull feeds upon it. As the ship passes, it becomes clear that all its occupants are rotting corpses.
As time passes, with no sign of land or other ships, Parker suggests that one of them should be killed as food for the others. They draw straws, following the custom of the sea, and Parker is sacrificed. This gives the others a reprieve, but Augustus soon dies from wounds received when they reclaimed the Grampus, and several more storms batter the already badly damaged ship. Pym and Peters float on the upturned hull and are close to death when they are rescued by the Jane Guy, a ship out of Liverpool.
On board the Jane Guy (Chapters XIV – XX)[edit]
On the Jane Guy, Pym and Peters become part of the crew and join the ship on its expedition to hunt sea calves and seals for fur, and to explore the southern oceans. Pym studies the islands around the Cape of Good Hope, becoming interested in the social structures of penguins, albatrosses, and other sea birds. Upon his urging, the captain agrees to sail farther south towards the unexplored Antarctic regions.
The ship crosses an ice barrier and arrives in open sea, close to the South Pole, albeit with a mild climate. Here the Jane Guy comes upon a mysterious island called Tsalal, inhabited by a tribe of black, apparently friendly natives led by a chief named Too-Wit. The color white is alien to the island’s inhabitants and unnerves them, because nothing of that color exists there. Even the natives’ teeth are black. The island is also home to many undiscovered species of flora and fauna. Its water is also different from water elsewhere, being strangely thick and exhibiting multicolored veins.
The natives’ relationship with the sailors is initially cordial, so Too-Wit and the captain begin trading. Their friendliness, however, turns out to be a ruse and on the eve of the ship’s proposed departure, the natives ambush the crew in a narrow gorge. Everyone except Pym and Peters is slaughtered, and the Jane Guy is overrun and burned by the malevolent tribe.
Tsalal and farther south (Chapters XXI – XXV)[edit]
Pym and Peters hide in the mountains surrounding the site of the ambush. They discover a labyrinth of passages in the hills with strange marks on the walls, and disagree about whether these are the result of artificial or natural causes. Facing a shortage of food, they make a desperate run and steal a pirogue from the natives, narrowly escaping from the island and taking one of its inhabitants prisoner.
The small boat drifts farther south on a current of increasingly warm water, which has become milky white in color. After several days they encounter a rain of ashes and then observe a huge cataract of fog or mist, which splits open to accommodate their entrance upon approach. The native dies as a huge shrouded white figure appears before them.
Here the novel ends abruptly. A short post-scriptural note, ostensibly written by the book’s editors, explains that Pym was killed in an accident and speculates his final two or three chapters were lost with him, though assuring the public the chapters will be restored to the text if found. The note further explains that Peters is alive in Illinois but cannot be interviewed at present. The editors then compare the shapes of the labyrinth and the wall marks noted by Pym to Arabian and Egyptian letters and hieroglyphs with meanings of «Shaded», «White», and «Region to the South».
Sources[edit]
Address on the Subject of a Surveying and Exploring Expedition to the Pacific Ocean and the South Seas (1836) by explorer Jeremiah N. Reynolds was a heavy influence on Poe’s novel.
In order to present the tale as an authentic exploration, Poe drew from contemporary travel journals.[1] Poe’s most significant source was the explorer Jeremiah N. Reynolds,[2] whose work Address on the Subject of a Surveying and Exploring Expedition to the Pacific Ocean and the South Seas was reviewed favorably by Poe in January 1837.[3] Poe used about 700 words of Reynolds’ address in Chapter XVI, almost half the length of the chapter.[4] In 1843, Poe also praised Reynolds in a review of A Brief Account of the Discoveries and Results of the United States’ Exploring Expedition printed in Graham’s Magazine.[5] It is unknown whether Poe and Reynolds ever met.[6] Shortly before Poe’s mysterious death, he is said to have called out the name «Reynolds» in his delirium. If true, this may have reflected the influence of Jeremiah Reynolds.[7]
In a footnote to Chapter XIII, Poe refers to the Polly, a wreck which drifted for six months across the Atlantic Ocean in 1811–1812. Poe probably read this history in an 1836 book by R. Thomas, Remarkable Events and Remarkable Shipwrecks, from which he quotes verbatim.[8]
In Chapter XVI, Poe recounts Captain James Cook’s circumnavigation of the globe aboard the Resolution that reached 70°10′ latitude.[9] He also drew from A Narrative of Four Voyages (1832), an account by Benjamin Morrell that became a bestseller.[10] A Narrative of Four Voyages may have given Poe the idea of the summarized title of his novel.[11] Poe may have used these real-life accounts in an attempt to hoax his readers into believing the novel was an autobiographical narrative by Pym.[12]
In addition to historical sources, Poe was influenced by fiction writers. The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge was a general influence,[13] and scenes of Pym and Dirk Peters in a cave echo scenes in Daniel Defoe’s Robinson Crusoe,[14] which many reviewers noted at the time, including London publications such as the Court Gazette and the Torch.[15] The ship of corpses recalls the legend of the Flying Dutchman, a ship which is cursed and unable to return home.[16] The more gruesome and psychological elements may have been drawn from Logan by John Neal,[17] whom Poe considered «first, or at all events second, among our men of indisputable genius«.[18]
Poe also incorporated the theories of Reynolds and John Cleves Symmes Jr. on the Hollow Earth.[19] The theory of these works was that a hole at the South Pole led to the interior of the planet, where undiscovered civilizations prospered.[16] As Symmes wrote, the earth was «hollow, habitable, and widely open about the poles». This theory, which he presented as early as 1818, was taken seriously throughout the nineteenth century.[20] Symmes’ theory had already served Poe when he wrote, in 1831, «MS. Found in a Bottle»,[21] based partly on Symmes’ Theory of the Concentric Spheres, published in 1826.[22] «MS. Found in a Bottle» is similar to Poe’s novel in setting, characterization, and some elements of plot.[23] Other writers who later fictionalized this theory include Edgar Rice Burroughs and L. Frank Baum.[24]
In describing life on a long sea voyage, Poe also drew from personal experience.[25] In 1815, a six-year-old Poe along with his foster-parents traveled from Norfolk, Virginia to Liverpool, England, a journey of 34 days.[26] During the difficult trip, young Poe asked his foster father, John Allan, to include him in a letter he was writing. Allan wrote, «Edgar says Pa say something for me, say I was not afraid of the sea.»[27] The family returned to the United States in 1820 aboard the Martha and docked in New York after 31 days.[28] Closer to the time Poe wrote his novel, he had sailed during his military career, the longest trip being from Boston to Charleston, South Carolina.[25]
Analysis[edit]
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket has defied a universally accepted interpretation. Scholar Scott Peeples wrote that it is «at once a mock nonfictional exploration narrative, adventure saga, bildungsroman, hoax, largely plagiarized travelogue, and spiritual allegory» and «one of the most elusive major texts of American literature.»[29] Biographer James M. Hutchisson writes that the plot both «soars to new heights of fictional ingenuity and descends to new lows of silliness and absurdity».[30]
One reason for the confusion comes from many continuity errors throughout the novel. For example, Pym notes that breaking a bottle while trapped in the hold saved his life because the sound alerted Augustus to his presence while searching. However, Pym notes that Augustus did not tell him this until «many years elapsed», even though Augustus is dead eight chapters later.[31] Nevertheless, much of the novel is carefully plotted. Novelist John Barth notes, for example, that the midway point of the novel occurs when Pym reaches the equator, the midway point of the globe.[32]
Scholar Shawn Rosenheim believes that the use of hieroglyphs in the novel served as a precursor to Poe’s interest in cryptography.[33] The pictographs themselves were likely inspired by The Kentuckian in New-York (1834) by William Alexander Caruthers, where similar writing is the work of a black slave.[34] Unlike the previous sea-voyage tales that Poe had written, such as «MS. Found in a Bottle», Pym is undertaking this trip on purpose.[35] It has been suggested that the journey is about establishing a national American identity as well as discovering a personal identity.[36]
Poe also presents the effects of alcohol in the novel. The opening episode, for example, shows that intoxicated people can sometimes seem entirely sober and then, suddenly, the effects of alcohol show through.[37] Such a depiction is a small version of a larger focus in the novel on contradictions between chaos and order. Even nature seems unnatural. Water, for example, is very different at the end of the novel, appearing either colorful or «unnaturally clear.»[38] The sun by the end shines «with a sickly yellow lustre emitting no decisive light» before seemingly being extinguished.[39]
Autobiographical elements[edit]
Elements of the novel are often read as autobiographical. The novel begins with Arthur Gordon Pym, a name similar to Edgar Allan Poe, departing from Edgartown, Massachusetts, on Martha’s Vineyard. Interpreted this way, the protagonist is actually sailing away from himself, or his ego.[35] The middle name of «Gordon», in replacing Poe’s connection to the Allan family, was turned into a reference to George Gordon Byron,[37] a poet whom Poe deeply admired.[40] The scene where Pym disguises himself from his grandfather while noting that he intends to inherit wealth from him also indicates a desire for Poe to free himself from family obligation and, specifically, scorning the patrimony of his foster-father John Allan.[41]
Dates are also relevant to this autobiographical reading. According to the text, Pym arrives at the island of Tsalal on January 19—Poe’s birthday.[42] Some scholars, including Burton R. Pollin and Richard Wilbur, suggest that the character of Augustus was based on Poe’s childhood friend Ebenezer Burling; others argue he represents Poe’s brother William Henry Leonard Poe,[43] who served in South America and elsewhere as a sailor aboard the USS Macedonian.[44] In the novel, the date of Augustus’s death corresponds to that of the death of Poe’s brother.[43] The first chapter features Pym’s sloop named the Ariel, the name of a character once played by Poe’s mother Eliza Poe,[34] and also the name of Percy Bysshe Shelley’s boat, on which he died, originally named Don Juan in honor of Lord Byron.[45]
Race[edit]
One thread of critical analysis of this tale focuses on the possibly racist implications of Poe’s plot and imagery. One such plot element is the black cook who leads the mutiny on the Grampus and is its most bloodthirsty participant.[46] Dirk Peters, a hybrid of white and Native American ancestry, is described as having a ferocious appearance, with long, protruding teeth, bowed legs, and a bald head like «the head of most negroes.»[47] The brilliant whiteness of the final figure in the novel contrasts with the dark-skinned savages and such a contrast may call to mind the escalating racial tensions over the question of slavery in the United States as Poe was writing the novel.[48]
Additionally, the novel drew from prevalent assumptions during the time that dark-skinned people were inherently inferior.[49] One critic of the use of race in The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket is Toni Morrison. In her 1992 book Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, Morrison discusses how the Africanist presence in the novel is used as an «Other» against which the author defines «white», «free», and «individual».[50] In her explorations of the depiction of African characters in white American literature, Morrison writes that «no early American writer is more important to the concept of American Africanism than Poe» because of the focus on the symbolism of black and white in Poe’s novel.[51] This possible racial symbolism is explored further in Mat Johnson’s satirical fantasy Pym (2011).[52]
Ending[edit]
«There arose in our pathway a shrouded human figure», 1898 illustration by A. D. McCormick
The novel ends abruptly with the sudden appearance of a bizarre enshrouded figure having skin hued «of the perfect whiteness of the snow.»[53] Many readers were left unsatisfied by this ending because, as Poe relative and scholar Harry Lee Poe wrote, «it didn’t match the kind of clear ending they expected from a novel.»[25] Poe may have purposely left the ending subject to speculation.[54] Some scholars have suggested that the ending serves as a symbolic conclusion to Pym’s spiritual journey[55] and others suggest that Pym has actually died in this scene, as though his tale is somehow being told posthumously.[56] Alternatively, Pym may die in the retelling of the story at precisely the same point he should have died during the actual adventure.[57] Like other characters in works by Poe, Pym seems to submit willingly to this fate, whatever it is.[23] Kenneth Silverman notes that the figure radiates ambivalence and it is not clear if it is a symbol of destruction or of protection.[58]
The chasms that open throughout the sea in the final moments of the book derive from the Hollow Earth theory. The area closest to the Pole is also, surprisingly, warm rather than cold, as Symmes believed.[59] Symmes also believed there were civilizations inside this Hollow Earth and the enshrouded figure who appears at the end may indicate one such civilization near the Pole.[16]
Composition and publication history[edit]
The first installment of a serialized version of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket was published in the Southern Literary Messenger in January 1837.
Poe had intended to collect a number of his early short stories into a volume titled Tales of the Folio Club in the 1830s.[60] The collection would be unified as a series of tales presented by members of a literary association based on the Delphian Club,[61] designed as burlesque of contemporary literary criticism.[62] Poe had previously printed several of these stories in the Philadelphia Saturday Courier and the Baltimore Saturday Visiter.[63]
An editor, James Kirke Paulding, tried to assist him in publishing this collection. However, Paulding reported back to Poe that the publishers at Harper & Brothers declined the collection, saying that readers were looking for simple, long works like novels. They suggested, «if he will lower himself a little to the ordinary comprehension of the generality of readers, and prepare… a single work… they will make such arrangements with him as will be liberal and satisfactory.»[64] They suggested «if other engagements permit… undertake a Tale in a couple volumes, for that is the magical number.»[65] The response from Harper & Brothers inspired Poe to begin a long work and began writing The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket.[66] Poe arranged with his boss at the Southern Literary Messenger to publish his novel in several serialized installments[29] at a pay rate of $3 per page.[67]
However, Poe retired from his role at the Messenger on January 3, 1837, as the installments were being published;[68] some scholars suggest he was fired and this led him to abandoning the novel.[3] His split with the Messenger began a «blank period» where he did not publish much and suffered from unemployment, poverty, and no success in his literary pursuits.[69] Poe soon realized writing a book-length narrative was a necessary career decision, partly because he had no steady job and the economy was suffering from the Panic of 1837.[29] He also set part of the story as a quest to Antarctica to capitalize the public’s sudden interest in that topic.[10]
After his marriage to Virginia Clemm, Poe spent the following winter and spring completing his manuscript for this novel in New York.[25] He earned a small amount of money by taking in a boarder named William Gowans.[70] During his fifteen months in New York, amidst the harsh economic climate, Poe published only two tales, «Von Jung, the Mystific» and «Siope. A Fable».[71] Harper & Brothers announced Poe’s novel would be published in May 1837, but the Panic forced them to delay.[72]
The novel was finally published in book form under the title The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket in July 1838, although it did not include Poe’s name and was instead presented as an account by Pym himself.[66] Poe excused the earlier serialized version by noting that the Messenger had mistakenly adapted it «under the garb of fiction».[73] As Harper & Brothers recommended, it was printed in two volumes. Its full subtitle was:
Comprising the Details of Mutiny and Atrocious Butchery on Board the American Brig Grampus, on Her Way to the South Seas, in the Month of June, 1827. With an Account of the Recapture of the Vessel by the Survivers; Their Shipwreck and Subsequent Horrible Sufferings from Famine; Their Deliverance by Means of the British Schooner Jane Guy; the Brief Cruise of this Latter Vessel in the Atlantic Ocean; Her Capture, and the Massacre of Her Crew Among a Group of Islands in the Eighty-Fourth Parallel of Southern Latitude; Together with the Incredible Adventures and Discoveries Still Farther South to Which That Distressing Calamity Gave Rise.[73]
The first overseas publication of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket appeared only a few months later when it was printed in London without Poe’s permission, although the final paragraph was omitted.[72] This early publication of the novel initiated British interest in Poe.[74]
Literary significance and reception[edit]
Contemporary reviews for The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket were generally unfavorable. Fifteen months after its publication, it was reviewed by Lewis Gaylord Clark, a fellow author who carried on a substantial feud with Poe. His review printed in The Knickerbocker[75] said the book was «told in a loose and slip-shod style, seldom chequered by any of the more common graces of composition.»[76] Clark went on, «This work is one of much interest, with all its defects, not the least of which is that it is too liberally stuffed with ‘horrid circumstances of blood and battle.‘«[75]
Many reviewers commented on the excess of violent scenes.[58] In addition to noting the novel’s gruesome details, a review in Burton’s Gentleman’s Magazine (possibly William Evans Burton himself) criticized its borrowed descriptions of geography and errors in nautical information. The reviewer considered it a literary hoax and called it an «impudent attempt at humbugging the public»[77] and regretted «Mr. Poe’s name in connexion with such a mass of ignorance and effrontery».[78] Poe later wrote to Burton that he agreed with the review, saying it «was essentially correct» and the novel was «a very silly book».[66]
Other reviews condemned the attempt at presenting a true story. A reviewer for the Metropolitan Magazine noted that, though the story was good as fiction, «when palmed upon the public as a true thing, it cannot appear in any other light than that of a bungling business—an impudent attempt at imposing on the credulity of the ignorant.»[79] Nevertheless, some readers believed portions of Poe’s novel were true, especially in England, and justified the absurdity of the book with an assumption that author Pym was exaggerating the truth.[80] Publisher George Putnam later noted that «whole columns of these new ‘discoveries’, including the hieroglyphics (sic) found on the rocks, were copied by many of the English country papers as sober historical truth.»[66]
In contrast, 20th-century Argentine writer Jorge Luis Borges, who admitted Poe as a strong influence,[81] praised the novel as «Poe’s greatest work».[82] He later included one of the species invented for the story in his dictionary of fantastical creatures, the Book of Imaginary Beings, in a chapter titled «an animal dreamt by Poe».[83] H. G. Wells noted that «Pym tells what a very intelligent mind could imagine about the south polar region a century ago».[84] Even so, most scholars did not engage in much serious discussion or analysis of the novel until the 1950s, though many in France recognized the work much earlier.[85] In 2013, The Guardian cited The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket as one of the 100 best novels written in English, and noted its influence on later authors such as Henry James, Arthur Conan Doyle, B. Traven and David Morrell.[86]
The financial and critical failure of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket was a turning point in Poe’s career.[43] For one, he was driven to literary duties that would make him money, notably his controversial role as editor of The Conchologist’s First Book in April 1839.[87] He also wrote a short series called «Literary Small Talk» for a new Baltimore-based magazine called American Museum of Science, Literature and the Arts.[88]
In need of work, Poe accepted a job at the low salary of $10 per week as assistant editor for Burton’s Gentleman’s Magazine,[89] despite their negative review of his novel. He also returned to his focus on short stories rather than longer works of prose; Poe’s next published book after this, his only completed novel, was the collection Tales of the Grotesque and Arabesque in 1840.[90]
Influence and legacy[edit]
Poe’s novel inspired later writers, including Jules Verne.
19th century[edit]
Scholars, including Patrick F. Quinn and John J. McAleer, have noted parallels between Herman Melville’s Moby-Dick and The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket and other Poe works. Quinn noted that there were enough similarities that Melville must have studied Poe’s novel and, if not, it would be «one of the most extraordinary accidents in literature».[91] McAleer noted that Poe’s short story «The Fall of the House of Usher» inspired «Ahab’s flawed character» in Moby-Dick.[92] Scholar Jack Scherting also noted similarities between Moby-Dick and Poe’s «MS. Found in a Bottle».[93]
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket became one of Poe’s most-translated works; by 1978, scholars had counted over 300 editions, adaptations, and translations.[94] This novel has proven to be particularly influential in France. French poet and author Charles Baudelaire translated the novel in 1857 as Les Aventures d’Arthur Gordon Pym.[95] Baudelaire was also inspired by Poe’s novel in his own poetry. «Voyage to Cythera» rewrites part of Poe’s scene where birds eat human flesh.[96]
French author Jules Verne greatly admired Poe and wrote a study, Edgar Poe et ses œuvres, in 1864.[97] Poe’s story «Three Sundays in a Week» may have inspired Verne’s novel Around the World in Eighty Days (1873).[98] In 1897, Verne published a sequel to The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket called An Antarctic Mystery.[99] Like Poe’s novel, Verne attempted to present an imaginative work of fiction as a believable story by including accurate factual details.[100] The two-volume novel explores the adventures of the Halbrane as its crew searches for answers to what became of Pym. Translations of this text are sometimes titled The Sphinx of Ice or The Mystery of Arthur Gordon Pym.
An informal sequel to The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket is the 1899 novel A Strange Discovery by Charles Romeyn Dake,[101] where the narrator, Doctor Bainbridge, recounts the story his patient Dirk Peters told him of his journey with Gordon Pym in Antarctica, including a discussion of Poe’s poem «The Raven».
20th century[edit]
Prince Amerigo in Henry James’s novel The Golden Bowl (1904) recalled The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket: «He remembered to have read as a boy a wonderful tale by Allan Poe … which was a thing to show, by the way, what imagination Americans could have: the story of the shipwrecked Gordon Pym, who … found … a thickness of white air … of the color of milk or of snow.»
Poe’s novel was also an influence on H. P. Lovecraft, whose 1936 novel At the Mountains of Madness follows similar thematic direction and borrows the cry tekeli-li or takkeli from the novel. Chaosium’s role-playing adventure Beyond the Mountains of Madness (1999), a sequel to Lovecraft’s novel, includes a «missing ending» of Poe’s novel, in which Pym encounters some of Lovecraft’s creatures at their Antarctic city.[102]
René Magritte’s 1937 painting Not to Be Reproduced depicts an 1858 French edition of Poe’s book in the lower right of the work.
Another French sequel was La Conquête de l’Eternel (1947) by Dominique André.
Georges Perec’s 1969 novel A Void, notable for not containing a single letter e, contains an e-less rewriting of Poe’s «The Raven» that is attributed to Arthur Gordon Pym in order to avoid using the two es found in Poe’s name.[103]
On May 5, 1974, author and journalist Arthur Koestler published a letter from reader Nigel Parker in The Sunday Times of a striking coincidence between a scene in Poe’s novel and an actual event that happened decades later:[104] In 1884, the yacht Mignonette sank, with four men cast adrift. After weeks without food, they decided that one of them should be sacrificed as food for the other three, just as in Poe’s novel. The loser was a young cabin boy named Richard Parker, coincidentally the same name as Poe’s fictional character. Parker’s shipmates, Tom Dudley and Edwin Stephens, were later tried for murder in a precedent-setting English common law trial, the renowned R v Dudley and Stephens.[105]
In Paul Theroux’s travelogue The Old Patagonian Express (1979), Theroux reads parts of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket to Jorge Luis Borges. Theroux describes it in this book as being the «most terrifying» story he had ever read.
In Paul Auster’s City of Glass (1985), the lead character Quinn has a revelation that makes him think of the discovery of the strange hieroglyphs at the end of Poe’s novel.
In a 1988 Young All-Stars comic book written by Roy and Dann Thomas, Arthur Gordon Pym is a 19th-century explorer who discovered the lost Arctic civilization of the alien Dyzan. Pym goes on to become Jules Verne’s Captain Nemo, eventually sinking the RMS Titanic. This story also uses elements of Edward Bulwer-Lytton’s 1871 novel Vril.[106]
21st century[edit]
Yann Martel named a character in his Man Booker Prize-winning novel Life of Pi (2001) after Poe’s fictional character, Richard Parker.[107] Mat Johnson’s 2011 novel Pym, a satirical fantasy exploring racial politics in the United States, draws its inspiration from The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, and closely models the original.[108][109]
Funeral doom band Ahab based their 2012 album The Giant on The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket.
Notes[edit]
- ^ Cf. Claude Richard, notes on Arthur Gordon Pym, in Edgar Allan Poe…, coll. bouquins, p. 1328
- ^ Sova, 210
- ^ a b Meyers, 96
- ^ Tynan, Daniel. «J. N. Reynold’s Voyage of the Potomac: Another Source for The Narrative of Arthur Gordon Pym» from Poe Studies, vol. IV, no. 2, December 1971: 35–37.
- ^ Thomas & Jackson, 436
- ^ Standish, 88
- ^ Meyers, 255
- ^ Huntress, Keith (1944). «Another Source for Poe’s Narrative of Arthur Gordon Pym». American Literature. 16 (1): 19–25. doi:10.2307/2920915. JSTOR 2920915.
- ^ Sova, 58
- ^ a b Peeples, 56
- ^ The full title of Morrell’s work is Narrative of Four Voyages to the South Sea, North and South Pacific Ocean, Chinese Sea, Ethiopic and Southern Atlantic Ocean, Indian and Antarctic Ocean Comprising Critical Surveys of Coasts and Islands, with Sailing Directions, and an Account of Some New and Valuable Discoveries, including the Massacre Islands, where thirteen of the author’s crew were massacred and eaten by cannibals (cited by R. Asselineau, op. cit., p. 13)
- ^ Kennedy, 227
- ^ Roger Asselineau (op. cit., p. 15)
- ^ Rosenheim, Shawn James. The Cryptographic Imagination: Secret Writing from Edgar Poe to the Internet. Johns Hopkins University Press, 1997: 59. ISBN 978-0-8018-5332-6
- ^ Thomas & Jackson, 256
- ^ a b c Bittner, 132
- ^ Lease, Benjamin. That Wild Fellow John Neal and the American Literary Revolution. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1972: 91. ISBN 9780226469690)
- ^ Poe, Edgar Allan. The Works of Edgar Allan Poe. Vol. 3. New York, New York: W.J. Widdleton, 1849: 545. OCLC 38115823
- ^ Carlson, 213
- ^ Meyers, 100
- ^ Bittner, 90
- ^ Thomas & Jackson, 175–176
- ^ a b Sova, 162
- ^ Standish, 11
- ^ a b c d Poe, 72
- ^ Meyers, 10
- ^ Thomas & Jackson, 26
- ^ Meyers, 14
- ^ a b c Peeples, 55
- ^ Hutchisson, 74
- ^ Peeples, 61
- ^ Barth, John. «‘Still Farther South’: Some Notes on Poe’s Pym«, Poe’s Pym: Critical Explorations, Richard Kopley, editor. Durham, NC: Duke University Press, 1992: 228. ISBN 0-8223-1246-8
- ^ Rosenheim, Shawn James. The Cryptographic Imagination: Secret Writing from Edgar Poe to the Internet. Johns Hopkins University Press, 1997: 21–22. ISBN 978-0-8018-5332-6
- ^ a b Silverman, 474
- ^ a b Hoffman, 260
- ^ Meyers, 297–298
- ^ a b Bittner, 124
- ^ Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York: Alfred A. Knopf, 1926: 69–70.
- ^ Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York: Alfred A. Knopf, 1926: 70.
- ^ Sova, 41
- ^ Kennedy, 245
- ^ Silverman, 135
- ^ a b c Peeples, 58
- ^ Silverman, 37
- ^ Prell, Donald. «The Sinking of the Don Juan«, Keats-Shelley Journal, Vol. LVI, 2007: 136–154
- ^ Hoffman, 263
- ^ Kennedy, 245–246
- ^ Peeples, 69–70
- ^ Kennedy, 243
- ^ Beaulieu, Elizabeth Ann. The Toni Morrison Encyclopedia. Westport, CT: Greenwood Press, 2003: 296. ISBN 0-313-31699-6
- ^ Kennedy, 244.
- ^ Mansbach, Adam. «Looking for Poe in Antarctica», The New York Times. March 4, 2011.
- ^ Hutchisson, 74–75
- ^ Hutchisson, 75
- ^ Peeples, 68
- ^ Hoffman, 271
- ^ Irwin, John T. The Mystery to a Solution. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996: 173. ISBN 0-8018-5466-0
- ^ a b Silverman, 137
- ^ Standish, 98
- ^ Thomas & Jackson, 127
- ^ * Hammond, Alexander (1972). «A Reconstruction of Poe’s 1833 ‘Tales of the Folio Club’: Preliminary Notes». Poe Studies (1971–1985). 5 (2): 25–32. doi:10.1111/j.1754-6095.1972.tb00190.x. JSTOR 45296608.
- ^ Silverman, 90
- ^ Meyers, 67
- ^ Thomas & Jackson, 192–193
- ^ Stashower, 104
- ^ a b c d Sova, 167
- ^ Silverman, 128
- ^ Thomas & Jackson, 237
- ^ Silverman, 129
- ^ Bittner, 128
- ^ Silverman, 131
- ^ a b Silverman, 133
- ^ a b Stashower, 105
- ^ Fisher, Benjamin F. «Poe in Great Britain», Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities, Lois Vines, editor. Iowa City: University of Iowa Press, 1999: 52. ISBN 0-87745-697-6
- ^ a b Moss, Sidney P. Poe’s Literary Battles: The Critic in the Context of His Literary Milieu. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1963: 89.
- ^ Stashower, 106
- ^ Silverman, 143
- ^ Silverman, 157
- ^ Thomas & Jackson, 258
- ^ Bittner, 133
- ^ Hutchisson, 145
- ^ Books.Google.com, read final page of preview
- ^ Borges, Jorge Luis (1969). Book of Imaginary Beings. Dutton. ISBN 9780525069904.
- ^ Frank, Frederick S. and Anthony Magistrale. The Poe Encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1997: 372. ISBN 978-0-313-27768-9
- ^ Sanborn, Geoffrey. «A confused beginning: The Narrative of Arthur Gordon Pym, of Nantucket«, as collected in The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, edited by Kevin J. Hayes. New York: Cambridge University Press, 2002: 171. ISBN 0-521-79727-6
- ^ McCrum, Robert (November 23, 2013). «The 100 best novels: No 10 – The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket by Edgar Allan Poe (1838)». The Guardian. Retrieved 2016-08-08.
- ^ Meyers, 106
- ^ Silverman, 137–138
- ^ Bittner, 145
- ^ Sova, 268
- ^ Quinn, Patrick F. «Poe’s Imaginary Voyage», Hudson Review, IV (Winter 1952), 585.
- ^ McAleer, John J. «Poe and Gothic Elements in Moby-Dick«, Emerson Society Quarterly, No. 27 (II Quarter 1962): 34.
- ^ Scherting, Jack. «The Bottle and the Coffin: Further Speculation on Poe and Moby-Dick«, Poe Newsletter, vol. I, no. 2, October 1968: 22.
- ^ Harvey, Ronald Clark. The Critical History of Edgar Allan Poe’s ‘The Narrative of Arthur Gordon Pym’: A Dialogue of Unreason. New York: Routledge, 1998: 42. ISBN 0-8153-3303-X
- ^ Standish, 111
- ^ Sova, 24
- ^ William Butcher, Jules Verne: The Definitive Biography, introduction by Arthur C. Clarke, Thunder’s Mouth Press, Avalon Publishing, New York, 2006. ISBN 978-1-56025-854-4. Discusses Verne’s article «Edgar Allan Poe and his Works» on pages 153, 208. The text of the article Edgar Poe et ses oeuvres is available at French e-text version
- ^ Sova, 238
- ^ Tresch, John. «Extra! Extra! Poe invents science fiction!» as collected in The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, edited by Kevin J. Hayes. New York: Cambridge University Press, 2002: 117. ISBN 0-521-79727-6
- ^ Poe, 73
- ^ Eco, Umberto. Six Walks in the Fictional Woods. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994: 7. ISBN 0-674-81050-3
- ^ Engan, Charles and Janyce. Beyond the Mountains of Madness. Oakland CA: Chaosium, Inc., 1999. pp.327-339. ISBN 1-56882-138-7.
- ^ Perec, Georges. A Void. Translated by Gilbert Adair. London: The Harvill Press, 1995. p.108. ISBN 1-86046-098-4
- ^ Plimmer, Martin (2005). Beyond Coincidence: Amazing Stories of Coincidence and the Mystery and Mathematics Behind Them. Thomas Dunne Books. p. 152. ISBN 978-0312340360. Retrieved 2015-02-19.
- ^ «The Ultimate Taboo». www.nytimes.com. Retrieved 2018-01-17.
- ^ Young All-Stars #16 (September 1988) The Dyzan Inheritance Book One: Leviathan
- ^ «Q and A With ‘Life of Pi’ Author». ABC News. 2006-01-06. Archived from the original on 2011-01-31. Retrieved 2018-01-17.
- ^ «Pym by Mat Johnson | Book review». Time Out Chicago. Retrieved 2018-01-17.
- ^ Johnson, Mat (2011-03-01). Pym: A Novel. Random House Publishing Group. ISBN 9780679603825.
References[edit]
- Bittner, William. Poe: A Biography. Boston: Little, Brown and Company, 1962.
- Carlson, Eric W. A Companion to Poe Studies. Westport, CT: Greenwood, 1996. ISBN 0-313-26506-2
- Hoffman, Daniel. Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1972. ISBN 0-8071-2321-8
- Hutchisson, James M. Poe. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2005. ISBN 1-57806-721-9
- Kennedy, J. Gerald. «Trust No Man: Poe, Douglass, and the Culture of Slavery», Romancing the Shadow: Poe and Race, J. Gerald Kennedy and Liliane Weissberg, editors. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-513711-6
- Meyers, Jeffrey. Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. New York: Cooper Square Press, 1991. ISBN 0-8154-1038-7
- Peeples, Scott. Edgar Allan Poe Revisited. New York: Twayne Publishers, 1998. ISBN 0-8057-4572-6
- Poe, Harry Lee. Edgar Allan Poe: An Illustrated Companion to His Tell-Tale Stores. New York: Metro Books, 2008. ISBN 978-1-4351-0469-3
- Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. New York: HarperPerennial, 1991. ISBN 0-06-092331-8
- Sova, Dawn B. Edgar Allan Poe: A to Z. New York: Checkmark Books, 2001. ISBN 0-8160-4161-X
- Standish, David. Hollow Earth: The Long and Curious History of Imagining Strange Lands, Fantastical Creatures, Advanced Civilizations, and Marvelous Machines Below the Earth’s Surface. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2006. ISBN 0-306-81373-4
- Stashower, Daniel. The Beautiful Cigar Girl: Mary Rogers, Edgar Allan Poe, and the Invention of Murder. New York: Dutton, 2006.0-525-94981-X
- Thomas, Dwight & David K. Jackson. The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809–1849. Boston: G. K. Hall & Co., 1987. ISBN 0-7838-1401-1
Further reading[edit]
- Almy, Robert F. «J. N. Reynolds: A Brief Biography with Particular Reference to Poe and Symmes», The Colophon 2 (1937): 227-245.
- Ricardou, John. «The Singular Character of the Water», English translation of a French analysis of the last part of Pym, Poe Studies, vol. VIII, no. 1, June 1976.
- Ridgely, J. V. «The Continuing Puzzle of Arthur Gordon Pym, Some Notes and Queries», Poe Newsletter, vol. III, no. 1, June 1970
- Sands, Kathleen. «The Mythic Initiation of Arthur Gordon Pym», Poe Studies, vol. VII, no. 1, June 1974
- Wells, Daniel A. «Engraved Within the Hills: Further Perspectives on the Ending of Pym», Poe Studies, vol. X, no. 1, June 1977: 13-15.
External links[edit]
- The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket at Project Gutenberg
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket public domain audiobook at LibriVox
- «The Strange Dis/Appearance of Arthur G. Pym» by the University of Virginia
- «Tekeli-li» or Hollow Earth Lives: A Bibliography of Antarctic Fiction compiled by Fauno Lancaster Cordes

Title page of the first book edition, Harper, New York (1838) |
|
| Author | Edgar Allan Poe |
|---|---|
| Country | United States |
| Language | English |
| Publisher | Harper & Brothers |
|
Publication date |
July 1838 |
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838) is the only complete novel written by American writer Edgar Allan Poe. The work relates the tale of the young Arthur Gordon Pym, who stows away aboard a whaling ship called the Grampus. Various adventures and misadventures befall Pym, including shipwreck, mutiny, and cannibalism, before he is saved by the crew of the Jane Guy. Aboard this vessel, Pym and a sailor named Dirk Peters continue their adventures farther south. Docking on land, they encounter hostile black-skinned natives before escaping back to the ocean. The novel ends abruptly as Pym and Peters continue toward the South Pole.
The story starts out as a fairly conventional adventure at sea, but it becomes increasingly strange and hard to classify. Poe, who intended to present a realistic story, was inspired by several real-life accounts of sea voyages, and drew heavily from Jeremiah N. Reynolds and referenced the Hollow Earth theory. He also drew from his own experiences at sea. Analyses of the novel often focus on possible autobiographical elements as well as its portrayal of race and the symbolism in the final lines of the work.
Difficulty in finding literary success early in his short story-writing career inspired Poe to pursue writing a longer work. A few serialized installments of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket were first published in the Southern Literary Messenger, though never completed. The full novel was published in July 1838 in two volumes. Some critics responded negatively to the work for being too gruesome and for cribbing heavily from other works, while others praised its exciting adventures. Poe himself later called it «a very silly book». The novel later influenced Herman Melville and Jules Verne.
Plot summary[edit]
The book comprises a preface, 25 chapters, and an afterword, with a total of around 72,000 words.
On board the Ariel (Chapter I)[edit]
The first section of the novel features Pym’s small boat being destroyed.
Arthur Gordon Pym was born on the island of Nantucket, famous for its fishing harbor and whaling. His best friend, Augustus Barnard, is the son of the captain of a whaling ship. One night, the two boys become drunk and decide, on Augustus’s whim, to take advantage of the breeze and sail out on Pym’s sailboat, the Ariel. The breeze, however, turns out to be the beginnings of a violent storm. The situation gets critical when Augustus passes out drunk, and the inexperienced Pym must take control of the dinghy. The Ariel is overtaken by the Penguin, a returning whaling ship. Against the captain’s wishes, the crew of the Penguin turns back to search for and rescue both Augustus and Pym. After they are safely back on land, they decide to keep this episode a secret from their parents.
On board the Grampus (Chapters II – XIII)[edit]
His first ocean misadventure does not dissuade Pym from sailing again; rather, his imagination is ignited by the experience. His interest is further fueled by the tales of a sailor’s life that Augustus tells him. Pym decides to follow Augustus as a stowaway aboard the Grampus, a whaling vessel commanded by Augustus’s father that is bound for the southern seas. Augustus helps Pym by preparing a hideout in the hold for him and smuggling Tiger, Pym’s faithful dog, on board. Augustus promises to provide Pym with water and food until the ship is too far from shore to return, at which time Pym will reveal himself.
Due to the stuffy atmosphere and vapors in the dark and cramped hold, Pym becomes increasingly comatose and delirious over the days. He can’t communicate with Augustus, and the promised supplies fail to arrive, so Pym runs out of water. In the course of his ordeal, he discovers a letter written in blood attached to his dog Tiger, warning Pym to remain hidden, as his life depends on it.
Augustus finally sets Pym free, explaining the mysterious message, as well as his delay in retrieving his friend: a mutiny had erupted on the whaling ship. Part of the crew was slaughtered by the mutineers, while another group, including Augustus’s father, were set adrift in a small boat. Augustus survived because he had befriended one of the mutineers, Dirk Peters, who now regrets his part in the uprising.
Peters, Pym, and Augustus hatch a plan to seize control of the ship: Pym, whose presence is unknown to the mutineers, will wait for a storm and then dress in the clothes of a recently dead sailor, masquerading as a ghost. In the confusion sure to break out among the superstitious sailors, Peters and Augustus, helped by Tiger, will take over the ship again. Everything goes according to plan, and soon the three men are masters of the Grampus: all the mutineers are killed or thrown overboard except one, Richard Parker, whom they spare to help them run the vessel. (At this point, the dog Tiger disappears from the novel; his unknown fate is a loose end in the narrative.)
The storm increases in force, breaking the mast, tearing the sails and flooding the hold. All four manage to survive by lashing themselves to the hull. As the storm abates, they find themselves safe for the moment, but without provisions. Over the following days, the men face death by starvation and thirst.
They sight an erratically moving Dutch ship with a grinning red-capped seaman on deck, nodding in apparent greeting as they approach. Initially delighted with the prospect of deliverance, they quickly become horrified as they are overcome with an awful stench. They soon realize that the apparently cheerful sailor is, in fact, a corpse propped up in the ship’s rigging, his «grin» a result of his partially decomposed skull moving as a seagull feeds upon it. As the ship passes, it becomes clear that all its occupants are rotting corpses.
As time passes, with no sign of land or other ships, Parker suggests that one of them should be killed as food for the others. They draw straws, following the custom of the sea, and Parker is sacrificed. This gives the others a reprieve, but Augustus soon dies from wounds received when they reclaimed the Grampus, and several more storms batter the already badly damaged ship. Pym and Peters float on the upturned hull and are close to death when they are rescued by the Jane Guy, a ship out of Liverpool.
On board the Jane Guy (Chapters XIV – XX)[edit]
On the Jane Guy, Pym and Peters become part of the crew and join the ship on its expedition to hunt sea calves and seals for fur, and to explore the southern oceans. Pym studies the islands around the Cape of Good Hope, becoming interested in the social structures of penguins, albatrosses, and other sea birds. Upon his urging, the captain agrees to sail farther south towards the unexplored Antarctic regions.
The ship crosses an ice barrier and arrives in open sea, close to the South Pole, albeit with a mild climate. Here the Jane Guy comes upon a mysterious island called Tsalal, inhabited by a tribe of black, apparently friendly natives led by a chief named Too-Wit. The color white is alien to the island’s inhabitants and unnerves them, because nothing of that color exists there. Even the natives’ teeth are black. The island is also home to many undiscovered species of flora and fauna. Its water is also different from water elsewhere, being strangely thick and exhibiting multicolored veins.
The natives’ relationship with the sailors is initially cordial, so Too-Wit and the captain begin trading. Their friendliness, however, turns out to be a ruse and on the eve of the ship’s proposed departure, the natives ambush the crew in a narrow gorge. Everyone except Pym and Peters is slaughtered, and the Jane Guy is overrun and burned by the malevolent tribe.
Tsalal and farther south (Chapters XXI – XXV)[edit]
Pym and Peters hide in the mountains surrounding the site of the ambush. They discover a labyrinth of passages in the hills with strange marks on the walls, and disagree about whether these are the result of artificial or natural causes. Facing a shortage of food, they make a desperate run and steal a pirogue from the natives, narrowly escaping from the island and taking one of its inhabitants prisoner.
The small boat drifts farther south on a current of increasingly warm water, which has become milky white in color. After several days they encounter a rain of ashes and then observe a huge cataract of fog or mist, which splits open to accommodate their entrance upon approach. The native dies as a huge shrouded white figure appears before them.
Here the novel ends abruptly. A short post-scriptural note, ostensibly written by the book’s editors, explains that Pym was killed in an accident and speculates his final two or three chapters were lost with him, though assuring the public the chapters will be restored to the text if found. The note further explains that Peters is alive in Illinois but cannot be interviewed at present. The editors then compare the shapes of the labyrinth and the wall marks noted by Pym to Arabian and Egyptian letters and hieroglyphs with meanings of «Shaded», «White», and «Region to the South».
Sources[edit]
Address on the Subject of a Surveying and Exploring Expedition to the Pacific Ocean and the South Seas (1836) by explorer Jeremiah N. Reynolds was a heavy influence on Poe’s novel.
In order to present the tale as an authentic exploration, Poe drew from contemporary travel journals.[1] Poe’s most significant source was the explorer Jeremiah N. Reynolds,[2] whose work Address on the Subject of a Surveying and Exploring Expedition to the Pacific Ocean and the South Seas was reviewed favorably by Poe in January 1837.[3] Poe used about 700 words of Reynolds’ address in Chapter XVI, almost half the length of the chapter.[4] In 1843, Poe also praised Reynolds in a review of A Brief Account of the Discoveries and Results of the United States’ Exploring Expedition printed in Graham’s Magazine.[5] It is unknown whether Poe and Reynolds ever met.[6] Shortly before Poe’s mysterious death, he is said to have called out the name «Reynolds» in his delirium. If true, this may have reflected the influence of Jeremiah Reynolds.[7]
In a footnote to Chapter XIII, Poe refers to the Polly, a wreck which drifted for six months across the Atlantic Ocean in 1811–1812. Poe probably read this history in an 1836 book by R. Thomas, Remarkable Events and Remarkable Shipwrecks, from which he quotes verbatim.[8]
In Chapter XVI, Poe recounts Captain James Cook’s circumnavigation of the globe aboard the Resolution that reached 70°10′ latitude.[9] He also drew from A Narrative of Four Voyages (1832), an account by Benjamin Morrell that became a bestseller.[10] A Narrative of Four Voyages may have given Poe the idea of the summarized title of his novel.[11] Poe may have used these real-life accounts in an attempt to hoax his readers into believing the novel was an autobiographical narrative by Pym.[12]
In addition to historical sources, Poe was influenced by fiction writers. The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge was a general influence,[13] and scenes of Pym and Dirk Peters in a cave echo scenes in Daniel Defoe’s Robinson Crusoe,[14] which many reviewers noted at the time, including London publications such as the Court Gazette and the Torch.[15] The ship of corpses recalls the legend of the Flying Dutchman, a ship which is cursed and unable to return home.[16] The more gruesome and psychological elements may have been drawn from Logan by John Neal,[17] whom Poe considered «first, or at all events second, among our men of indisputable genius«.[18]
Poe also incorporated the theories of Reynolds and John Cleves Symmes Jr. on the Hollow Earth.[19] The theory of these works was that a hole at the South Pole led to the interior of the planet, where undiscovered civilizations prospered.[16] As Symmes wrote, the earth was «hollow, habitable, and widely open about the poles». This theory, which he presented as early as 1818, was taken seriously throughout the nineteenth century.[20] Symmes’ theory had already served Poe when he wrote, in 1831, «MS. Found in a Bottle»,[21] based partly on Symmes’ Theory of the Concentric Spheres, published in 1826.[22] «MS. Found in a Bottle» is similar to Poe’s novel in setting, characterization, and some elements of plot.[23] Other writers who later fictionalized this theory include Edgar Rice Burroughs and L. Frank Baum.[24]
In describing life on a long sea voyage, Poe also drew from personal experience.[25] In 1815, a six-year-old Poe along with his foster-parents traveled from Norfolk, Virginia to Liverpool, England, a journey of 34 days.[26] During the difficult trip, young Poe asked his foster father, John Allan, to include him in a letter he was writing. Allan wrote, «Edgar says Pa say something for me, say I was not afraid of the sea.»[27] The family returned to the United States in 1820 aboard the Martha and docked in New York after 31 days.[28] Closer to the time Poe wrote his novel, he had sailed during his military career, the longest trip being from Boston to Charleston, South Carolina.[25]
Analysis[edit]
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket has defied a universally accepted interpretation. Scholar Scott Peeples wrote that it is «at once a mock nonfictional exploration narrative, adventure saga, bildungsroman, hoax, largely plagiarized travelogue, and spiritual allegory» and «one of the most elusive major texts of American literature.»[29] Biographer James M. Hutchisson writes that the plot both «soars to new heights of fictional ingenuity and descends to new lows of silliness and absurdity».[30]
One reason for the confusion comes from many continuity errors throughout the novel. For example, Pym notes that breaking a bottle while trapped in the hold saved his life because the sound alerted Augustus to his presence while searching. However, Pym notes that Augustus did not tell him this until «many years elapsed», even though Augustus is dead eight chapters later.[31] Nevertheless, much of the novel is carefully plotted. Novelist John Barth notes, for example, that the midway point of the novel occurs when Pym reaches the equator, the midway point of the globe.[32]
Scholar Shawn Rosenheim believes that the use of hieroglyphs in the novel served as a precursor to Poe’s interest in cryptography.[33] The pictographs themselves were likely inspired by The Kentuckian in New-York (1834) by William Alexander Caruthers, where similar writing is the work of a black slave.[34] Unlike the previous sea-voyage tales that Poe had written, such as «MS. Found in a Bottle», Pym is undertaking this trip on purpose.[35] It has been suggested that the journey is about establishing a national American identity as well as discovering a personal identity.[36]
Poe also presents the effects of alcohol in the novel. The opening episode, for example, shows that intoxicated people can sometimes seem entirely sober and then, suddenly, the effects of alcohol show through.[37] Such a depiction is a small version of a larger focus in the novel on contradictions between chaos and order. Even nature seems unnatural. Water, for example, is very different at the end of the novel, appearing either colorful or «unnaturally clear.»[38] The sun by the end shines «with a sickly yellow lustre emitting no decisive light» before seemingly being extinguished.[39]
Autobiographical elements[edit]
Elements of the novel are often read as autobiographical. The novel begins with Arthur Gordon Pym, a name similar to Edgar Allan Poe, departing from Edgartown, Massachusetts, on Martha’s Vineyard. Interpreted this way, the protagonist is actually sailing away from himself, or his ego.[35] The middle name of «Gordon», in replacing Poe’s connection to the Allan family, was turned into a reference to George Gordon Byron,[37] a poet whom Poe deeply admired.[40] The scene where Pym disguises himself from his grandfather while noting that he intends to inherit wealth from him also indicates a desire for Poe to free himself from family obligation and, specifically, scorning the patrimony of his foster-father John Allan.[41]
Dates are also relevant to this autobiographical reading. According to the text, Pym arrives at the island of Tsalal on January 19—Poe’s birthday.[42] Some scholars, including Burton R. Pollin and Richard Wilbur, suggest that the character of Augustus was based on Poe’s childhood friend Ebenezer Burling; others argue he represents Poe’s brother William Henry Leonard Poe,[43] who served in South America and elsewhere as a sailor aboard the USS Macedonian.[44] In the novel, the date of Augustus’s death corresponds to that of the death of Poe’s brother.[43] The first chapter features Pym’s sloop named the Ariel, the name of a character once played by Poe’s mother Eliza Poe,[34] and also the name of Percy Bysshe Shelley’s boat, on which he died, originally named Don Juan in honor of Lord Byron.[45]
Race[edit]
One thread of critical analysis of this tale focuses on the possibly racist implications of Poe’s plot and imagery. One such plot element is the black cook who leads the mutiny on the Grampus and is its most bloodthirsty participant.[46] Dirk Peters, a hybrid of white and Native American ancestry, is described as having a ferocious appearance, with long, protruding teeth, bowed legs, and a bald head like «the head of most negroes.»[47] The brilliant whiteness of the final figure in the novel contrasts with the dark-skinned savages and such a contrast may call to mind the escalating racial tensions over the question of slavery in the United States as Poe was writing the novel.[48]
Additionally, the novel drew from prevalent assumptions during the time that dark-skinned people were inherently inferior.[49] One critic of the use of race in The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket is Toni Morrison. In her 1992 book Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, Morrison discusses how the Africanist presence in the novel is used as an «Other» against which the author defines «white», «free», and «individual».[50] In her explorations of the depiction of African characters in white American literature, Morrison writes that «no early American writer is more important to the concept of American Africanism than Poe» because of the focus on the symbolism of black and white in Poe’s novel.[51] This possible racial symbolism is explored further in Mat Johnson’s satirical fantasy Pym (2011).[52]
Ending[edit]
«There arose in our pathway a shrouded human figure», 1898 illustration by A. D. McCormick
The novel ends abruptly with the sudden appearance of a bizarre enshrouded figure having skin hued «of the perfect whiteness of the snow.»[53] Many readers were left unsatisfied by this ending because, as Poe relative and scholar Harry Lee Poe wrote, «it didn’t match the kind of clear ending they expected from a novel.»[25] Poe may have purposely left the ending subject to speculation.[54] Some scholars have suggested that the ending serves as a symbolic conclusion to Pym’s spiritual journey[55] and others suggest that Pym has actually died in this scene, as though his tale is somehow being told posthumously.[56] Alternatively, Pym may die in the retelling of the story at precisely the same point he should have died during the actual adventure.[57] Like other characters in works by Poe, Pym seems to submit willingly to this fate, whatever it is.[23] Kenneth Silverman notes that the figure radiates ambivalence and it is not clear if it is a symbol of destruction or of protection.[58]
The chasms that open throughout the sea in the final moments of the book derive from the Hollow Earth theory. The area closest to the Pole is also, surprisingly, warm rather than cold, as Symmes believed.[59] Symmes also believed there were civilizations inside this Hollow Earth and the enshrouded figure who appears at the end may indicate one such civilization near the Pole.[16]
Composition and publication history[edit]
The first installment of a serialized version of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket was published in the Southern Literary Messenger in January 1837.
Poe had intended to collect a number of his early short stories into a volume titled Tales of the Folio Club in the 1830s.[60] The collection would be unified as a series of tales presented by members of a literary association based on the Delphian Club,[61] designed as burlesque of contemporary literary criticism.[62] Poe had previously printed several of these stories in the Philadelphia Saturday Courier and the Baltimore Saturday Visiter.[63]
An editor, James Kirke Paulding, tried to assist him in publishing this collection. However, Paulding reported back to Poe that the publishers at Harper & Brothers declined the collection, saying that readers were looking for simple, long works like novels. They suggested, «if he will lower himself a little to the ordinary comprehension of the generality of readers, and prepare… a single work… they will make such arrangements with him as will be liberal and satisfactory.»[64] They suggested «if other engagements permit… undertake a Tale in a couple volumes, for that is the magical number.»[65] The response from Harper & Brothers inspired Poe to begin a long work and began writing The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket.[66] Poe arranged with his boss at the Southern Literary Messenger to publish his novel in several serialized installments[29] at a pay rate of $3 per page.[67]
However, Poe retired from his role at the Messenger on January 3, 1837, as the installments were being published;[68] some scholars suggest he was fired and this led him to abandoning the novel.[3] His split with the Messenger began a «blank period» where he did not publish much and suffered from unemployment, poverty, and no success in his literary pursuits.[69] Poe soon realized writing a book-length narrative was a necessary career decision, partly because he had no steady job and the economy was suffering from the Panic of 1837.[29] He also set part of the story as a quest to Antarctica to capitalize the public’s sudden interest in that topic.[10]
After his marriage to Virginia Clemm, Poe spent the following winter and spring completing his manuscript for this novel in New York.[25] He earned a small amount of money by taking in a boarder named William Gowans.[70] During his fifteen months in New York, amidst the harsh economic climate, Poe published only two tales, «Von Jung, the Mystific» and «Siope. A Fable».[71] Harper & Brothers announced Poe’s novel would be published in May 1837, but the Panic forced them to delay.[72]
The novel was finally published in book form under the title The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket in July 1838, although it did not include Poe’s name and was instead presented as an account by Pym himself.[66] Poe excused the earlier serialized version by noting that the Messenger had mistakenly adapted it «under the garb of fiction».[73] As Harper & Brothers recommended, it was printed in two volumes. Its full subtitle was:
Comprising the Details of Mutiny and Atrocious Butchery on Board the American Brig Grampus, on Her Way to the South Seas, in the Month of June, 1827. With an Account of the Recapture of the Vessel by the Survivers; Their Shipwreck and Subsequent Horrible Sufferings from Famine; Their Deliverance by Means of the British Schooner Jane Guy; the Brief Cruise of this Latter Vessel in the Atlantic Ocean; Her Capture, and the Massacre of Her Crew Among a Group of Islands in the Eighty-Fourth Parallel of Southern Latitude; Together with the Incredible Adventures and Discoveries Still Farther South to Which That Distressing Calamity Gave Rise.[73]
The first overseas publication of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket appeared only a few months later when it was printed in London without Poe’s permission, although the final paragraph was omitted.[72] This early publication of the novel initiated British interest in Poe.[74]
Literary significance and reception[edit]
Contemporary reviews for The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket were generally unfavorable. Fifteen months after its publication, it was reviewed by Lewis Gaylord Clark, a fellow author who carried on a substantial feud with Poe. His review printed in The Knickerbocker[75] said the book was «told in a loose and slip-shod style, seldom chequered by any of the more common graces of composition.»[76] Clark went on, «This work is one of much interest, with all its defects, not the least of which is that it is too liberally stuffed with ‘horrid circumstances of blood and battle.‘«[75]
Many reviewers commented on the excess of violent scenes.[58] In addition to noting the novel’s gruesome details, a review in Burton’s Gentleman’s Magazine (possibly William Evans Burton himself) criticized its borrowed descriptions of geography and errors in nautical information. The reviewer considered it a literary hoax and called it an «impudent attempt at humbugging the public»[77] and regretted «Mr. Poe’s name in connexion with such a mass of ignorance and effrontery».[78] Poe later wrote to Burton that he agreed with the review, saying it «was essentially correct» and the novel was «a very silly book».[66]
Other reviews condemned the attempt at presenting a true story. A reviewer for the Metropolitan Magazine noted that, though the story was good as fiction, «when palmed upon the public as a true thing, it cannot appear in any other light than that of a bungling business—an impudent attempt at imposing on the credulity of the ignorant.»[79] Nevertheless, some readers believed portions of Poe’s novel were true, especially in England, and justified the absurdity of the book with an assumption that author Pym was exaggerating the truth.[80] Publisher George Putnam later noted that «whole columns of these new ‘discoveries’, including the hieroglyphics (sic) found on the rocks, were copied by many of the English country papers as sober historical truth.»[66]
In contrast, 20th-century Argentine writer Jorge Luis Borges, who admitted Poe as a strong influence,[81] praised the novel as «Poe’s greatest work».[82] He later included one of the species invented for the story in his dictionary of fantastical creatures, the Book of Imaginary Beings, in a chapter titled «an animal dreamt by Poe».[83] H. G. Wells noted that «Pym tells what a very intelligent mind could imagine about the south polar region a century ago».[84] Even so, most scholars did not engage in much serious discussion or analysis of the novel until the 1950s, though many in France recognized the work much earlier.[85] In 2013, The Guardian cited The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket as one of the 100 best novels written in English, and noted its influence on later authors such as Henry James, Arthur Conan Doyle, B. Traven and David Morrell.[86]
The financial and critical failure of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket was a turning point in Poe’s career.[43] For one, he was driven to literary duties that would make him money, notably his controversial role as editor of The Conchologist’s First Book in April 1839.[87] He also wrote a short series called «Literary Small Talk» for a new Baltimore-based magazine called American Museum of Science, Literature and the Arts.[88]
In need of work, Poe accepted a job at the low salary of $10 per week as assistant editor for Burton’s Gentleman’s Magazine,[89] despite their negative review of his novel. He also returned to his focus on short stories rather than longer works of prose; Poe’s next published book after this, his only completed novel, was the collection Tales of the Grotesque and Arabesque in 1840.[90]
Influence and legacy[edit]
Poe’s novel inspired later writers, including Jules Verne.
19th century[edit]
Scholars, including Patrick F. Quinn and John J. McAleer, have noted parallels between Herman Melville’s Moby-Dick and The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket and other Poe works. Quinn noted that there were enough similarities that Melville must have studied Poe’s novel and, if not, it would be «one of the most extraordinary accidents in literature».[91] McAleer noted that Poe’s short story «The Fall of the House of Usher» inspired «Ahab’s flawed character» in Moby-Dick.[92] Scholar Jack Scherting also noted similarities between Moby-Dick and Poe’s «MS. Found in a Bottle».[93]
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket became one of Poe’s most-translated works; by 1978, scholars had counted over 300 editions, adaptations, and translations.[94] This novel has proven to be particularly influential in France. French poet and author Charles Baudelaire translated the novel in 1857 as Les Aventures d’Arthur Gordon Pym.[95] Baudelaire was also inspired by Poe’s novel in his own poetry. «Voyage to Cythera» rewrites part of Poe’s scene where birds eat human flesh.[96]
French author Jules Verne greatly admired Poe and wrote a study, Edgar Poe et ses œuvres, in 1864.[97] Poe’s story «Three Sundays in a Week» may have inspired Verne’s novel Around the World in Eighty Days (1873).[98] In 1897, Verne published a sequel to The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket called An Antarctic Mystery.[99] Like Poe’s novel, Verne attempted to present an imaginative work of fiction as a believable story by including accurate factual details.[100] The two-volume novel explores the adventures of the Halbrane as its crew searches for answers to what became of Pym. Translations of this text are sometimes titled The Sphinx of Ice or The Mystery of Arthur Gordon Pym.
An informal sequel to The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket is the 1899 novel A Strange Discovery by Charles Romeyn Dake,[101] where the narrator, Doctor Bainbridge, recounts the story his patient Dirk Peters told him of his journey with Gordon Pym in Antarctica, including a discussion of Poe’s poem «The Raven».
20th century[edit]
Prince Amerigo in Henry James’s novel The Golden Bowl (1904) recalled The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket: «He remembered to have read as a boy a wonderful tale by Allan Poe … which was a thing to show, by the way, what imagination Americans could have: the story of the shipwrecked Gordon Pym, who … found … a thickness of white air … of the color of milk or of snow.»
Poe’s novel was also an influence on H. P. Lovecraft, whose 1936 novel At the Mountains of Madness follows similar thematic direction and borrows the cry tekeli-li or takkeli from the novel. Chaosium’s role-playing adventure Beyond the Mountains of Madness (1999), a sequel to Lovecraft’s novel, includes a «missing ending» of Poe’s novel, in which Pym encounters some of Lovecraft’s creatures at their Antarctic city.[102]
René Magritte’s 1937 painting Not to Be Reproduced depicts an 1858 French edition of Poe’s book in the lower right of the work.
Another French sequel was La Conquête de l’Eternel (1947) by Dominique André.
Georges Perec’s 1969 novel A Void, notable for not containing a single letter e, contains an e-less rewriting of Poe’s «The Raven» that is attributed to Arthur Gordon Pym in order to avoid using the two es found in Poe’s name.[103]
On May 5, 1974, author and journalist Arthur Koestler published a letter from reader Nigel Parker in The Sunday Times of a striking coincidence between a scene in Poe’s novel and an actual event that happened decades later:[104] In 1884, the yacht Mignonette sank, with four men cast adrift. After weeks without food, they decided that one of them should be sacrificed as food for the other three, just as in Poe’s novel. The loser was a young cabin boy named Richard Parker, coincidentally the same name as Poe’s fictional character. Parker’s shipmates, Tom Dudley and Edwin Stephens, were later tried for murder in a precedent-setting English common law trial, the renowned R v Dudley and Stephens.[105]
In Paul Theroux’s travelogue The Old Patagonian Express (1979), Theroux reads parts of The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket to Jorge Luis Borges. Theroux describes it in this book as being the «most terrifying» story he had ever read.
In Paul Auster’s City of Glass (1985), the lead character Quinn has a revelation that makes him think of the discovery of the strange hieroglyphs at the end of Poe’s novel.
In a 1988 Young All-Stars comic book written by Roy and Dann Thomas, Arthur Gordon Pym is a 19th-century explorer who discovered the lost Arctic civilization of the alien Dyzan. Pym goes on to become Jules Verne’s Captain Nemo, eventually sinking the RMS Titanic. This story also uses elements of Edward Bulwer-Lytton’s 1871 novel Vril.[106]
21st century[edit]
Yann Martel named a character in his Man Booker Prize-winning novel Life of Pi (2001) after Poe’s fictional character, Richard Parker.[107] Mat Johnson’s 2011 novel Pym, a satirical fantasy exploring racial politics in the United States, draws its inspiration from The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, and closely models the original.[108][109]
Funeral doom band Ahab based their 2012 album The Giant on The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket.
Notes[edit]
- ^ Cf. Claude Richard, notes on Arthur Gordon Pym, in Edgar Allan Poe…, coll. bouquins, p. 1328
- ^ Sova, 210
- ^ a b Meyers, 96
- ^ Tynan, Daniel. «J. N. Reynold’s Voyage of the Potomac: Another Source for The Narrative of Arthur Gordon Pym» from Poe Studies, vol. IV, no. 2, December 1971: 35–37.
- ^ Thomas & Jackson, 436
- ^ Standish, 88
- ^ Meyers, 255
- ^ Huntress, Keith (1944). «Another Source for Poe’s Narrative of Arthur Gordon Pym». American Literature. 16 (1): 19–25. doi:10.2307/2920915. JSTOR 2920915.
- ^ Sova, 58
- ^ a b Peeples, 56
- ^ The full title of Morrell’s work is Narrative of Four Voyages to the South Sea, North and South Pacific Ocean, Chinese Sea, Ethiopic and Southern Atlantic Ocean, Indian and Antarctic Ocean Comprising Critical Surveys of Coasts and Islands, with Sailing Directions, and an Account of Some New and Valuable Discoveries, including the Massacre Islands, where thirteen of the author’s crew were massacred and eaten by cannibals (cited by R. Asselineau, op. cit., p. 13)
- ^ Kennedy, 227
- ^ Roger Asselineau (op. cit., p. 15)
- ^ Rosenheim, Shawn James. The Cryptographic Imagination: Secret Writing from Edgar Poe to the Internet. Johns Hopkins University Press, 1997: 59. ISBN 978-0-8018-5332-6
- ^ Thomas & Jackson, 256
- ^ a b c Bittner, 132
- ^ Lease, Benjamin. That Wild Fellow John Neal and the American Literary Revolution. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1972: 91. ISBN 9780226469690)
- ^ Poe, Edgar Allan. The Works of Edgar Allan Poe. Vol. 3. New York, New York: W.J. Widdleton, 1849: 545. OCLC 38115823
- ^ Carlson, 213
- ^ Meyers, 100
- ^ Bittner, 90
- ^ Thomas & Jackson, 175–176
- ^ a b Sova, 162
- ^ Standish, 11
- ^ a b c d Poe, 72
- ^ Meyers, 10
- ^ Thomas & Jackson, 26
- ^ Meyers, 14
- ^ a b c Peeples, 55
- ^ Hutchisson, 74
- ^ Peeples, 61
- ^ Barth, John. «‘Still Farther South’: Some Notes on Poe’s Pym«, Poe’s Pym: Critical Explorations, Richard Kopley, editor. Durham, NC: Duke University Press, 1992: 228. ISBN 0-8223-1246-8
- ^ Rosenheim, Shawn James. The Cryptographic Imagination: Secret Writing from Edgar Poe to the Internet. Johns Hopkins University Press, 1997: 21–22. ISBN 978-0-8018-5332-6
- ^ a b Silverman, 474
- ^ a b Hoffman, 260
- ^ Meyers, 297–298
- ^ a b Bittner, 124
- ^ Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York: Alfred A. Knopf, 1926: 69–70.
- ^ Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe: A Study in Genius. New York: Alfred A. Knopf, 1926: 70.
- ^ Sova, 41
- ^ Kennedy, 245
- ^ Silverman, 135
- ^ a b c Peeples, 58
- ^ Silverman, 37
- ^ Prell, Donald. «The Sinking of the Don Juan«, Keats-Shelley Journal, Vol. LVI, 2007: 136–154
- ^ Hoffman, 263
- ^ Kennedy, 245–246
- ^ Peeples, 69–70
- ^ Kennedy, 243
- ^ Beaulieu, Elizabeth Ann. The Toni Morrison Encyclopedia. Westport, CT: Greenwood Press, 2003: 296. ISBN 0-313-31699-6
- ^ Kennedy, 244.
- ^ Mansbach, Adam. «Looking for Poe in Antarctica», The New York Times. March 4, 2011.
- ^ Hutchisson, 74–75
- ^ Hutchisson, 75
- ^ Peeples, 68
- ^ Hoffman, 271
- ^ Irwin, John T. The Mystery to a Solution. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996: 173. ISBN 0-8018-5466-0
- ^ a b Silverman, 137
- ^ Standish, 98
- ^ Thomas & Jackson, 127
- ^ * Hammond, Alexander (1972). «A Reconstruction of Poe’s 1833 ‘Tales of the Folio Club’: Preliminary Notes». Poe Studies (1971–1985). 5 (2): 25–32. doi:10.1111/j.1754-6095.1972.tb00190.x. JSTOR 45296608.
- ^ Silverman, 90
- ^ Meyers, 67
- ^ Thomas & Jackson, 192–193
- ^ Stashower, 104
- ^ a b c d Sova, 167
- ^ Silverman, 128
- ^ Thomas & Jackson, 237
- ^ Silverman, 129
- ^ Bittner, 128
- ^ Silverman, 131
- ^ a b Silverman, 133
- ^ a b Stashower, 105
- ^ Fisher, Benjamin F. «Poe in Great Britain», Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities, Lois Vines, editor. Iowa City: University of Iowa Press, 1999: 52. ISBN 0-87745-697-6
- ^ a b Moss, Sidney P. Poe’s Literary Battles: The Critic in the Context of His Literary Milieu. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1963: 89.
- ^ Stashower, 106
- ^ Silverman, 143
- ^ Silverman, 157
- ^ Thomas & Jackson, 258
- ^ Bittner, 133
- ^ Hutchisson, 145
- ^ Books.Google.com, read final page of preview
- ^ Borges, Jorge Luis (1969). Book of Imaginary Beings. Dutton. ISBN 9780525069904.
- ^ Frank, Frederick S. and Anthony Magistrale. The Poe Encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1997: 372. ISBN 978-0-313-27768-9
- ^ Sanborn, Geoffrey. «A confused beginning: The Narrative of Arthur Gordon Pym, of Nantucket«, as collected in The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, edited by Kevin J. Hayes. New York: Cambridge University Press, 2002: 171. ISBN 0-521-79727-6
- ^ McCrum, Robert (November 23, 2013). «The 100 best novels: No 10 – The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket by Edgar Allan Poe (1838)». The Guardian. Retrieved 2016-08-08.
- ^ Meyers, 106
- ^ Silverman, 137–138
- ^ Bittner, 145
- ^ Sova, 268
- ^ Quinn, Patrick F. «Poe’s Imaginary Voyage», Hudson Review, IV (Winter 1952), 585.
- ^ McAleer, John J. «Poe and Gothic Elements in Moby-Dick«, Emerson Society Quarterly, No. 27 (II Quarter 1962): 34.
- ^ Scherting, Jack. «The Bottle and the Coffin: Further Speculation on Poe and Moby-Dick«, Poe Newsletter, vol. I, no. 2, October 1968: 22.
- ^ Harvey, Ronald Clark. The Critical History of Edgar Allan Poe’s ‘The Narrative of Arthur Gordon Pym’: A Dialogue of Unreason. New York: Routledge, 1998: 42. ISBN 0-8153-3303-X
- ^ Standish, 111
- ^ Sova, 24
- ^ William Butcher, Jules Verne: The Definitive Biography, introduction by Arthur C. Clarke, Thunder’s Mouth Press, Avalon Publishing, New York, 2006. ISBN 978-1-56025-854-4. Discusses Verne’s article «Edgar Allan Poe and his Works» on pages 153, 208. The text of the article Edgar Poe et ses oeuvres is available at French e-text version
- ^ Sova, 238
- ^ Tresch, John. «Extra! Extra! Poe invents science fiction!» as collected in The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, edited by Kevin J. Hayes. New York: Cambridge University Press, 2002: 117. ISBN 0-521-79727-6
- ^ Poe, 73
- ^ Eco, Umberto. Six Walks in the Fictional Woods. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994: 7. ISBN 0-674-81050-3
- ^ Engan, Charles and Janyce. Beyond the Mountains of Madness. Oakland CA: Chaosium, Inc., 1999. pp.327-339. ISBN 1-56882-138-7.
- ^ Perec, Georges. A Void. Translated by Gilbert Adair. London: The Harvill Press, 1995. p.108. ISBN 1-86046-098-4
- ^ Plimmer, Martin (2005). Beyond Coincidence: Amazing Stories of Coincidence and the Mystery and Mathematics Behind Them. Thomas Dunne Books. p. 152. ISBN 978-0312340360. Retrieved 2015-02-19.
- ^ «The Ultimate Taboo». www.nytimes.com. Retrieved 2018-01-17.
- ^ Young All-Stars #16 (September 1988) The Dyzan Inheritance Book One: Leviathan
- ^ «Q and A With ‘Life of Pi’ Author». ABC News. 2006-01-06. Archived from the original on 2011-01-31. Retrieved 2018-01-17.
- ^ «Pym by Mat Johnson | Book review». Time Out Chicago. Retrieved 2018-01-17.
- ^ Johnson, Mat (2011-03-01). Pym: A Novel. Random House Publishing Group. ISBN 9780679603825.
References[edit]
- Bittner, William. Poe: A Biography. Boston: Little, Brown and Company, 1962.
- Carlson, Eric W. A Companion to Poe Studies. Westport, CT: Greenwood, 1996. ISBN 0-313-26506-2
- Hoffman, Daniel. Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1972. ISBN 0-8071-2321-8
- Hutchisson, James M. Poe. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2005. ISBN 1-57806-721-9
- Kennedy, J. Gerald. «Trust No Man: Poe, Douglass, and the Culture of Slavery», Romancing the Shadow: Poe and Race, J. Gerald Kennedy and Liliane Weissberg, editors. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-513711-6
- Meyers, Jeffrey. Edgar Allan Poe: His Life and Legacy. New York: Cooper Square Press, 1991. ISBN 0-8154-1038-7
- Peeples, Scott. Edgar Allan Poe Revisited. New York: Twayne Publishers, 1998. ISBN 0-8057-4572-6
- Poe, Harry Lee. Edgar Allan Poe: An Illustrated Companion to His Tell-Tale Stores. New York: Metro Books, 2008. ISBN 978-1-4351-0469-3
- Silverman, Kenneth. Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. New York: HarperPerennial, 1991. ISBN 0-06-092331-8
- Sova, Dawn B. Edgar Allan Poe: A to Z. New York: Checkmark Books, 2001. ISBN 0-8160-4161-X
- Standish, David. Hollow Earth: The Long and Curious History of Imagining Strange Lands, Fantastical Creatures, Advanced Civilizations, and Marvelous Machines Below the Earth’s Surface. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2006. ISBN 0-306-81373-4
- Stashower, Daniel. The Beautiful Cigar Girl: Mary Rogers, Edgar Allan Poe, and the Invention of Murder. New York: Dutton, 2006.0-525-94981-X
- Thomas, Dwight & David K. Jackson. The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe, 1809–1849. Boston: G. K. Hall & Co., 1987. ISBN 0-7838-1401-1
Further reading[edit]
- Almy, Robert F. «J. N. Reynolds: A Brief Biography with Particular Reference to Poe and Symmes», The Colophon 2 (1937): 227-245.
- Ricardou, John. «The Singular Character of the Water», English translation of a French analysis of the last part of Pym, Poe Studies, vol. VIII, no. 1, June 1976.
- Ridgely, J. V. «The Continuing Puzzle of Arthur Gordon Pym, Some Notes and Queries», Poe Newsletter, vol. III, no. 1, June 1970
- Sands, Kathleen. «The Mythic Initiation of Arthur Gordon Pym», Poe Studies, vol. VII, no. 1, June 1974
- Wells, Daniel A. «Engraved Within the Hills: Further Perspectives on the Ending of Pym», Poe Studies, vol. X, no. 1, June 1977: 13-15.
External links[edit]
- The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket at Project Gutenberg
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket public domain audiobook at LibriVox
- «The Strange Dis/Appearance of Arthur G. Pym» by the University of Virginia
- «Tekeli-li» or Hollow Earth Lives: A Bibliography of Antarctic Fiction compiled by Fauno Lancaster Cordes
Эдгар Аллан По
Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета
© Марков А. В., послесловие, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Сообщение Артура Гордона Пима
Содержащее подробности возмущения и жестокой резни на американском бриге «Грампус» в пути его к Южным морям, с рассказом о вторичном захвате корабля уцелевшими в живых; об их крушении и последующих ужасных страданиях от голода; о спасении их британской шхуной «Джэн Гай»; о кратком крейсеровании этого последнего судна в Полуденном океане; о захвате шхуны и избиении ее экипажа среди группы островов на 84-й параллели южной широты; о невероятных приключениях и открытиях еще дальше на юг, к коим привело это прискорбное злополучие.
Предуведомление
По моем возвращении несколько месяцев тому назад в Соединенные Штаты после необычайного ряда приключений в Южных морях и иных местах, о чем я рассказываю на последующих страницах, случай свел меня с обществом нескольких джентльменов в Ричмонде, в Виргинии, и они, сильно заинтересовавшись всем касательно областей, которые я посетил, настойчиво убеждали меня, что мой долг предоставить повествование мое публике. Я имел, однако, причины уклоняться от этого; некоторые из них были совершенно личного характера и не касаются никого, кроме меня самого, но были еще причины и другого свойства. Одно соображение, удерживавшее меня, было таково: не ведя дневника в продолжение большей части времени, когда я был в отсутствии, я боялся, что не смогу написать по памяти рассказа столь подробного и связного, чтобы он имел вид той правды, которая была в нем в действительности, и выкажу только естественное неизбежное преувеличение, к которому склонен каждый из нас, описывая происшествия, имевшие могущественное влияние на возбуждение наших способностей воображения. Другая причина была та, что происшествия, которые должно было рассказать, по природе своей были столь положительно чудесны, что я, ввиду неподдержанности моих утверждений никакими доказательствами, как это поневоле должно было быть (кроме свидетельств одного индивидуума, да и тот индеец смешанной крови), мог бы надеяться только на то, что мне поверят в моей семье и среди тех моих друзей, которые в продолжение целой жизни имели основание увериться в моей правдивости, но, по всей вероятности, большая публика стала бы смотреть на то, что я стал бы утверждать, просто как на наглую и простодушную выдумку. Недоверие к моим собственным способностям как писателя было со всем тем одной из главных причин, каковые мешали мне согласиться с уговариваниями моих советников.
Между теми джентльменами в Виргинии, которые выражали величайший интерес к моему рассказу, в особенности к той его части, которая относилась к Полуденному океану, был мистер По, недавно бывший издателем «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, печатаемого мистером Томасом В. Уайтом в городе Ричмонде.
Он очень советовал, вместе с другими, теперь же приготовить полный рассказ о том, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл публики, утверждая с полной правдоподобностью, что, несмотря на необработанность в чисто литературном отношении, с какой вышла бы в свет моя книга, самая ее неуклюжесть, ежели в ней есть таковая, придаст наибольшее вероятие тому, что ее примут за истину.
Несмотря на это увещание, я не мог настроить свой ум сделать так, как он мне советовал. Видя, что я не займусь этим, он предложил мне изложить своими собственными словами первую часть моих приключений по данным, сообщенным мною, и напечатать это в «Южном вестнике» под видом вымысла. Не имея против этого никаких возражений, я согласился, условившись только, что настоящее мое имя будет сохранено. Два выпуска мнимого вымысла появились последовательно в «Вестнике», в январе и феврале (1837), и для того, чтобы на это смотрели действительно как на вымысел, имя мистера По приложено было к очеркам в оглавлении журнала.
То, как принята была эта хитрость, побудило меня наконец предпринять правильное составление и печатание упомянутых повествований, ибо я нашел, что, несмотря на вид вымысла, каковой был так находчиво придан той части моего отчета, которая появилась в «Вестнике» (без изменения или искажения хотя бы одного случая), публика совсем не была расположена принять это как выдумку, и несколько писем было послано по адресу мистера По, которые ясно свидетельствовали об убеждении читателей в противном. Отсюда я заключил, что события и случаи моего повествования были такого свойства, что сами в себе имели достаточную очевидность их собственной достоверности, и, следовательно, я мог мало опасаться насчет недоверия публики.
Теперь когда все начистоту сказано, сразу будет видно, на что из последующего я притязаю как на мое собственное писание; и также будет понятно, что ни один случай не искажен в первых нескольких страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, которые не видали «Вестника», будет излишне указывать, где кончается его часть и начинается моя: разница в слоге будет вполне заметной.
А. Г. Пим
Нью-Йорк, июль, 1838
Глава первая
Мое имя Артур Гордон Пим. Мой отец был почтенным торговцем морскими материалами в Нантакете, где я родился. Дед мой по матери был стряпчим и хорошо вел дела, которых у него было достаточно. Он был счастлив во всем и совершил несколько удачных оборотов на акциях Эдгартонского нового банка, когда тот был только что основан. Этим способом и другими он скопил порядочную сумму денег. Ко мне он был привязан, как мне кажется, более, чем к кому-либо другому на свете, и я рассчитывал унаследовать большую часть его состояния после его смерти. Когда я был в возрасте шести лет, он отдал меня в школу старого мистера Риккетса, джентльмена с одной лишь рукой и чудаческими манерами, – он хорошо известен почти каждому, кто посетил Нью-Бедфорд. Я пробыл в его школе до шестнадцати лет и потом покинул его, чтобы перейти в школу мистера Э. Рональда, что на горе. Здесь я подружился с сыном мистера Барнарда, морского капитана, который обыкновенно совершал плавания на судах Ллойда и Реденбурга, – мистер Барнард также хорошо известен в Нью-Бедфорде, и я уверен, что у него есть родственные связи в Эдгартоне. Его сына звали Августом, он почти на два года был старше меня. Он совершил плавание с отцом на китобойном судне «Джон Дональдсон» и всегда рассказывал мне о своих приключениях в южном Тихом океане. Часто я отправлялся вместе с ним к нему на дом и оставался там целый день, а иногда и всю ночь. Мы спали в одной постели, и он мог быть уверен, что я не засну почти до рассвета, если он будет рассказывать мне истории о туземцах острова Тиниана и других местах, которые он посетил во время своих путешествий.
Под конец я не мог не быть захвачен тем, что он говорил, и мало-помалу чувствовал величайшее желание отправиться в море. У меня была парусная лодка, называвшаяся «Ариэль», стоимостью около семидесяти пяти долларов. Она имела полудек с коморкой и была оснащена на манер шлюпки – я забыл ее вместимость, но в ней могло бы поместиться до десяти человек без особой тесноты. На этой лодке мы имели обыкновение совершать безумнейшие в мире проделки; и когда я теперь о них думаю, мне кажется одним из величайших чудес, что я доныне нахожусь в живых.
Я расскажу одно из этих приключений как введение к более длинному и более серьезному повествованию. Однажды вечером у мистера Барнарда были гости, и мы оба, Август и я, порядочно выпили к концу вечера. Как обыкновенно в этих случаях, я предпочел разделить с ним его постель, нежели идти домой. Он уснул, как мне показалось, очень спокойно (было около часу, когда общество разошлось), не сказав ни слова на свою любимую тему. Могло пройти около получаса, как мы были в постели, и я только что стал погружаться в дремоту, как вдруг он вскочил и поклялся страшной клятвой, что не будет спать ни из-за какого Артура Пима во всем христианском мире, когда дует такой великолепный ветер с юго-запада. Никогда в жизни я не был столь удивлен, не зная, что он разумел, и думая, что вина и крепкие напитки, которые он выпил, совершенно вывели его из себя. Он продолжал говорить очень спокойно; он знает, сказал он, что я думаю, будто он пьян, но он никогда в жизни не был более трезв. Он только устал, прибавил он, лежать в постели в такую чудесную ночь, точно собака, и был твердо намерен встать, одеться и выехать на лодке повеселиться. Вряд ли смогу я сказать, что овладело мной, но не успели слова эти вылететь из его уст, как я почувствовал дрожь величайшего возбуждения и удовольствия, и его сумасшедшая затея показалась мне одной из самых чудесных и разумнейших вещей в мире. Ветер переходил почти в бурю, и погода была очень холодная – это было в конце октября. Тем не менее я вскочил с постели в некоторого рода восхищении и сказал ему, что я так же смел, как и он, так же, как и он, устал лежать в постели, точно собака, и готов на всякую веселую выдумку и забаву, как и какой-нибудь Август Барнард в Нантакете.
Эдгар По[править]
Повесть о приключениях Артура Гордона Пима из Нантукета,
в которой подробно описываются возмущение и жестокая резня на американском бриге «Грампус» в плавании к южным морям; вторичный захват корабля уцелевшими от резни; крушение и ужасные муки голода, постигшие экипаж; спасение его британской шхуной «Джэн Гай»; плавание этого судна в Антарктический океан; его плен и истребление экипажа на островах под 84® южной широты, а равно и невероятные приключения и открытия в дальнейшем плавании к югу, вызванные этим бедственным событием.
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837).
Перевод М. Энгельгардта (1896).
Предварительные замечания[править]
Возвратившись в Соединенные Штаты несколько месяцев тому назад после ряда необычайных приключений в Южном океане, изложенных на нижеследующих страницах, я познакомился в Ричмонде с кружком джентльменов, которые крайне заинтересовались всем, что я видел в посещенных мною странах, и настойчиво убеждали меня познакомить публику с моим путешествием. Однако разные причины удерживали меня от этого — причины частью личного свойства, касающиеся меня одного, частью иного рода. Между прочим останавливало меня следующее соображение: я не вел журнала в течение большей части путешествия и боялся, что не сумею составить по памяти отчет настолько подробный и связный, что он не только будет, но и покажется истинным, не считая, конечно, тех неизбежных и естественных преувеличений, от которых никто не убережется, излагая ряд событий, оказавших сильнейшее влияние на воображение рассказчика. Другое соображение было такого рода: мои приключения имеют до того чудесный характер, что, не подтвержденные свидетельскими показаниями (остался в живых только один свидетель, да и тот наполовину индеец), найдут доверие разве в моей семье и среди близких друзей, которым известна моя правдивость; публика же, по всей вероятности, сочтет мой рассказ только островной и бессовестной выдумкой. Но главной причиной, заставлявшей меня отклонять предложение приятелей, было недоверие к моим авторским способностям.
В числе джентльменов, заинтересовавшихся моим рассказом, в особенности той частью его, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, редактор «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом В. Уайтом в городе Ричмонде. Он настойчиво убеждал меня составить полный отчет обо всем мною виденном и испытанном, причем возлагал большие надежды на проницательность и здравый смысл публики, уверяя, что сами недостатки (в литературном отношении) моего рассказа придадут ему характер правдивости.
Несмотря на эти доводы, я все не мог решиться. Наконец видя, что со мной ничего не поделаешь, мистер По предложил следующую комбинацию: он сам составит отчет о первой части моих приключений на основании моего рассказа и напечатает его в «Южном вестнике» под видом вымысла. На это я не имел ничего возразить, оговорив только, чтобы мое настоящее имя было сохранено. Таким образом в январской и февральской книжках «Вестника» (1837) явились две главы этого якобы вымышленного рассказа, подписанного именем мистера По, чтобы усилить характер вымысла.
Прием, оказанный этой мистификации со стороны публики, побудил меня составить и напечатать подробное описание всех моих приключений. В самом деле, несмотря на сказочный характер, так искусно приданный первой части отчета, напечатанной в «Вестнике» (причем ни один факт не был искажен или изменен), публика отнюдь не оказалась склонной принимать его за сказку, и мистер По получил несколько писем, выражавших совершенно противоположное мнение. Отсюда я заключил, что факты, изложенные в рассказе, сами по себе представляются вероятными и что, следовательно, мне нечего бояться недоверия публики.
В заключение этого expose[1] замечу, что читатель сам увидит, где кончается труд мистера По и начинается мой рассказ. Прибавлю, что и в первых страницах, принадлежащих перу мистера По, нет ни одного вымышленного факта. Указывать же, где начинается мой рассказ, излишне: даже не читавшие «Вестника» увидят это по разнице в стиле.
А. Г. Пим.
Нью-Йорк, июль 1838 г.
ГЛАВА I[править]
Мое имя Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морским товаром в Нантукете, где я родился. Мой дед по матери был стряпчий с хорошей практикой. Он успешно вел свои дела и счастливо спекулировал с акциями Эдгартонского нового банка. Эти и другие аферы доставили ему порядочный капиталец. Ко мне он был привязан, кажется, больше, чем к кому бы то ни было, так что я мог надеяться получить в наследство большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он отправил меня в школу старика Рикхетса, однорукого джентльмена, большого чудака — его знают все, кому случалось бывать в Нью-Бедфорде. В его школе я оставался до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда. Тут я подружился с сыном мистера Барнарда, капитана корабля, совершавшего рейсы по делам торгового дома Ллойда и Вреденбурга. Мистер Барнард также хорошо известен в Нью-Бедфорде; знаю, что у него есть родственники в Эдгартоне. Его сын Август был двумя годами старше меня. Он плавал с отцом на китобое «Джон Дональдсон» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него, иногда оставался на целый день и даже на ночь. Мы спали в одной постели, и я не смыкал глаз до рассвета, когда бывало он начнет рассказывать о дикарях острова Тиниана и других мест, где побывал во время плавания. В конце концов я только и думал что о его рассказах, мало-помалу меня обуяла страсть к мореплаванию. Я приобрел за семьдесят пять долларов парусную лодку, называвшуюся «Ариэль». Она была с палубой и каюткой, оснащена как одномачтовое судно, вместимость ее я не помню, но на ней легко могло поместиться десять человек. В этой лодке мы предпринимали самые отчаянные вылазки, и, вспоминая о них, я только удивляюсь, каким чудом я остался жив.
Расскажу об одной такой вылазке в качестве предисловия к длинному и занимательному сообщению. Однажды вечером у мистера Барнарда собрались гости, и мы с Августом хватили по этому случаю лишнего. Как всегда в таких случаях я остался ночевать у него. Ложась спать (гости разошлись около часа ночи), он был, по-видимому, очень спокоен и ни единым словом не заикнулся о своей любимой теме. Прошло с полчаса, я уже стал забываться сном, как вдруг он вскочил и со страшным ругательством поклялся, что никакие Артуры Гордоны в мире не заставят его спать при таком чудесном юго-западном ветре. Я изумился как никогда в жизни, не понимая, о чем он толкует, и подумал, что он просто не помнит себя от вина и водки. Но он очень спокойно заметил, что напрасно я принимаю его за пьяного, что, напротив, никогда в жизни он не был трезвее. Ему только надоело валяться, как собаке, на постели в такую прекрасную ночь, и потому он намерен встать, одеться и покататься на лодке. Не понимаю, что со мной сделалось, но, услыхав эти слова, я так и вздрогнул от радости: его безумная выдумка показалась мне самой разумной и счастливой мыслью. Дул почти ураган, погода стояла холодная: дело было в конце октября. Тем не менее я вскочил с постели, как ужаленный, в каком-то экстазе, и объявил, что я не трусливее его, что мне тоже надоело валяться, как собаке, на постели, и что я также готов на какие угодно выходки и проделки, как любой Август Барнард в Нантукете.
Мы живо оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старой ветхой пристани, близ верфи «Панки и К®», стукаясь о тяжелые бревна. Август вскочил в нее и принялся вычерпывать воду, которая наполняла лодку почти до половины. Покончив с этим, мы подняли кливер и грот и смело пустились в море.
Как я уже упомянул, дул сильный ветер с юго-запада. Ночь была ясная и холодная. Август поместился у руля, а я на палубе подле мачты. Мы неслись стремглав и еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как оставили верфь. Наконец я спросил своего товарища, куда он думает направиться и когда мы вернемся. Он посвистал и ответил сварливым тоном:
— Я направлюсь в открытое море, а ты можешь, если угодно, вернуться домой.
Взглянув на него, я тотчас убедился, что, несмотря на кажущееся безразличие, он находился в сильнейшем возбуждении. Я ясно видел при свете луны, что лицо его белее мрамора и руки дрожат до того, что руль почти не слушается их. Я понял, что дело неладно, и не на шутку встревожился. В то время я еще плохо управлял лодкой и всецело зависел от искусства моего товарища. Ветер как назло усилился, а мы уже вышли почти в открытое море; но я все-таки не хотел выказать трусость и с полчаса еще хранил молчание. Наконец, однако, не выдержал и скачал Августу, что пора бы нам вернуться домой. Как и раньше, он не сразу ответил.
— Поспеем, — пробормотал он, наконец, — время есть… домой поспеем.
Я ожидал подобного ответа, но в тоне его слов было что-то особенное, отчего мороз пробежал у меня по телу. Я пристально посмотрел на Августа. Губы его посинели, колени дрожали так, что он вряд ли мог стоять.
— Ради Бога, Август, — воскликнул я, не на шутку перепуганный, — что с тобой? В чем дело? Что ты?
— Дело! — пробормотал он с изумлением, выпуская руль и падая на дно лодки. — Дело? Ничего — ладно — сам видишь… едем д… д… домой!
Тут мне разом все стало ясно. Я кинулся к нему, приподнял его. Он был пьян, пьян в стельку — не мог ни стоять, ни говорить, ни видеть. Глаза его были совсем стеклянные; и когда я в отчаянии выпустил его, он покатился, как чурбан в воду, на дно лодки. Очевидно, он выпил вечером гораздо больше, чем я думал, и его поведение в постели было результатом той степени опьянения, когда, как при некоторых формах помешательства, человек внешне вроде бы владеет собой и действует сознательно. Холодный ночной воздух произвел свое обычное действие — нервное возбуждение улеглось и смутное сознание опасности, без сомнения, ускорило катастрофу. Теперь он лежал без чувств и, по всей вероятности, должен был пролежать так несколько часов.
Вряд ли можно себе представить мой ужас. Винные пары окончательно улетучились, но тем сильнее было мое смятение и испуг. Я знал, что мне не справиться с лодкой и что бурный ветер и отлив, влекут нас к гибели. Надвигалась буря; у нас не было ни компаса, ни провизии, и если не изменить курс, мы должны будем к утру потерять из виду землю. Эти мысли и рой других, Не менее страшных, с быстротой молнии проносились в моей голове и в первые минуты совершенно парализовали меня. Лодка бешено мчалась, рассекая волны с раздутыми парусами, зарываясь носом в пену. Решительно не понимаю, как она не перевернулась: Август, как я уже сказал, бросил руль, а я был в таком волнении, что не думал за него взяться. К счастью, лодка устояла, а я понемногу овладел собой. Ветер, однако, крепчал с каждой минутой; и всякий раз, как мы рассекали носом волну, она обрушивалась на корму и заливала нас целым потоком. Я до такой степени окоченел, что почти потерял способность чувствовать. Наконец во мне проснулась решимость отчаяния, и, бросившись к мачте, я отпустил парус. Как и следовало ожидать, он вылетел за борт и, намокнув в воде, сломал и утащил за собой мачту. Это обстоятельство спасло нас от неминуемой гибели. С одним кливером я лавировал кое-как против ветра, подвертываясь иногда под вал, но, по крайней мере, избавившись от страха немедленной смерти. Я взялся за руль и стал дышать свободнее, видя, что еще остается надежда на спасение. Август по-прежнему лежал на дне; видя, что ему угрожает опасность захлебнуться, так как вода стояла почти на целый фут, я кое-как приподнял его и, обвязав веревкой вокруг талии, прикрепил другой конец к рым-болту на палубе.
Сделав все необходимое, как умел и насколько позволяло мне мое волнение и окоченевшие руки, я поручил свою участь Богу и решился перенести все, что случится, с твердостью, на какую только был способен.
Внезапно громкий протяжный вопль, точно вырвавшийся из глоток тысячи демонов, наполнил пространство. В жизни не забуду смертельного ужаса, который охватил меня в эту минуту. Волосы мои встали дыбом, кровь застыла в жилах, сердце замерло, и, не успев оглянуться и определить причину этого шума, я повалился без чувств на тело моего товарища.
Очнувшись, я оказался в каюте большого китобойного судна «Пингвин», шедшего в Нантукет.
Несколько человек стояли надо мной; Август, бледный, как смерть, растирал мне руки. Увидев, что я открыл глаза, он разразился бурными восклицаниями восторга и благодарности, вызвавшими смех и слезы среди окружавших меня с виду грубых людей. Вскоре я узнал обстоятельства нашего спасения. На нас налетел корабль, шедший в Нантукет под всеми парусами, какие только можно было распустить при такой погоде. Матросы заметили нашу лодку, но слишком поздно; их-то крик и испугал меня так страшно. Огромный корабль прошел над нами так же легко, как наша лодка прошла бы над перышком. Ни единого крика не раздалось с лодки; послышался только легкий скрип, сливавшийся с ревом ветра и волн, когда наше легкое суденышко нырнуло в воду и прошло под килем своего губителя, больше ничего. Думая, что наша лодка (на которой не видно было мачты) случайно оторвалась от пристани, капитан (Е. Т. Блок из Нью-Лондона) хотел продолжать путь, не придав значения этому случаю. К счастью, двое матросов божились, что заметили в лодке человека, и доказывали, что его еще можно спасти. Возникли препирательства. Блок рассердился и заметил, что «ему нет дела до яичной скорлупы, что корабль он не будет останавливать ради всякого вздора, что коли человек тонет, так, значит, он сам того хотел; и, черт его дери, пусть себе тонет». Но тут вмешался его помощник Гендерсон, справедливо возмутившийся, как и весь экипаж, таким бессердечием. Чувствуя за собой поддержку, он решительно объявил капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не послушается, хотя бы его повесили на берегу. Высказав это, он прошел на корму, толкнув Блока (который побледнел и молча отвернулся), и, схватив руль, скомандовал твердым голосом: «Становись под ветер!» Люди бросились по местам, и корабль круто повернул. Все это длилось минут пять, так что почти не оставалось надежды на спасение людей, бывших в лодке, если предположить, что в ней были люди. Тем не менее, как уже известно читателю, и я, и Август были спасены благодаря двум счастливым случайностям, почти непостижимым, какие приписываются благочестивыми и мудрыми людьми вмешательству Провидения. Пока корабль поворачивался, Гендерсон велел спустить лодку и соскочил в нее с двумя матросами, видевшими в лодке людей. Лишь только они отчалили от корабля с подветренной стороны, корабль сильно накренился к ветру, и Гендерсон, вскочив, крикнул своим матросам: «Греби назад!» Он ничего не прибавил к этому и только кричал: «Греби назад! Греби назад!» Матросы изо всех сил налегли на весла, но в это время корабль повернулся и быстро двинулся вперед, хотя экипаж торопился убрать паруса. Помощник, несмотря на всю опасность этой попытки, ухватился за ванпутенсы на борту судна. Корабль снова качнуло так, что правая сторона обнаружилась почти до киля, — тут выяснилась причина криков Гендерсона. На гладком и блестящем дне корабля (он был обшит медью) виднелась человеческая фигура, повисшая самым странным образом и бившаяся о корпус корабля при каждом его движении. После нескольких неудачных попыток в те минуты, когда корабль накренялся, и с риском потопить лодку, я был освобожден из своего опасного положения и поднят на корабль. Оказалось, что гвоздь, выдававшийся из корпуса корабля, зацепил меня в то время, когда мое тело проходило под килем. Шляпка гвоздя прорвала воротник моей зеленой байковой куртки и зацепила меня за шею, пройдя между двумя сухожилиями, как раз под правым ухом. Меня тотчас уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. На корабле не было медика. Капитан, однако, отнесся ко мне очень внимательно, вероятно, желая загладить в глазах экипажа свое жестокое поведение.
Тем временем Гендерсон снова отчалил от корабля, хотя ветер превратился в настоящий ураган. Вскоре он увидел обломки лодки, а одному из матросов послышался крик о помощи среди завываний бури. Это побудило смелых моряков продолжать свои поиски в течение получаса, хотя капитан Блок несколько раз давал им сигнал вернуться, а хрупкое суденышко ежеминутно подвергалось страшной опасности. В самом деле, трудно понять, как могла уцелеть такая маленькая лодочка. Впрочем, она предназначалась для охоты на китов и, как я узнал потом, была устроена наподобие спасательных лодок в Уэльсе, то есть имела отделения, наполненные воздухом.
Видя, что поиски остаются тщетными, моряки решили вернуться. Но в эту самую минуту послышался слабый крик, и мимо них мелькнула какая-то черная масса; они погнались за ней и поймали ее. Это была палуба «Ариэля». Август бился подле нее, по-видимому, в смертельных муках, Схватив его, они убедились, что он привязан к палубе веревкой. Если припомнит читатель, это я привязал его к рым-болту, чтобы поддержать в сидячем положении, — в результате моя выдумка спасла ему жизнь. «Ариэль» был сколочен кое-как и, попав под корабль, разбился на куски; палуба оторвалась от остова лодки и всплыла (как и остальные обломки, без сомнения) на поверхность. Август всплыл вместе с ней и таким образом ускользнул от гибели.
Спустя более часа после того, как его подняли на корабль, Август пришел наконец в себя и понял, что случилось с лодкой. Он помнил, что пришел в себя под водой, где вертелся с поразительной быстротой, чувствуя, что какая-то веревка обматывается вокруг его шеи. Минуту спустя он понял, что быстро поднимается наверх, но тут голова его стукнулась обо что-то жесткое, и он снова потерял сознание. Затем опять очнулся, и тут уже мысли его несколько прояснились, хотя все еще оставались смутными и туманными. Он понимал теперь, что случилось какое-то несчастье и что он находится в воде, хотя рот его оказался на поверхности и он мог дышать довольно свободно. Вероятно, в эту минуту палуба неслась по ветру, увлекая его за собой, причем он лежал на спине. В этом положении он, конечно, не мог утонуть. Но вот волна бросила его на палубу, за которую он и уцепился с криком о помощи. За минуту перед тем как мистер Гендерсон увидел его, он выпустил палубу и скатился в море, считая себя погибшим. Все это время он ни разу не вспомнил ни об «Ариэле», ни об обстоятельствах, приведших к этому несчастью. Смутное чувство ужаса и отчаяния всецело овладело его душой. Когда наконец он был вытащен из воды, сознание снова оставило его, и только через час он опомнился. Что касается меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничившего со смертью (и то лишь через три с половиной часа после того, как все средства были перепробованы) посредством сильного растирания фланелью с горячим маслом: средство, рекомендованное Августом. Рана на моей шее, хотя и ужасная с виду, оказалась неопасной и скоро зажила.
«Пингвин» вошел в гавань около девяти часов утра, выдержав сильнейший шквал, какой когда-либо случался близ Нантукета. Мы с Августом явились в дом мистера Барнарда как раз к завтраку, который, к счастью для нас, запоздал благодаря вчерашней попойке. Кажется, присутствовавшие были слишком утомлены, чтобы обратить внимание на наш изможденный вид, который бросился бы в глаза при мало-мальски внимательном наблюдении. Впрочем, школьники — истинные виртуозы по части обмана, и вряд ли кому-нибудь из наших нантукетских друзей пришло в голову, что ужасная история, о которой рассказывали в городе матросы, потопившие будто бы целый корабль с экипажем человек в тридцать-сорок, имела какое-либо отношение к «Ариэлю», ко мне или к моему спутнику. Мы же часто говорили об этом происшествии, но не могли вспоминать о нем без ужаса. Август откровенно сознался, что никогда в жизни не испытывал такого адского чувства, какое испытал в нашей маленькой лодочке в ту минуту, когда понял степень своего опьянения и убедился, что не справится с ним.
ГЛАВА II[править]
Можно было бы думать, что катастрофа, о которой я только что рассказал, охладит мою едва зародившуюся страсть к морю. Напротив, никогда еще я не испытывал такой жажды к приключениям, которыми полна жизнь моряка, как спустя неделю после нашего чудесного избавления. Этот короткий период времени оказался совершенно достаточным, чтобы изгладить из моей памяти мрачные и осветить самым ярким светом увлекательные и живописные стороны нашего опасного предприятия. Наши беседы с Августом каждый день становились оживленнее и интереснее. Его рассказы о морских приключениях (теперь я подозреваю, что добрая половина их была чистым враньем) действовали возбуждающим образом на мой восторженный темперамент и мое мрачное, но пылкое воображение. Как это ни странно, но именно картины ужасных страданий и отчаяния всего сильнее разжигали мою страсть. Светлая сторона жизни моряка не особенно трогала меня. Я только и бредил кораблекрушениями и голодом, смертью или пленом у варварских племен, жизнью, полной горя и слез на какой-нибудь пустынной скале, затерянной в безбрежном, неведомом океане. Подобные грезы или желания, свойственны, как я убедился впоследствии, всем вообще меланхоликам; но в то время я принимал их за пророческие указания судьбы, которые мне надлежит выполнить. Август вполне разделял мой образ мыслей. По всей вероятности, наша тесная дружба до известной степени сроднила наши характеры.
Спустя полтора года после катастрофы с «Ариэлем» фирма «Ллойд и Вреденбург» (кажется, находившаяся в связи с домом Эндерби в Ливерпуле) занялась починкой и снаряжением брига «Грампуса» для ловли китов. Это была старая ветхая посудина, почти негодная для плавания даже после починки. Не знаю, почему именно это судно выбрали вместо хороших, новых судов, принадлежащих тем же владельцам. Мистер Барнард был назначен капитаном, Август отправлялся вместе с ним. Пока шла починка, он не раз уговаривал меня воспользоваться этим прекрасным случаем удовлетворить мою страсть к путешествиям. Я-то был не прочь, но устроить это дело оказалось нелегко. Отец мой не высказывался решительно против путешествия; но с матерью начиналась истерика всякий раз, как речь заходила об этом плане; а главное, дедушка, от которого я ждал таких великих и богатых милостей, поклялся, что не оставит мне ни гроша, если я только заикнусь еще раз о своем намерении. Впрочем, эти затруднения не могли поколебать мое решение, напротив — только подливали масла в огонь. Я решил отправиться во что бы то ни стало и, сообщив об этом Августу, обсудил вместе с ним способ осуществления моих желаний. В то же время я перестал говорить с родными о путешествии и так усердно предался обычным занятиям, словно и думать забыл о своем плане. Впоследствии я не раз с неудовольствием и удивлением вспоминал о моем тогдашнем поведении. Только жгучее, неутолимое желание осуществить наконец давно лелеянную мечту могло побудить меня на такое глубокое лицемерие, — лицемерие, пронизывавшее все мои слова и действия в течение столь долгого времени.
Вознамерившись обмануть родных, я, понятное дело, должен был предоставить многое Августу, который постоянно бывал на «Грампусе», устраивая каюту для отца и трюм. По вечерам мы сходились и толковали о своих надеждах. Так прошло около месяца, а мы еще не придумали никакого путного плана. Наконец он объявил мне, что нашел способ уладить дело. У меня был родственник в Нью-Бедфорде, некий мистер Росс, в доме которого я гостил иногда по две, по три недели. Бриг должен был отплыть в половине июня (1827), и вот мы решили, что за день или за два до отплытия мой отец получит записку от мистера Росса с приглашением мне приехать недели на две к Роберту и Эммету — его сыновьям. Август взялся написать и доставить эту записку. Затем вместо того, чтобы ехать в Нью-Бедфорд, я отправлюсь к моему товарищу, который спрячет меня на «Грампусе». Он обещал снабдить мое убежище всем необходимым для того, чтобы с удобством провести в нем несколько дней, в течение которых мне нельзя будет показаться на палубе. Когда бриг отойдет от берега настолько, что уже нельзя будет вернуться, я водворюсь в каюте; что касается отца Августа, — говорил мой приятель, — то он только посмеется этой шутке. Затем с каким-нибудь встречным кораблем можно будет послать письмо моим родителям с объяснением всего случившегося.
Наконец наступила середина июня; все было приготовлено, записка написана, доставлена по адресу, и однажды утром в понедельник я вышел из дома, направляясь якобы на нью-бедфордский пакетбот. Август поджидал меня на углу улицы. Решено было, что я спрячусь где-нибудь до вечера и только с наступлением темноты проскользну на бриг. Но мы решили, что это можно сделать сейчас же, так как нам благоприятствовал густой туман. Август пошел на пристань, а я следовал за ним на некотором расстоянии, завернувшись в толстый матросский плащ, который он захватил для меня. Только что мы свернули за угол за колодцем мистера Эдмунда, как передо мной очутился, глядя на меня во все глаза, — кто бы вы думали? — сам старый мистер Петерсон, мой дедушка!
— Господи Боже мой, Гордон! — сказал он после некоторой паузы. — Что это? Что это такое? С какой стати ты нарядился в эту грязную хламиду?
— Сэр, — отвечал я, принимая вид негодующего изумления и стараясь говорить самым грубым голосом, — вы жестоко ошибаетесь, во-первых, мое имя вовсе не Гордон, а во-вторых, как ты смеешь, старый бродяга, называть мое новое пальто грязной хламидой?
Не могу вспомнить без смеха, какое курьезное действие произвела эта милая реплика на старого джентльмена. Он отступил шага на два или на три, побледнел, потом побагровел, сдернул с носа очки, опять надел их и кинулся на меня, замахнувшись зонтиком. Но тут же опомнился, повернулся и поплелся по улице, трясясь от злобы и бормоча себе под нос:
— Никуда не годятся… Новые очки… Думал, Гордон… Проклятый морской волк.
Счастливо избежав опасности, мы продолжали путь с большой осторожностью и благополучно добрались до места назначения. На корабле оказалось всего несколько матросов, да и те были заняты на баке. Капитан Барнард, как нам было известно, находился в конторе «Ллойд и Вреденбург», где должен был остаться до позднего вечера, так что с этой стороны нам не угрожала никакая опасность. Август первый поднялся на палубу, а за ним последовал и я, незамеченный матросами. Мы тотчас же спустились в каюту, которая оказалась пустой. Помещения на бриге были устроены очень комфортабельно, даже роскошно для китобойного судна. Тут были четыре офицерских каюты с широкими и удобными кроватями. Я заметил также прекрасный камин; полы в капитанской и офицерских каютах были устланы толстыми дорогими коврами. Высота кают была не менее семи футов. Словом, все оказалось гораздо удобнее и лучше, чем я ожидал. Август, впрочем, не позволил мне долго прохлаждаться, заметив, что нужно спрятаться как можно скорей. Он провел меня в свою каюту на левой стороне брига. Войдя, он запер за собою дверь на ключ. Мне казалось, что я никогда еще не видал такой чудесной комнатки. Она имела десять футов в длину. В ней находилась только одна кровать — большая и удобная, как те, что я видел раньше; стол, стул и висячая полка с книгами, преимущественно по морской части. Кроме того, было много других мелочей, между прочим, и шкафик или погребец с разными разностями по съестной и питейной части.
Август надавил пальцами одно место на ковре, под которым кусок пола был вырезан, а затем вложен обратно. Когда Август нажал этот квадрат, он приподнялся так, что можно было засунуть палец между ним и полом. Таким образом можно было поднять трап (ковер был прибит к нему гвоздиками) и спуститься в трюм. Август зажег спичкой маленькую восковую свечку, вставил ее в потайной фонарь и спустился в трап, сказав мне, чтобы я следовал за ним. Я повиновался, и он закрыл за нами крышку при помощи гвоздя, вбитого с нижней стороны; ковер, разумеется, занял свое прежнее положение на полу и таким образом всякие следы отверстия исчезли.
Фонарик бросал такой слабый свет, что я с трудом пробирался среди всевозможного хлама. Мало-помалу, однако, глаза мои освоились с окружающим полумраком, и я пошел смелее, держась за моего товарища. Наконец, после продолжительной ходьбы по лабиринту бесчисленных узких проходов он привел меня к окованному железом ящику вроде тех, которые употребляются иногда для упаковки дорогого фаянса. Он был в четыре фута высотой, в шесть длиной, но очень узок. На нем стояли два больших пустых бочонка из-под масла, а сверху лежали циновки, нагроможденные до самого потолка. Кругом были навалены всевозможные вещи, корабельные припасы, корзины, коробы, бочки, тюки, так что я решительно не понимал, как мы ухитрились добраться до ящика. Впоследствии я узнал, что Август нарочно нагружал этот трюм, желая устроить для меня надежное Убежище, и в этом помогал ему только один человек, который должен был остаться на берегу.
Мой друг указал мне, что стенка на одном конце ящика вынималась. Он вынул ее, и я с большим удовольствием увидел свое убежище. Дно ящика было прикрыто матрацем, взятым с одной из кроватей в каюте, кроме того, тут были различные запасы, какие только оказалось возможным поместить в таком маленьком пространстве, где я все-таки мог сидеть или вытянуться во всю длину. В числе прочих вещей тут было несколько книг, перо, чернила, бумага, три одеяла, большая кружка воды, бочонок морских сухарей, три или четыре больших болонских колбасы, огромный окорок, кусок холодной баранины и полдюжины бутылок с вином. Я немедленно расположился в своей маленькой квартирке и уж конечно с большим удовольствием, чем любой монарх располагался когда-нибудь в новом дворце. Август объяснил мне, как пользоваться задвигающейся стенкой ящика и, подняв к потолку фонарик, показал протянутую под потолком черную веревку. Эта веревка проходила от моего убежища по всем проходам к гвоздю в люке. Посредством этой веревки я мог добраться до люка без всякой помощи с его стороны, если б какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему вывести меня. Затем он ушел, оставив мне фонарь с порядочным запасом свечей и спичек и обещал приходить ко мне, как только представится возможным сделать это незаметно. Это происходило 17 июня. Я оставался в своей конурке три дня и три ночи (по приблизительному расчету) почти безвыходно, — вылез только раза два, чтобы немножко поразмять члены. В течение этого периода я ни разу не видел Августа, но не особенно беспокоился по этому поводу, зная, что бриг может с минуты на минуту сняться с якоря и что в суматохе отъезда моему другу трудно найти удобный случай пробраться ко мне. Наконец я услышал, как люк отворился и снова захлопнулся, и Август вполголоса спросил меня, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь.
— Ничего не нужно, — отвечал я, — мне отлично: скоро ли бриг снимется с якоря?
— Через полчаса, не больше, — отвечал он. — Я зашел известить тебя об этом и предупредить, чтобы ты не тревожился моим отсутствием. Мне нельзя будет навещать тебя… может быть, дня три или четыре. Наверху все в порядке. Когда я уйду и закрою люк, проберись к нему по веревке, ты найдешь мои часы на гвозде. Они пригодятся тебе — ведь ты не можешь следить за временем. Я уверен, что ты не знаешь, сколько времени провел в этой норе — всего три дня — сегодня у нас двадцатое. Я бы сам принес тебе часы, да боюсь, меня того и гляди хватятся.
С этими словами он ушел. Час спустя я заметил, что бриг движется, и поздравил себя с началом путешествия. Довольный этим, я решился выжидать спокойно, пока естественный ход событий не позволит мне променять этот ящик на более просторное, хотя вряд ли более удобное помещение в каюте. Прежде всего я позаботился достать часы. Зажегши свечку, я пробрался с помощью веревки по бесчисленным извилинам, причем несколько раз убеждался, что пройдя изрядное пространство, оказывался шага на два, на три позади того места, где был раньше. Наконец я добрался до гвоздя, взял часы и благополучно вернулся на прежнее место. Затем я рассмотрел книги, так предупредительно оставленные мне Августом, и выбрал путешествие Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Я читал несколько времени, но вскоре стал дремать и, погасив свечку, заснул спокойным сном.
Проснувшись, я не сразу опомнился и сообразил, где нахожусь. Мало-помалу, однако, я вспомнил все, зажег свечку и посмотрел на часы, но они остановились, и я не мог определить, сколько времени длился мой сон. Мои члены совсем онемели, так что пришлось вылезти из ящика и поразмяться. Почувствовав внезапно волчий аппетит, я вспомнил о баранине, которую уже пробовал раньше и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я убедился, что она совершенно протухла. Это обстоятельство не на шутку встревожило меня, так как, сопоставляя его с расстройством мыслей в первые минуты пробуждения, я начинал думать, что проспал очень долго. Может быть, это зависело отчасти от удушливой атмосферы трюма, которая в конце концов могла привести к самым печальным последствиям. Голова моя жестоко болела; дышал я с трудом, и меня осаждали самые мрачные мысли. Тем не менее я не решился поднять тревогу, ограничился тем, что завел часы, и покорился судьбе.
В течение следующих томительных суток никто не явился ко мне на помощь, и я не мог не обвинять Августа в грубой небрежности. Больше всего тревожил меня недостаток воды: в кружке оставалось не более полупинты, а меня томила жестокая жажда, так как приходилось питаться колбасой. Я чувствовал себя очень скверно и решительно не мог читать. Меня клонило ко сну, но я боялся заснуть, думая, нет ли в спертом воздухе трюма какого-нибудь ядовитого начала вроде угара. Между тем качка корабля показывала мне, что мы уже находимся в открытом море, а глухой гул свидетельствовал о сильном ветре. Я не мог объяснить себе отсутствие Августа. Без сомнения, мы отплыли уже так далеко, что я мог бы выйти. Очевидно, что-нибудь случилось с ним, но я не мог себе представить никакой причины, которая заставила бы его так долго держать меня в заключении, Разве только он скоропостижно скончался или упал за борт. Но ум отказывался верить этому. Может быть, противный ветер задерживал нас поблизости от Нантукета. Но и это предположение не выдерживало критики, потому что в таком случае бриг накренялся бы в разные стороны, между тем он все время шел, наклонившись вправо, следовательно, под ветром слева кормы. Притом, если даже мы находились поблизости от нашего острова, почему Август не зашел уведомить меня об этом? Раздумывая таким образом о своем одиноком и безутешном положении, я решил подождать еще сутки, а затем, если помощи не будет, пробраться к люку и либо вступить в переговоры, либо, по крайней мере, подышать свежим воздухом и раздобыть воды в каюте. Обдумывая это решение, я несмотря на все старание не спать погрузился в глубокий сон или, скорее, оцепенение. Я видел самые ужасные сны. Всевозможные бедствия и ужасы обрушивались на меня. Между прочим мне чудилось, будто меня душат огромными подушками какие-то безобразные и свирепые демоны. Чудовищные змеи обвивались вокруг меня и пристально смотрели мне в лицо своими зловещими сверкающими глазами. Безграничные, безотрадные, мрачные пустыни расстилались вокруг меня. Огромные стволы серых голых деревьев тянулись бесконечными рядами всюду, куда хватал глаз. Их корни исчезали в черных неподвижных и мрачных водах безбрежного болота. Эти странные деревья казались одаренными человеческой жизнью и, размахивая своими голыми ветвями, молили о пощаде безмолвные воды жалобными голосами, полными муки и отчаяния. Сцена изменилась: я стоял нагой и одинокий на жгучем песке Сахары. У ног моих лежал скорчившись свирепый тропический лев. Вдруг его дикие глаза открылись и уставились на меня. Судорожным прыжком он вскочил на ноги и оскалил свои страшные зубы. В ту же минуту из его багровой глотки вырвался рев, подобный грому небесному, и я упал на землю. Задыхаясь в пароксизме ужаса, я наконец очнулся. Нет, это не был только сон. Теперь я владел своими чувствами. Лапы какого-то громадного зверя давили мою грудь, его жаркое дыхание касалось моего лица, страшные белые клыки блестели во мраке. Если бы даже тысяча жизней зависела от одного моего движения или слова, я не мог бы ни пошевелиться, ни крикнуть. Чудовище оставалось в одном и том же положении, не проявляя никаких враждебных намерений, а я лежал под ним беспомощный и, как мне казалось, на волоске от смерти. Я чувствовал, что душевные и телесные силы оставляют меня, что я гибну и гибну просто от страха. Мой разум мешался, смертная тоска овладела мною, в глазах темнело, даже огненные зрачки чудовища потускнели. Сделав страшное усилие, я обратился с молитвой к Богу и приготовился к смерти. Звук моего голоса, по-видимому, разбудил бешенство зверя. Он кинулся на мое тело и, к величайшему моему изумлению, принялся лизать мое лицо и руки с глухим и тихим визгом, со всеми признаками радости и нежности! Я был поражен, ошеломлен, но не мог не узнать особенный визг моего ньюфаундленда Тигра и его манеру ласкаться. Это был он. Кровь разом прихлынула к моим вискам, невыразимое одуряющее чувство избавления и возрождения овладело мной. Я быстро приподнялся на матраце, обвил руками шею моего верного спутника и друга, и тяжесть, так долго угнетавшая мое сердце, разрешилась потоком жарких слез.
Как и в прошлый раз, мои мысли шли вразброд. Долго я не мог ничего сообразить, но мало-помалу мыслительные способности вернулись ко мне, и я припомнил все, что со мной случилось. Присутствие Тигра оставалось для меня непонятным, и после тщетных попыток объяснить себе это обстоятельство я должен был отказаться от намерения и только радовался, что пес разделяет мое тоскливое уединение и утешает меня своими ласками. Большинство людей любят своих собак, но я питал к Тигру чувство более сильное, чем обыкновенная привязанность и, надо сказать правду, вполне заслуженное. В течение семи лет он был моим неразлучным спутником и много раз обнаруживал благородные качества, за которые мы ценим это животное. Я выручил его еще щенком из лап негодного уличного мальчишки в Нантукете, тащившего собаку в воду с петлей на шее: три года спустя Тигр заплатил мне свой долг, избавив меня от дубины уличного вора.
Приложив к уху часы, я убедился, что они вторично остановились; это ничуть не удивило меня, так как я был уверен, что проспал, как и в прошлый раз, очень долго; сколько именно времени — этого я, конечно, не мог решить. Меня била лихорадка, томила нестерпимая жажда. Я ощупью разыскал в ящике кружку с водой, так как свеча в фонаре сгорела дотла, а спички не попадались мне под руку. Отыскав кружку, я убедился, что она пуста; видно, Тигр соблазнился и вылакал воду; он же съел и остатки баранины, обглоданная кость валялась у входа в ящик. Тухлой баранины я не жалел, но сердце замирало при мысли о воде. Я чувствовал страшную слабость, так что дрожал как в лихорадке при малейшем движении или усилии. В довершение моих мучений бриг раскачивался и ходил ходуном, бочки из-под масла, лежавшие на моем ящике, каждую минуту грозили слететь и загородить мне дорогу. Морская болезнь тоже донимала меня жестоко. Ввиду всех этих обстоятельств я решил немедленно пробраться к люку, пока еще не утратил окончательно силы. Остановившись на этом решении, я снова принялся шарить спички и восковые свечи. Спички я скоро нашел, но свечи не попадались мне под руку (хотя я хорошо помнил, в каком месте положил их), — и потому, прекратив поиски, я велел Тигру лежать смирно, а сам отправился к люку.
Тут еще яснее обнаружилась моя слабость. Я с величайшими усилиями пробирался ползком, и часто мои члены внезапно ослабевали до того, что я падал ничком, близкий к обмороку, Тем не менее я упорно тащился вперед, содрогаясь при мысли лишиться чувств в каком-нибудь из этих узких проходов, что, разумеется, повлекло бы за собой неминуемую смерть. Наконец, ринувшись вперед отчаянным усилием, я стукнулся лбом об острый угол окованного железом ящика. Удар оглушил меня на несколько минут, а затем я с невыразимым отчаянием убедился, что ящик, свалившийся вследствие качки корабля, совершенно загородил мне путь. Никакими усилиями не мог я сдвинуть его хоть на один дюйм, так плотно засел он среди окружающих тюков. Мне оставалось только либо искать, несмотря на свою слабость, другой путь, либо перелезть через ящик. Первый способ представлял столько затруднений и опасностей, что я не мог подумать о нем без дрожи. При моем душевном и телесном изнеможении я бы непременно сбился с пути и погиб жалкой смертью в лабиринте ходов и закоулков трюма. Итак, собравшись с силами, я попытался, не теряя времени, перелезть через ящик.
Встав на ноги, я убедился, что эта задача еще труднее, чем казалось моему напуганному воображению. С каждой стороны у моего прохода возвышалась сплошная стена тяжелой клади, которая при малейшем толчке могла обрушиться мне на голову или загородить обратный путь. Ящик, находившийся предо мной, был очень высок и массивен; я тщетно старался уцепиться за его верхний угол, да если бы это и удалось, у меня не хватило бы силы подняться на руках и перелезть через ящик. Наконец, напрягши все силы, чтобы сдвинуть его, я почувствовал, что одна из досок поддается. Оказалось, что она держится очень слабо. С помощью перочинного ножа я отодрал ее, хотя и не без труда, совсем и, пробравшись в отверстие, убедился, к своей великой радости, что с противоположной стороны ящик был открыт, — иными словами, крышки вовсе не было. После этого я без особенных затруднений добрался до гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и слегка надавил на люк. Вопреки моим ожиданиям он не поддавался, и я надавил сильнее, все еще опасаясь застать кого-нибудь постороннего в каюте Августа. К моему удивлению люк все-таки не поддавался, так что я не на шутку встревожился, вспомнив, как легко он открывался раньше. Я сильно толкнул его — не поддается! Налег изо всей силы — ничего не выходит! Уперся с бешенством, с яростью, с отчаянием — все мои усилия остались тщетными. Очевидно, отверстие было замечено и забито гвоздями, или над ним поместили тяжесть, которую я не в силах был сдвинуть.
Невыразимый ужас и отчаяние овладели мной. Тщетно я пытался уразуметь вероятную причину моего погребения заживо. Я не мог собраться с мыслями и, повалившись на пол, предался самому мрачному отчаянию; мне уже чудились муки голода, жажды, удушья, все ужасы, терзающие погребенного заживо. Наконец присутствие духа до некоторой степени вернулось ко мне. Я встал и принялся ощупывать пальцами щели или скважины люка. Отыскав их, я стал всматриваться, не проникает ли сквозь них свет из каюты; но его не было заметно. Тогда я просунул в щель острие перочинного ножа, — оно наткнулось на какое-то препятствие. Царапая его ножом, я убедился, что это железо и именно, судя по особенному волнистому движению лезвия, — железная якорная цепь. Теперь мне оставалось только вернуться к моему ящику и там либо покориться своей печальной судьбе, либо собраться с мыслями и придумать какой-нибудь способ избавления. Я тотчас пустился в обратный путь и после бесчисленных затруднений добрался до ящика. Когда я в изнеможении растянулся на матраце, Тигр улегся рядом со мной, по-видимому, желая утешить или ободрить меня своими ласками.
Наконец внимание мое было привлечено его странным поведением. Полизав несколько минут мое лицо и руки, он внезапно останавливался и испускал легкий визг. Протягивая руку, я всякий раз убеждался, что он лежит на спине, задрав лапы кверху. Я никак не мог объяснить себе это странное поведение. Видя его беспокойство, я подумал, нет ли у него какой-нибудь раны или ушиба, и тщательно ощупал его лапы, но они, по-видимому, были совершенно здоровы. Тогда, решив, что он голодает, я дал ему кусок ветчины, которую он проглотил с жадностью, но тем не менее продолжал свои загадочные действия. Наконец я решил, что он, подобно мне, томится жаждой, и совсем было успокоился на этом объяснении, когда мне пришло в голову, что я ощупал только его лапы, а между тем рана могла находиться на туловище или на голове. Я снова принялся ощупывать его; на голове ничего не нашел, но, проводя рукой по спине, заметил, что в одном месте шерсть как-то взъерошилась. Оказалось, что в этом месте был шнурок, опоясывавший его туловище. При более тщательном исследовании я нашел узелок, в котором, по-видимому, была завязана бумажка, приходившаяся как раз под левым плечом животного.
ГЛАВА III[править]
У меня тотчас мелькнула мысль, что это записка от Августа, что какой-нибудь непредвиденный случай помешал ему освободить меня из заточения и он придумал этот способ уведомить меня о положении дел. Дрожа от нетерпения, я вновь принялся отыскивать спички и свечи. Я смутно припоминал, что упрятал их очень тщательно перед тем, как улегся спать, и до своего путешествия к люку хорошо помнил, в каком месте положил их. Но теперь я тщетно старался припомнить это место и целый час провел в бесплодных поисках. Вряд ли когда-нибудь я испытывал такое адское беспокойство и нетерпение. Наконец, ощупывая всюду (и случайно высунув голову из ящика), я заметил какой-то странный свет. Изумленный, я попытался добраться до него, так как он находился неподалеку от меня. Но, сдвинувшись с места, я потерял из вида свет и, только приняв прежнюю позу, поймал его снова. Тогда я стал осторожно водить головой из стороны в сторону и вскоре убедился, что, двигаясь потихоньку в направлении, противоположном тому, которое я принял в первый раз, могу приблизиться к свету, не потеряв его из вида. Добравшись до него по извилистым, узким проходам, я убедился, что свет исходит от спичек, валявшихся на пустом опрокинутом бочонке. Я недоумевал, каким образом они попали сюда, когда рука моя нащупала два или три комка воска, очевидно, изжеванного собакой. Я тотчас догадался, что она сожрала весь мой запас свечей, и потерял всякую надежду прочесть письмо Августа. Незначительные остатки воска так перемешались с сором, что я не мог извлечь из них никакой пользы и бросил их без внимания. От спичек осталось всего две-три головки фосфора; я подобрал их и вернулся к ящику, где Тигр оставался все время.
Я не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не мог рассмотреть свою руку, даже когда подносил ее к самому лицу. Белый клочок бумаги был едва различим, и только когда я смотрел на него не прямо, а искоса. Можно судить по этому, как темно было в трюме. По-видимому, записке моего друга, если только это была его записка, суждено было окончательно истерзать мою и без того измученную душу. Тщетно я придумывал всевозможные способы раздобыть свет, способы один другого нелепее, какие могут прийти в голову разве курильщику опиума и кажутся ему то удивительно разумными, то никуда не годными, смотря по тому, рассудок или воображение берут верх. Наконец у меня мелькнула мысль, показавшаяся мне вполне рациональной, так что я только подивился, как не пришла она раньше. Я положил бумажку на переплет книги и натер ее кусочками фосфора, которые нашел в бочонке. Бумага немедленно засветилась ярким светом, и если бы на ней было написано что-нибудь, я, без сомнения, прочел бы без труда. Но ни единой буквы!.. Белая, гладкая бумага и больше ничего. Через несколько мгновений свет мало-помалу замер, и сердце мое замерло вместе с ним.
Я уже говорил, что перед этим мой ум был близок к состоянию полного помешательства. Были, конечно, минуты совершенной ясности и пробуждения энергии, но очень редко. Надо помнить, что я в течение многих дней дышал зачумленной атмосферой замкнутого трюма на китобойном судне при очень скудном запасе воды. В течение последних четырнадцати-пятнадцати часов я вовсе не пил и не спал. Соленое мясо было моей единственной пищей после порции баранины; правда, у меня имелись еще сухари, но они были так сухи и жестки, что положительно не шли в мою пересохшую и распухшую глотку. Я был в жару и, вероятно, не на шутку болен. Только этим и объясняйся, как мог я провести несколько часов в состоянии самого Жалкого отчаяния и лишь тогда сообразить, что следовало посмотреть и другую сторону бумажки. Не пытаюсь изобразить бешенство (так как гнев господствовал над всеми остальными чувствами), овладевшее мною, когда мысль об этой оплошности внезапно озарила меня. Само по себе упущение было бы нетрудно исправить, если бы не моя безумная, ребяческая выходка: увидев, что на бумаге ничего не написано, я разорвал ее на клочки и бросил их, так что теперь не мог найти.
Однако сообразительность Тигра помогла мне справиться с самой трудной частью задачи. Найдя после долгих поисков клочок бумаги, я поднес его к морде Тигра и старался дать ему понять, что он должен разыскать остальные. К моему изумлению (так как я никогда не обучал его разным штукам, которыми славятся его собратья), он, по-видимому, сразу понял, что мне нужно и, пошарив кругом, вскоре принес мне другой довольно большой клочок. Сделав это, он приостановился, тыкаясь носом в мою руку, как будто ожидая моего одобрения. Я погладил его по голове, и он снова отправился на поиски. Прошло несколько минут, пока он вернулся, — зато на этот раз принес мне третий и последний клочок бумаги, которую я разорвал только на три части. К счастью, мне не трудно было отыскать оставшиеся кусочки фосфора — по свету, который они испускали. Затруднения, которые я испытал, выучили меня осторожности, и я хорошенько подумал, прежде чем приступил к делу. По всей вероятности, что-нибудь было написано на той стороне бумаги, которую я не рассматривал, но где же эта сторона? Сложив куски вместе, я мог быть уверенным, что слова (если только они есть) окажутся все на одной стороне в той же связи, как были написаны, — но на какой именно стороне? Необходимо было выяснить это обстоятельство, потому что остатков фосфора не хватило бы на третью попытку, если бы вторая не удалась. Я разложил бумагу на переплете книги, как раньше, и в течение нескольких минут обдумывал, как приняться за дело. Наконец мне пришло в голову, что на исписанной стороне могут оказаться какие-нибудь неровности, которые можно заметить при тщательном ощупывании. Я немедленно приступил к делу и осторожно провел пальцем по бумаге, — ничего особенного не было заметно, тогда я перевернул бумажку, снова провел по ней пальцем и заметил слабый, чуть видный свет. Он мог исходить только от частичек фосфора, которым я натирал бумагу в первый раз. Стало быть, записка, если только она была, находилась на противоположной стороне. Я снова перевернул бумагу и повторил свой прежний опыт. Когда я натер ее фосфором, она засветилась ярким светом, и мне сразу бросились в глаза несколько строчек, написанных, по-видимому, красными чернилами. Но свет, хотя яркий, длился всего мгновение. Не будь я так взволнован, я успел бы прочесть все три фразы, — я ясно видел, что их было три. Но, торопясь прочесть все разом, я схватил только шесть последних слов: «Кровью, — сиди смирно, или ты пропал».
Если бы я прочел всю записку, понял весь смысл предостережения, полученного от моего друга, если бы это предостережение было связано с самым трагическим, самым ужасным происшествием, я наверно не испытал бы такого мучительного, неизъяснимого, ужаса, который возбудила во мне эта отрывочная фраза. «Кровь», — зловещее слово, всегда, во все времена связанное с тайной, страданием, ужасом, с каким утроенным значением оно явилось предо мной, как мрачно и глухо отдались его смутные слоги (не связанные с предыдущим и последующим содержанием письма и тем более загадочные) среди мрака моей темницы в глубочайших изгибах моей души!
Без сомнения, у Августа были основательные причины желать, чтобы я остался в своем убежище, я тщательно придумывал тысячи объяснений этому, — ни одно из них не давало удовлетворительного решения тайны. Вернувшись из своего путешествия к люку и еще не заметив странного поведения Тигра, я решился во что бы то ни стало дать знать о своем существовании экипажу или, если это не удастся, попробовать самому выбраться на палубу. Надежда на исполнение которого-нибудь из этих проектов давала мне силы переносить мое бедственное положение. Но вот несколько слов, прочтенных мною, разом убили эту надежду, и тут-то я в первый раз вполне почувствовал весь ужас моей горькой участи. В припадке отчаяния я снова кинулся на матрац и долго, не менее суток, валялся в забытьи, лишь изредка на минуту приходя в себя.
Наконец я стал размышлять о своем ужасном положении. Возможно я мог бы прожить еще сутки без воды, но протянуть Дольше было решительно невозможно. В первое время моего заключения я пользовался напитками, которые оставил мне Август, но они только возбуждали лихорадочное состояние, ничуть не утоляя жажды. Теперь у меня оставалось четверть пинты крепкой персиковой настойки, которой решительно не выносил мой желудок. Колбасы были съедены дочиста, от окорока остался только кусок кожи, а от сухарей только крошки — все остальное было съедено Тигром. В довершение всего голова моя болела все сильнее и сильнее, и бред почти не прекращался с той самой минуты, когда я заснул в первый раз. Я едва мог переводить дыхание, и всякий вздох сопровождался жестоким колотьем в груди. Но был у меня и еще источник беспокойства, и такого ужасного, что оно заставило меня очнуться от забытья. Причиной этого беспокойства было странное поведение собаки.
Я заметил перемену в ее поведении, когда в последний раз натирал фосфором записку. В это время Тигр с глухим ворчаньем ткнулся мордой в мою руку, но я был так возбужден, что не обратил внимания на это обстоятельство. Вскоре потом я бросился на матрац и впал в состояние, близкое к летаргии. Внезапно я услышал какое-то хрипение над самым моим ухом и, очнувшись, убедился, что это Тигр; он задыхался и хрипел, по-видимому, в страшном возбуждении, а глаза его светились диким огнем во мраке трюма. Я окликнул его, он отвечал глухим ворчанием, затем успокоился. Я снова впал в забытье и снова очнулся при таких же обстоятельствах. Это повторялось три или четыре раза, пока наконец поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно пришел в себя. Теперь он лежал у входа в ящик, и, глухо рыча, скрежетал зубами. Я не сомневался, что вследствие спертой атмосферы или недостатка воды он взбесился, и решительно не знал, что мне предпринять. У меня не хватало духа убить его, а между тем это было необходимо для моего спасения. Я ясно видел его глаза, устремленные на меня с выражением лютой злобы, и с минуты на минуту ожидал нападения. Наконец я не мог более выносить этого положения и решил во что бы то ни стало выйти из ящика и, если это окажется необходимым, убить собаку. Но, чтобы выбраться из ящика, надо было перелезть через Тигра, а он, по-видимому, решился предупредить меня, поднялся на передние лапы (я угадал это по изменившемуся положению его глаз) и оскалил свои белые зубы, блестевшие в темноте. Я взял остатки кожи от окорока, бутылку с водкой и большой кухонный нож, оставленный мне Августом, затем, закутавшись как можно плотнее в плащ, двинулся к выходу из ящика. Лишь только я пошевелился, собака с громким рычанием кинулась на меня. Она ударилась всей тяжестью своего тела о мое правое плечо, и я упал влево, в то время как бешеное животное перескочило через меня. Я упал на колени, запутавшись головой в одеялах, это спасло меня от вторичного нападения: я чувствовал, как острые зубы вонзились в шерстяное одеяло, окутывавшее мою шею, но, к счастью, не прокусили его насквозь. Я, однако, находился под животным и через несколько мгновений должен был очутиться в его власти. Отчаяние придало мне силы: я приподнялся, отбросил от себя собаку, накинул на нее одеяло и матрац, и прежде чем она выпуталась из них, выскочил из ящика и задвинул отверстие. Во время этой борьбы я выпустил из рук остатки ветчины, так что теперь все мои съестные припасы ограничивались несколькими глотками водки. Когда я заметил это, мной овладел один из тех припадков своенравия, которые свойственны избалованным детям: приставив бутылку к губам, я залпом осушил ее и затем с бешенством швырнул об пол.
Не успело замереть эхо этого удара, как я услышал свое имя, произнесенное торопливым шепотом. Это было так неожиданно, а мое волнение было так велико, что я не мог вымолвить слова. Язык совершенно отнялся у меня, и я стоял между тюками в смертном страхе, что друг мой, не слыша ответа, сочтет меня умершим и вернется на палубу. Стоял, судорожно дрожа всеми членами, задыхаясь в бесплодных усилиях произнести хоть слово. Если бы тысячи миров зависели от одного слога, я не мог бы произнести его. Послышался слабый шорох среди клади в направлении каюты. Шорох становился слабее, слабее, слабее. Забуду ли когда-нибудь мои чувства в эту минуту? Он уходил — мой друг, мой товарищ, от которого я ожидал так много, он уходил, покидал меня, уходил! Он оставлял меня на жалкую смерть в отвратительной и ужасной темнице, а между тем одно слово, один звук могли бы спасти меня, но я не мог выговорить этого слова! Конечно, я испытывал агонию, которая в тысячу раз сильнее самой смерти. Голова моя закружилась, и я упал на ящик.
При этом кухонный нож выскользнул из-за моего пояса и со звоном упал на пол. Никогда никакая музыка не раздавалась так сладко в моих ушах! Я вслушивался с замирающим сердцем, какое действие произведет этот шум на Августа, так как никто кроме Августа не мог окликнуть меня по имени. В течение нескольких мгновений все было тихо. Наконец я снова услышал имя Артур, произнесенное тихим и нерешительным голосом. Возродившаяся надежда развязала мой язык, и я заорал во всю глотку:
— Август! Август!
— Тише, ради Бога молчи! — отвечал он дрожащим от волнения голосом, — я сейчас проберусь к тебе.
Долго я прислушивался, как он пробирался среди груза, и каждая минута казалась мне веком. Наконец я почувствовал его руку на плече, и в ту же минуту он поднес бутылку с водой к моим губам. Только тот, кому случалось быть вырванным из когтей смерти или испытать нестерпимые муки жажды при таких же ужасных обстоятельствах, только тот способен понять невыразимое блаженство высочайшего из физических наслаждений.
Когда я несколько утолил жажду, Август вынул из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я с жадностью проглотил. С ним был потайной фонарик, и отрадный свет доставил мне почти столько же наслаждения, как пища и питье. Но я сгорал от нетерпения узнать причину его продолжительного отсутствия, и он приступил к рассказу о том, что случилось на корабле со времени отплытия.
ГЛАВА IV[править]
Как я и предполагал, бриг снялся с якоря час спустя после того, как Август оставил мне свои часы. Это было двадцатого июня. Если помните, я в то время уже третьи сутки сидел в трюме и в течение всего этого времени на бриге стояла такая толчея и беготня, особенно в каютах, что друг мой ни разу не мог заглянуть ко мне, не рискуя выдать тайну. Когда наконец он явился ко мне, я уверил его, что чувствую себя как нельзя лучше, и течение двух следующих дней он не особенно беспокоился обо мне, хотя все-таки поджидал случая спуститься в трюм. Случай представился только на четвертый день после отплытия. Не раз в течение этого периода его подмывало открыть тайну отцу и выпустить меня, но мы все еще находились в виду Нантукета, и по некоторым замечаниям капитана Барнарда можно было предположить, что он вернется, если узнает о моем присутствии. Кроме того, Август не мог себе представить, чтобы я в чем-нибудь нуждался или в случае надобности не вылез бы сам. Итак, он решил оставить меня в покое, пока не представится случай навестить меня незамеченным. Как я уже сказал, случай представился на четвертый день после отплытия или на седьмой, считая с того момента, когда я спрятался в трюме. Он спустился ко мне, не захватив с собой ни воды, ни провизии, намереваясь вызвать меня к люку и затем уже подать мне из каюты все, что понадобится. Спустившись, он убедился, что я сплю; по-видимому, я храпел очень громко. Это был тот самый сон, что овладел мною тотчас по возвращении моем от люка с часами и который, следовательно, длился три дня и три ночи. Недавно я имел случай убедиться по собственному опыту и свидетельству других в усыпляющем действии запаха старого рыбьего жира в замкнутом помещении; и когда я подумаю о тесном трюме и о долгом времени, в течение которого наш корабль служил китобойным судном, то удивляюсь скорее тому, что проснулся наконец, чем продолжительности своего сна.
Сначала Август окликнул меня вполголоса, не опуская люка, но я не отвечал. Тогда он опустил люк и крикнул громче, потом очень громко, я продолжал храпеть. Он не знал, что делать. Чтобы пробраться между кладью к моему ящику, требовалось немало времени, и капитан Барнард мог заметить его отсутствие, так как Август помогал ему вести и приводить в порядок бумаги, касающиеся цели плавания, и мог понадобиться каждую минуту. Итак, подумав немного, он решил вернуться в каюту и дождаться другого случая. В этом решении поддерживало его, то обстоятельство, что я, по-видимому, спал самым спокойным сном, значит, не испытывал никаких особенных неудобств. Пока он раздумывал обо всем этом, внимание его привлечено было каким-то странным шумом, раздавшимся, по-видимому, в капитанской каюте. Он поспешно выскочил из трюма, захлопнул люк и отворил дверь своей каюты. Не успел он перешагнуть через порог, как выстрел из пистолета опалил ему лицо и удар гандшпугом сбил с ног.
Чья-то сильная рука схватила Августа за горло; и все-таки он мог видеть, что делается вокруг. Отец его, связанный по рукам и по ногам, лежал на ступеньках лестницы ничком, с глубокой раной на лбу, из которой кровь струилась ручьем. Он ничего не говорил и, по-видимому, находился при последнем издыхании. Помощник, наклонившись над ним с дьявольской улыбкой, обыскивал его карманы, из которых вытащил в эту минуту толстый бумажник и хронометр. Семь человек из экипажа (в том числе повар-негр) обыскивали каюты на правой стороне, где было сложено оружие, и вскоре появились оттуда с ружьями и порохом. Всего, кроме Августа и капитана Барнарда, в каюте находилось девять человек самых отъявленных бездельников на судне. Негодяи поднялись на палубу, куда потащили и моего друга, связав ему руки за спиной. Тут они подошли к баку, в то время запертому; двое стали у дверей с топорами, двое у главного люка. Помощник громко крикнул:
— Эй вы, внизу! Вылезайте наверх поодиночке и без разговоров!
Прошло несколько минут; наконец один англичанин, юнга выполз с горькими слезами, униженно умоляя о пощаде. Ответом ему был удар по лбу. Бедняга грохнулся на палубу не пикнув, а черный повар поднял его на руки, как ребенка, и выбросил в море. Услышав падение тела и всплеск воды, находившиеся внизу наотрез отказались выйти на палубу, и ни угрозы, ни обещания не могли выманить их, пока кто-то не предложил выкурить несогласных. Тогда они разом кинулись наверх, и была минута, когда могло показаться, что победа останется за ними. Однако бунтовщики успели затворить бак, когда выскочили всего шесть человек. Эти шестеро, видя, что численный перевес на стороне бунтовщиков, и будучи к тому же безоружными, сдались после непродолжительной борьбы. Помощник успокаивал их ласковыми словами — без сомнения, для того, чтобы обмануть оставшихся внизу, так как они могли слышать каждое его слово. Результат доказал его сообразительность так же, как его дьявольскую гнусность. Оставшиеся внизу согласились сдаться и вылезли поодиночке на палубу, где их связали и бросили рядом с первыми шестью — всего не участвовавших в бунте оказалось двадцать семь человек.
Затем последовала ужасная бойня. Связанных матросов перетащили к трапу. Здесь повар убивал их ударами топора по голове, а остальные мятежники тотчас выбрасывали жертву за борт. Таким образом были убиты двадцать два человека, и Август считал себя погибшим, с минуты на минуту ожидая своей гибели. Наконец, однако, злодеи устали от своей кровавой работы, бросили четырех оставшихся, в числе которых оказался и Август, достали водку, и началась попойка, длившаяся до самой ночи. Во время пирушки они обсуждали, что делать с оставшимися в живых пленниками, которые лежали в четырех шагах и могли слышать каждое слово. По-видимому, водка оказала смягчающее действие на некоторых бунтовщиков, потому что раздались голоса, советовавшие пощадить пленников с условием присоединиться к бунту и разделить добычу. Но черный повар (во всех отношениях сущий черт, пользовавшийся таким же, если не большим влиянием, как сам помощник капитана) не хотел ничего слушать и несколько раз вставал, намереваясь продолжить бойню. К счастью, он был так пьян, что менее кровожадные без труда могли удержать его. В числе последних оказался некто Дэрк Петерс, лотовой. Этот человек был сын индеанки из племени упсарокас близ Скалистых гор у верховьев Миссури. Отец его, кажется, торговал звериными шкурами, во всяком случае имел сношения с торговыми стоянками индейцев на реке Льюис. Сам Петерс был человек необычайно свирепого вида. Небольшого роста, не более четырех футов восьми дюймов, он, однако, обладал геркулесовским сложением. В особенности кисти рук его поражали своей чудовищной величиной, напоминая скорее звериные лапы. При этом руки и ноги были искривлены самым странным образом и, казалось, вовсе лишены способности сгибаться. Голова у него тоже была пребезобразная — огромная, заостренная кверху и совершенно лысая. Чтобы скрыть этот последний недостаток, вовсе не зависевший от возраста, он носил парик из первой попавшейся шкуры, например из шкуры испанского дога или американского серого медведя. В то время, о котором я говорю, у него был парик из медвежьей шкуры, придававший еще больше свирепости его лицу, сохранившему племенные черты упсарокас. Рот у него доходил почти до ушей; тонкие губы, как и остальные черты, отличались неподвижностью, так что выражение его лица оставалось неизменным при самом сильном возбуждении. Чтобы иметь понятие об этом выражении, представьте себе необычайно длинные выдающиеся зубы, никогда не прикрывавшиеся губами. С первого взгляда можно было подумать, что он смеется, но, вглядываясь пристальнее, вы с ужасом убеждались, что если это выражение веселья, то, веселья дьявольского. Много россказней ходило об этом человеке среди нантукетских моряков. Россказни эти посвящены были главным образом его чудовищной силе, особенно в минуты возбуждения, а некоторые из них заставляли сомневаться в его рассудке. На «Грампусе», однако, к нему относились, по-видимому, с пренебрежением. Я распространяюсь о Дэрке Петерсе, потому что, несмотря на свою свирепую наружность, он сделался главным спасителем Августа, а также потому, что мне не раз придется упоминать о нем в дальнейшем рассказе. Рассказе, последняя часть которого, замечу мимоходом, говорит о происшествиях, настолько выходящих за пределы человеческого опыта и, следовательно, человеческой доверчивости, что у меня нет ни малейшей надежды снискать доверие публики. Я надеюсь, однако, что время и успехи науки подтвердят мои как важнейшие так и невероятнейшие открытия.
После долгих колебаний и бурных споров решено было посадить пленников (за исключением Августа, которого Петерс желал во что бы то ни стало сохранить в качестве конторщика, как он выражался) в маленький вельбот и пустить на произвол судьбы. Помощник капитана отправился в каюту посмотреть, жив ли еще капитан Барнард, который, если припомнит читатель, был брошен внизу, когда бунтовщики отправились наверх. Минуту спустя оба вернулись на палубу, капитан, бледный, как смерть, но несколько оправившийся от раны. Он обратился к матросам, уговаривая их едва внятным голосом не бросать его на произвол судьбы, а вернуться к исполнению своих обязанностей и обещая высадить их, где они захотят, и не преследовать судом. Но с таким же успехом он мог бы говорить ветрам. Два негодяя схватили его за руки и бросили за борт в лодку, которая уже была спущена на воду. Четверым пленникам развязали руки и велели следовать за капитаном, что они и исполнили без разговоров, только Август остался на палубе связанным, хотя бился и молил позволить ему проститься с отцом. Затем спустили в лодку мешок сухарей и кувшин с водой, но ни мачты, ни паруса, ни весла, ни компаса. В течение нескольких минут лодку тащили на буксире, потом, посоветовавшись еще раз, бунтовщики обрезали веревку. Наступила ночь — темная, безлунная и беззвездная ночь, море глухо шумело и волновалось, хотя сильного ветра не было. Лодка моментально скрылась из виду с несчастными пловцами, которым, конечно, нечего было рассчитывать на спасение. Впрочем, это происходило под 35®30′ северной широты и 61®20′ западной долготы, следовательно, поблизости от Бермудских островов. Ввиду этого Август старался утешить себя мыслью, что лодке, быть может, удастся достигнуть берега или наткнуться на какой-нибудь корабль.
На бриге подняли все паруса и продолжали путь к юго-западу; кажется, бунтовщики задумали какую-то разбойничью экспедицию. Насколько можно было понять, дело шло о захвате корабля, шедшего с островов Зеленого Мыса в Пуэрто-Рико. На Августа не обращали никакого внимания; он был развязан и мог свободно ходить всюду, кроме кают. Тем не менее положение его оставалось очень шатким; матросы постоянно были пьяны, и он не мог рассчитывать на их добродушие или беззаботность. Но пуще всего терзало его беспокойство обо мне, — так он говорил мне, и я верю этому, потому что никогда не имел повода сомневаться в искренности его дружбы. Не раз он решался сообщить бунтовщикам о моем пребывании на корабле, но его удерживало воспоминание об их жестокости и надежда подать мне помощь при первом удобном случае. Однако несмотря на то, что он все время был настороже, случая не представлялось в течение трех дней. Наконец однажды ночью поднялся сильный ветер с востока, так что все матросы принялись убирать паруса. Воспользовавшись этой суматохой, он незаметно проскользнул в свою каюту. Каково же было его огорчение и ужас, когда он убедился, что каюта превращена в складочное место для разных запасов, а на люке лежит громадная якорная цепь, которую перетащили сюда из рубки! Отодвинуть ее значило бы выдать тайну, и потому он поспешил вернуться наверх. Лишь только он показался на палубе, помощник капитана схватил его за горло, спрашивая, зачем он таскался в каюту, и хотел уже бросить его за борт, но тут вступился Дэрк Петерс и еще раз спас ему жизнь. На этот раз Августу надели на руки колодки (на корабле было несколько пар), связали ноги, стащили его в переднюю каюту и бросили на койку, сказав, что он не выйдет на палубу, «пока бриг не перестанет быть бригом». Так выразился повар, бросивший его на койку. Трудно понять, что он хотел сказать этой фразой. Но происшествие в конце концов привело к моему избавлению, как сейчас увидит читатель.
ГЛАВА V[править]
По уходе повара Август предался отчаянию, думая, что ему уже не выбраться живым из койки. Он решил сообщить обо мне первому, кто к нему подойдет, рассудив, что лучше мне положиться на милость бунтовщиков, чем погибнуть от жажды в трюме. В самом деле, я уже десять дней находился в своем убежище, а моего запаса воды могло хватить дня на четыре, не больше. Пока он думал об этом, ему пришло в голову, нельзя ли пробраться ко мне через главный люк. При других обстоятельствах он не решился бы на такое трудное и рискованное предприятие, но теперь у него оставалось так мало надежды на спасение жизни, что он махнул рукой на опасность и решил попытаться во что бы то ни стало.
Прежде всего надо было избавиться от колодок. Сначала он не знал, как с ними быть, и боялся, что не справится; но вскоре убедился, что они снимаются очень легко, без особенных усилий: колодки были слишком велики для гибких и тонких костей юноши, и руки его свободно проходили в них. Затем он развязал ноги, оставив веревку в таком положении, чтобы можно было быстро завязать ее, если бы кто-нибудь из матросов вздумал спуститься в каюту. Осмотрев перегородку, к которой примыкала его койка, он убедился, что она сделана из мягких сосновых досок, не более дюйма толщиной, так что прорезать ее будет не особенно трудно. Тут послышался голос наверху, и едва он успел связать ноги и просунуть правую руку в колодку (с левой он не снимал ее), как явился Дэрк Петерс в сопровождении Тигра, который тотчас же вскочил в койку и растянулся рядом с моим другом. Собака была взята на бриг Августом, который знал мою привязанность к этому животному и думал, что мне приятно будет взять ее с собой. Он сходил за ней тотчас после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сообщить мне об этом, когда принес часы. Со времени мятежа он не видел ее и считал погибшей, думая, что какой-нибудь негодяй из шайки выбросил ее за борт. Впоследствии оказалось, что собака залезла под вельбот, откуда не могла выбраться без посторонней помощи. Наконец Петерс выпустил ее оттуда и под влиянием доброго чувства, которое вполне оценил мой друг, привел в каюту, захватив также немного солонины, картофеля и кружку воды; затем он ушел на палубу, обещав принести побольше еды завтра.
Когда он ушел, Август высвободил обе руки из колодок и развязал ноги. Затем отвернул конец матраца, на котором лежал, и принялся резать перегородку перочинным ножом (негодяи не подумали обыскать его) как можно ближе к койке. Он выбрал это место, потому что в случае тревоги легко было закрыть его, уложив матрац по-прежнему. В этот день, впрочем, никто его не потревожил, а к ночи ему удалось перерезать доску. Надо заметить, что со времени бунта никто из матросов не ночевал на баке, все переселились в капитанскую каюту и истребляли запасы вина, а за бригом почти не смотрели. Это обстоятельство оказалось весьма кстати для нас с Августом, потому что в противном случае ему не удалось бы добраться до меня. Теперь же он продолжал работу с надеждой на успех. Однако уже рассветало, когда он окончил второй разрез (приблизительно на фут выше первого), устроив таким образом отверстие, через которое пролез в верхний трюм. Затем он пробрался без особенных затруднений, несмотря на груды бочек, наваленных до самой палубы, к главному нижнему люку. Тут он заметил, что Тигр все время следовал за ним. Но спуститься теперь же ко мне было слишком рискованно, так как главная трудность — пробраться среди клади нижнего трюма — оставалась еще впереди. Ввиду этого он решил вернуться и подождать до ночи. Во всяком случае он хотел теперь же открыть люк, чтобы в следующий раз пройти как можно скорее. Едва он приотворил его, как Тигр бросился к щели, обнюхал ее и с глухим воем принялся царапать лапами доску, точно желая поднять ее. Очевидно, он чуял мое присутствие в трюме. Августу пришло в голову написать и послать мне записку, так как было бы весьма важно уведомить меня о положении дел, чтобы я сидел смирно, если даже ему не удастся проникнуть ко мне на следующий день. Дальнейшие события показали, как удачна была эта мысль: не получив записки, я наверно придумал бы какой-нибудь способ, хотя бы самый отчаянный, дать знать экипажу о своем присутствии, и в результате, по всей вероятности, нас укокошили бы обоих.
Главное затруднение было добыть материалы для письма. Из старой зубочистки Август соорудил перо — ощупью, потому что тьма была кромешная. Для записки послужил чистый листок подложного письма от имени мистера Росса. Это был первый экземпляр письма, но Август нашел почерк недостаточно похожим и написал второе, а первое сунул в карман, где оно и оказалось, весьма кстати, в настоящую минуту. Не было только чернил, но он и тут нашелся, надрезав перочинным ножом палец выше ногтя. Крови вытекло довольно, как всегда из порезов, сделанных в этом месте. Затем он написал письмо насколько мог ясно в такой темноте и при таких обстоятельствах. Он вкратце сообщал мне, что на бриге произошел бунт, что капитана Барнарда высадили и пустили на произвол судьбы в лодке и что я могу рассчитывать на скорую помощь, но не должен поднимать шума. Письмо заканчивалось словами: «Пишу кровью, сиди смирно, или ты пропал».
Записка была привязана к собаке, которая бросилась в трюм, тогда как Август вернулся в каюту. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он воткнул над ним перочинный нож и повесил на него матросскую куртку, оказавшуюся на койке. Затем продел руки в колодки и завязал ноги.
Едва он покончил с этим, как вошел Дэрк Петерс, сильно навеселе, но в отличном расположении духа. Он принес моему другу его порцию на сегодняшний день: дюжину печеных картофелин и кружку воды. Он посидел немного на сундуке подле койки, рассказывая вполне откровенно обо всем, что происходило на корабле. Поведение его показалось Августу крайне странным и нелепым, даже напугало его. Наконец Петерс встал и убрался на палубу, обещая принести хороший обед завтра. В течение дня явились к моему другу двое матросов (гарпунщиков) и повар, пьяные до положения риз. Как и Петерс, они не стесняясь болтали о своих планах. По-видимому, на корабле царило полное разногласие; только один пункт не возбуждал споров: грабеж корабля, шедшего с островов Зеленого Мыса, встреча с которым ожидалась с минуты на минуту. Насколько можно было судить, причиной бунта явились не только корыстные цели, главную роль в нем играла личная ненависть помощника капитана к капитану Барнарду. Теперь бунтовщики разделились на две партии: партию помощника капитана и партию повара. Помощник предлагал овладеть первым подходящим кораблем и снарядить его на каком-нибудь из Антильских островов для морского разбоя. Вторая партия, более многочисленная, к которой принадлежал и Петерс, хотела продолжать путь в южную часть Тихого океана и там заняться ловлей китов или чем-нибудь другим, глядя по обстоятельствам. Доводы Петерса, не раз бывавшего в тех местах, имели, по-видимому, большое значение в глазах бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и развлечениях. Он расписывал яркими красками утехи и развлечения на островах Тихого океана, полнейшую безопасность и свободу, но больше всего превозносил чудный климат, обилие житейских благ и восхитительную красоту женщин. До сих пор моряки, не пришли к окончательному решению, но рассказы метиса-канатчика производили сильное впечатление на пылкую, фантазию нынешней команды и, по всей вероятности, победа должна была остаться за ним.
Просидев около часа, все трое ушли, и в этот день никто более не заглядывал в переднюю каюту. Август лежал смирно до наступления ночи. Затем он снял колодки, развязал ноги и приготовился к предприятию. На одной из коек нашлась бутылка, которую он наполнил водой. Набив карманы картофелем. К своей великой радости, он отыскал также фонарь с небольшим огарком сальной свечи. Он мог зажечь ее когда угодно, так как имел в своем распоряжении коробочку фосфорных спичек. Когда совершенно стемнело, Август пролез в отверстие перегородки, уложив постель так, чтобы казалось, будто под одеялом лежит человек. Очутившись за перегородкой, он завесил отверстие курткой. Затем пробрался среди бочек к нижнему люку. Тут зажег свечку и спустился вниз, пробираясь с величайшим трудом среди клади. Невыносимая духота и вонь смутили его на первых же шагах. Он не мог себе представить, чтобы я выжил так долго в удушливой атмосфере. Он окликнул меня несколько раз, но я не отвечал; по-видимому, его подозрения подтверждались. Качка была сильная и шум такой, что было бы бесполезно прислушиваться к слабому звуку моего дыхания или хрипения. Он открыл фонарь и поднял его как можно выше в надежде, что, заметив свет, я откликнусь или позову на помощь. Но я не отзывался, и его предположение насчет моей смерти начинало превращаться в уверенность. Но все-таки он хотел пробраться к ящику, чтобы не оставалось никаких сомнений. Август двигался в жестоком беспокойстве, пока не наткнулся на препятствие, преграждавшее ему путь. Силы оставили его и, кинувшись на кучу хлама, он заплакал, как дитя. В эту минуту раздался звон разбитой бутылки, которую я швырнул об пол. Счастье, что я поддался этому ребяческому капризу, потому что от него, как оказалось, зависело мое спасение. Но я узнал об этом только спустя много лет. Весьма естественный стыд и смущение номе-шали моему приятелю признаться откровенно в своем малодушии и слабости, и только впоследствии он покаялся мне чистосердечно. Дело в том, что, встретив на своем пути препятствие, он решил вернуться в каюту, отказавшись от попытки пробраться ко мне. Но прежде чем обвинять его, нужно подумать. Ночь проходила, и его отсутствие могло быть и было бы замечено, если бы он не вернулся до рассвета. Свеча догорала, а вернуться к верхнему трюму в темноте было очень трудно. Далее, надо согласиться, что он имел полное основание считать меня погибшим; а в таком случае не было смысла пробираться к моему ящику; мне это не могло помочь, а ему грозило страшной опасностью. Он несколько раз окликал меня и ни разу не получил ответа. Я пробыл одиннадцать дней и одиннадцать ночей с ничтожным запасом воды, которую наверно не берег в первые дни моего заключения, так как рассчитывал на скорую помощь. Атмосфера трюма тоже должна была показаться ему, дышавшему относительно свежим воздухом каюты, убийственной, гораздо более убийственной, чем мне, когда я впервые спустился в трюм, потому что перед тем все люки были открыты в течение нескольких месяцев. Прибавьте к этому недавнюю сцену кровопролития и ужаса, заключение моего друга, испытанные им лишения, случайное избавление от смерти, теперешнее шаткое и двусмысленное положение — все эти обстоятельства, способные убить энергию в человеке, — и вы, подобно мне, отнесетесь к этой кажущейся измене скорее с сожалением, чем с гневом.
Август ясно слышал звон разбитой бутылки, но не был уверен, что звук исходит из трюма. Как бы то ни было, в нем зародилось сомнение, заставившее его продолжать поиски. Он взобрался на груду поклажи почти к самому потолку и, выждав минуту затишья, окликнул меня во всю глотку, забыв на минуту об опасности быть услышанным наверху. Если помнит читатель, на этот раз я услышал его, но страшное волнение помешало мне ответить. Решив, что его опасения подтвердились, Август спустился на пол, чтобы вернуться не теряя времени. Второпях он свалил несколько бочонков, этот шум, если помните, я тоже услышал. Он уже отошел довольно далеко, когда звук упавшего ножа снова привлек его внимание. Он тотчас вернулся и крикнул так же громко, как ранее, выждав минуту затишья. На этот раз я ответил. Радуясь, что я еще жив, он решил пренебречь всякой опасностью и во что бы то ни стало добраться до меня. Выбравшись кое-как из груды разного хлама, он нашел наконец более широкий проход и после долгих усилий добрался до ящика в состоянии полного изнеможения.
ГЛАВА VI[править]
Пока мы оставались у ящика, Август сообщил мне главнейшие обстоятельства этой истории. Подробности я узнал позднее. Он боялся, что его отсутствие будет замечено, да и я горел нетерпением выбраться из этой проклятой тюрьмы. Мы решили вернуться к дыре в перегородке, за которой я должен был остаться, между тем как он проникнет в каюту. Мы ни за что не хотели оставить Тигра в ящике; но что было с ним делать? По-видимому, он совершенно успокоился, мы не могли даже расслышать его дыхание, приложив ухо вплотную к ящику. Я был убежден, что он околел, и потому решился открыть ящик. Оказалось, что он лежал, вытянувшись, в полном оцепенении, но еще живой. Время было дорого, но я не мог бросить на произвол судьбы животное, дважды послужившее орудием моего спасения. Итак, мы потащили его с собой, как ни трудно нам приходилось, особенно Августу, который должен был перелезать через препятствия с тяжелой собакой на руках. У меня при моей крайней слабости и истощении не хватило бы сил на это. Наконец мы добрались до отверстия; Август пролез в него первый, затем перетащил Тигра. Все обошлось благополучно, и мы не преминули воздать хвалу Богу за наше избавление от смертельной опасности. Пока решено было, что я останусь подле отверстия, через которое мой товарищ может снабжать меня пищей и питьем и подле которого я мог дышать сравнительно чистым воздухом. В объяснение некоторых мест моего рассказа, касающихся загрузки брига, которые могут показаться сомнительными читателям, знакомым с этим предметом, я должен заметить, что эта в высшей степени важная задача была исполнена на «Грампусе» с самой постыдной небрежностью со стороны капитана Барнарда, который не обнаружил в данном случае ни заботливости, ни опытности, безусловно необходимых в таком рискованном предприятии. Погрузку ни в коем случае не следует производить кое-как, и не одна катастрофа, даже из известных мне лично, была вызвана небрежностью в этом отношении. Прибрежные суда, которым то и дело приходится нагружаться или разгружаться, чаще всего страдают от неумелой или неряшливой укладки груза. Главное — уложить груз или балласт так, чтобы они не могли передвигаться при самой сильной качке. Для этого нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на свойства и на количество груза. В большинстве случаев погрузка производится посредством винта. Таким образом груз табака или муки укладывается в трюм корабля так плотно, что тюки или мешки сплющиваются и только спустя некоторое время после разгрузки принимают прежнюю форму. Такая плотная погрузка производится, впрочем, главным образом для того, чтобы выиграть Место в трюме, так как при полном грузе таких товаров, как мука или табак, нечего опасаться передвижения тюков. Однако такая плотная укладка груза может повлечь за собой опасность совершенно иного рода. Груз хлопчатой бумаги, например плотно спрессованной, может при известных обстоятельствах расшириться, причем корабль даст трещины. Без сомнения, к таким же последствиям может повести начавшееся брожение табака, если промежутки между тюками не ослабят расширения.
При неполной нагрузке угрожает опасность от передвижения тюков, и против этого необходимо принять меры предосторожности. Только тот, кому случалось испытать сильный шторм или, вернее сказать, качку при мертвой зыби после шторма, имеет представление о страшной силе сотрясений корабля и, следовательно, толчков, получаемых грузом. В таких случаях становится очевидной необходимость самой тщательной укладки неполного груза. Когда корабль лежит в дрейфе (особенно с маленьким передним парусом), то, при неправильном устройстве носа часто ложится на бок; это случается каждые четверть часа или двадцать минут, но без всяких опасных последствий, если только погрузка произведена правильно. В противном случае весь груз скатывается на ту сторону, которая лежит на воде, и корабль, утратив равновесие и не имея возможности выпрямиться, неминуемо наполнится водой и пойдет ко дну. Без всякого преувеличения можно сказать, что добрая половина кораблей, погибших во время шторма, обязана своей гибелью плохой укладке груза или балласта.
Уложив неполный груз как можно плотнее, необходимо устлать его крепкими досками, простирающимися поперек всего корабля. Доски эти нужно закрепить стойками, упирающимися в палубу. Если груз состоит из зерна или другого подобного товара, следует принять особые меры предосторожности. Если при отплытии корабля трюм доверху наполнен зерном, то по прибытии на место он окажется полным только на три четверти, хотя при сдаче груза приемщику и измерении зерна бушель за бушелем его может оказаться больше, чем отправлено (вследствие разбухания зерен). Эта кажущаяся убыль зерна происходит вследствие уплотнения груза во время путешествия, уплотнения, которое находится в прямой зависимости от погоды, то есть от тряски. Как бы хорошо зерно не было застлано досками и укреплено стойками, все равно при продолжительном плавании оно может сдвинуться, что чревато катастрофой. Чтобы предупредить подобного рода несчастья, необходимо хорошенько утрясти груз перед отплытием, для чего существуют различные приспособления. Но даже при всех этих предосторожностях, при самой тщательной укладке и закреплении груза ни один моряк, знающий свое дело, не будет чувствовать себя спокойным во время шквала, если корабль нагружен зерном, в особенности при неполной загрузке. Между тем существуют сотни каботажных судов, а по европейским берегам еще более, которые ежедневно выходят из портов при неполной загрузке самым опасным товаром, не принимая никаких мер предосторожности. Можно удивляться, что катастрофы не случаются еще чаще. Мне лично известен печальный пример подобной неосторожности, именно крушение шхуны «Светляк» (капитан Джоэль Райс), на пути из Ричмонда в Виргинии к Мадере в 1825 году. Райс совершил много плаваний без всяких приключений, хотя относился к погрузке спустя рукава. Ему никогда раньше не случалось плавать с грузом зерна, и на этот раз зерно было насыпано кое-как, наполняя корабль только до половины. Путешествие совершалось при легком ветре, но за день пути до Мадеры подул сильный норд-норд-ост, заставивший капитана дрейфовать. Он шел против ветра, оставив только фок-зейль на двойных рифах; корабль держался как нельзя лучше, не зачерпнул ни капли воды. К ночи ветер несколько ослабел и качка усилилась, но все-таки судно выдержало ее, пока громадный вал не опрокинул судно на бимсы правым бортом. Послышался шум пересыпающегося зерна, трап главного люка вылетел под его напором, и корабль пошел ко дну, как пуля. Поблизости случился небольшой шлюп с Мадеры, который выловил одного матроса (только один и спасся) и, благополучно выдержав шторм, вернулся в гавань. Укладка груза на «Грампусе» была произведена самым небрежным образом, если только можно применить это понятие к беспорядочной груде бочек для китового жира и корабельных снастей. Я уже говорил о загрузке нижнего трюма. В верхнем, между грузом и палубой, было достаточно места для моего тела, у главного трапа значительное пространство тоже осталось незаполненным, немало пустых промежутков было и в других местах между кладью. Подле отверстия, прорезанного Августом, могла бы поместиться большая бочка, и я устроился очень удобно в этом пространстве.
Пока мой друг улегся на койке, надел колодки, связал ноги, Наступил рассвет. Мы вовремя вернулись, потому что, едва он улегся, вошли помощник, повар и Дэрк Петерс. Сначала они завели разговор о корабле с островов Зеленого Мыса, отсутствие которого, по-видимому, крайне тревожило их.
Наконец повар подошел к койке Августа и уселся в изголовье. Я мог видеть и слышать все из моего убежища, так как доска не была вложена обратно, и я с минуты на минуту ожидал, что негр толкнет куртку, висевшую на перочинном ноже, и наша тайна откроется, и тогда конец. Но счастье по-прежнему благоприятствовало нам, и хотя негр несколько раз дотрагивался до куртки во время качки корабля, однако не так сильно, чтобы заметить отверстие. Куртка была пришпилена к перегородке, так что не могла раскачиваться. Тем временем Тигр лежал в ногах кровати и, по-видимому, начинал приходить в себя; я заметил, что он несколько раз открывал глаза и переводил дух.
Спустя несколько минут повар и помощник ушли наверх, а Дэрк Петерс остался. Он дружески заговорил с Августом, и мы не могли не заметить, что его опьянение, казавшееся очень сильным при поваре и помощнике, было в значительной степени притворным. Он вполне откровенно отвечал на вопросы моего друга; сказал, что не сомневается в спасении моего отца, так как в тот самый день на рассвете не менее пяти кораблей было поблизости от брига; словом, всячески утешал его, чем немало удивил и обрадовал меня. Я начинал надеяться, что с помощью Петерса нам удастся снова овладеть бригом, и при первом удобном случае сообщил о своих соображениях Августу. Он считал это возможным, но настаивал на крайней осторожности, так как поведение Петерса могло быть объяснено каким-нибудь капризом. Ручаться за здравость его рассудка было нельзя. Просидев около часа, Петерс ушел на палубу и вернулся только в полдень, притащив Августу изрядный кусок солонины и пудинг. Когда мы остались одни, я разделил с ним трапезу, оставаясь за перегородкой. В течение дня никто не являлся в каюту, а с наступлением ночи я перелез к Августу на койку и проспал спокойно и крепко до рассвета, когда он разбудил меня, заслышав шум на палубе. Я поспешил убраться в свое убежище. Утром мы убедились, что Тигр почти совсем поправился и не выказывал никаких признаков водобоязни; напротив, с жадностью выпил воду, которую дал ему Август. В тот же день к нему вернулись прежняя сила и аппетит. Его странное поведение было вызвано, по всей вероятности, спертым воздухом трюма и не имело ничего общего с собачьим бешенством. Я радовался, что не бросил его в трюме.
Было 30 июня, тринадцатый день со времени нашего отплытия из Нантукета.
Второго июля помощник явился в каюту пьяный по обыкновению и в самом веселом расположении духа. Он подошел к койке и, хлопнув Августа по спине, спросил, обещается ли он вести себя хорошо и не ходить более в капитанскую каюту, если он освободит его. На это мой друг, разумеется, отвечал утвердительно; тогда негодяй освободил его, заставив наперед хлебнуть рому из фляжки, которую достал из кармана. Затем оба ушли на палубу, и я не видал Августа в течение трех часов. Наконец он вернулся с приятным известием, что ему позволено ходить всюду, только не далее большой мачты, а ночевать по-прежнему в передней каюте. Он принес мне сытный обед и большую кружку воды. Бриг все еще крейсировал в ожидании корабля с островов Зеленого Мыса; в настоящую минуту на горизонте был замечен парус, как предполагали, ожидаемого судна. Так как происшествия следующей недели не представляют ничего важного и не имеют прямого отношения к главным событиям моего рассказа, то я приведу их в форме дневника.
3 июля. — Август раздобыл для меня три одеяла, с помощью которых я устроил себе очень удобную постель в моем убежище. В течение дня никто не приходил в каюту, кроме моего друга. Тигр улегся на койке подле отверстия и спал тяжелым сном, как будто еще не совсем оправился от болезни. Под вечер сильный порыв ветра чуть не опрокинул бриг, прежде чем успели убрать парус. Впрочем, ветер тотчас же улегся и не причинил нам особенного вреда, изорвав только маленький парус на фор-марсе. Дэрк Петерс весь день относился к Августу очень ласково и долго беседовал с ним о Тихом океане и островах, которые ему случалось посещать. Он спрашивал, желает ли Август предпринять с бунтовщиками путешествие с целью открытий и развлечения в эти области, и прибавил, что экипаж понемногу переходит на сторону помощника капитана. На это Август ответил, что он охотно отправится в такое плавание, раз ничего лучшего не представляется, и что это во всяком случае предпочтительнее разбойничьей жизни.
4 июля. — Корабль, замеченный на горизонте, оказался маленьким бригом из Ливерпуля и был пропущен беспрепятственно. Август провел большую часть дня на палубе, стараясь разузнать побольше о намерениях бунтовщиков. Они часто ссорились и бранились; во время одной ссоры китобой Джим Боннер был выброшен за борт. Партия подшкипера одолевает. Джим Боннер был из шайки повара, к которой принадлежит и Петерс.
5 июля. — На рассвете поднялся сильный ветер с запада и к полудню превратился в ураган, так что на бриге были оставлены только трайсель и фок-зейль. Матрос Симс, принадлежавший к партии повара, упал пьяный с фор-марса в море и утонул; никто даже не попытался его спасти. Теперь на бриге тринадцать человек, именно: Дэрк Петерс, черный повар Пеймур, Джонс, Грили, Гартман Роджерс и Вильям Аллен из партии повара; помощник капитана, фамилию которого я так и не узнал, и его приверженцы: Абсалом Гикс, Вильсон, Джон Гент и Ричард Паркер, не считая Августа и меня.
6 июля. — Буря продолжалась весь день, сопровождаемая дождем и разражаясь по временам настоящим шквалом. Бриг дал порядочную течь; одна из помп работала беспрерывно, Август тоже должен был качать. В сумерки большой корабль прошел мимо нас и был замечен только на расстоянии человеческого голоса. Предполагают, что это был тот самый корабль, на который метили бунтовщики. Помощник капитана окликнул его, но рев бури заглушил ответ. В одиннадцать часов боковой шквал сорвал часть обшивки с левого борта и причинил другие мелкие повреждения. К утру прояснило, и на восходе солнца ветер почти затих.
7 июля. — Весь день сильное волнение; плохо нагруженный бриг страшно раскачивался, и я слышал из своего убежища, как вещи перекатывались в трюме. Я жестоко страдал от морской болезни. Петерс долго разговаривал с Августом, сообщил, что Грили и Аллен перешли на сторону помощника капитана и решились сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, которые тот не вполне понял. Течь на корабле увеличилась, и мало надежды исправить повреждение, так как вода пробирается в швы. Щель на носу заткнули парусом, после этого течь уменьшилась, и мы могли откачать воду.
8 июля. — Легкий бриз поднялся на рассвете с востока. Помощник капитана направил бриг к юго-западу, к Антильским островам, имея в виду осуществление своих разбойничьих замыслов. Ни Петерс, ни повар не стали спорить; по крайней мере, Август не слыхал возражений с их стороны. Мысль о захвате корабля с островов Зеленого Мыса оставлена. Воду откачивала одна помпа, действуя по три четверти часа каждый час. Парус из носовой щели вынули. В течение дня окликнули две небольшие шхуны.
9 июля. — Прекрасная погода. Весь экипаж занят починкой обшивок. Петерс снова имел продолжительный разговор с Августом и на этот раз объяснился откровеннее. Он сказал, что ни в каком случае не перейдет на сторону помощника капитана, и даже намекнул, что не прочь отнять у него команду. Спросил, согласится ли Август помогать ему, на что тот без колебаний отвечал «да». Тогда Петерс обещал поспрашивать на этот счет остальных и ушел. В этот день Августу не удалось поговорить с ним еще раз.
ГЛАВА VII[править]
10 июля. — Окликнули корабль, шедший из Рио-де-Жанейро в Норфолк. Погода пасмурная, легкий порывистый ветер с востока. Сегодня умер Гартман Роджерс; с ним сделались судороги еще восьмого июля после стакана грога. Он принадлежал к партии повара и был самым надежным помощником Петерса. Последний сообщил Августу, что подозревает помощника капитана в отравлении Роджерса и ожидает такой же участи для себя, если только не будет настороже. Теперь на его стороне остались только Джонс и повар; к противоположной партии принадлежат пятеро. Он говорил Джонсу о своем намерении отобрать команду у помощника капитана; но так как этот проект был принят очень холодно, то он не решился настаивать и не говорил об этом с поваром. И хорошо сделал, потому что в тот же день вечером повар заявил о своем намерении присоединиться к противнику и формально перешел на его сторону, а Джонс поссорился с Петерсом и дал ему понять, что подшкипер узнает о его замыслах. Очевидно, нельзя было терять времени, и Петерс объявил, что непременно попытается завладеть бригом, если только Август ему поможет. Мой друг изъявил свое полное согласие и счел этот момент удобным, чтобы сообщить о моем присутствии на бриге. Метис был не столько удивлен, сколько обрадован этим известием, так как не рассчитывал на Джонса, который очевидно гнул на сторону помощника капитана. Затем они сошли в каюту; Август позвал меня, и мы познакомились с Петерсом. Решено было, что мы попытаемся овладеть кораблем при первом удобном случае, не принимая Джонса в сообщники. В случае успеха высадимся в ближайшем порту. Ссора с товарищами лишала Петерса возможности предпринять плавание по Тихому океану, это немыслимо без экипажа, но он рассчитывал избавиться от суда по невменяемости (он клялся всеми святыми, что принял участие в бунте под влиянием помешательства) или, в случае осуждения, испросить помилование на основании заявлений Августа и моих. Наше совещание было прервано криком: «Все наверх крепить паруса», заставившим Августа и Петерса броситься на палубу.
По обыкновению команда была пьяна и не успела убрать паруса, как сильный шквал положил корабль на бимсы. Однако он выпрямился, черпнув порядком воды. Едва успели привести все в порядок, налетел новый шквал, там еще, эти, впрочем, не причинили вреда. По всему было видно, что собирается буря. И точно: скоро поднялся страшный ветер с северо-запада. Паруса были убраны как можно тщательней, и мы по обыкновению легли в дрейф с одним фок-зейлем. К ночи ветер и волнение усилились. Петерс с Августом вернулись в переднюю каюту, и мы продолжали наше совещание.
Мы все соглашались, что настоящая минута — самая благоприятная для осуществления наших замыслов, тем более что именно теперь никто не мог ожидать какой-либо попытки в этом роде с нашей стороны. Паруса были убраны, следовательно, не было надобности маневрировать до наступления хорошей погоды; в случае успеха нашей попытки, мы могли бы освободить одного или двух из наших противников с условием помочь нам провести корабль в порт. Главное затруднение заключалось в неравенстве сил. Нас было трое против девяти. Все оружие находилось в их распоряжении, кроме пары пистолетов, которые припрятал Петерс, и большого матросского ножа, с которым он никогда не расставался. По некоторым признакам — например, по тому, что все топоры и ганшпуги были спрятаны — мы догадывались, что помощник капитана подозревал Петерса и, следовательно, не упустит случая отделаться от него. Ясно было, что нам давно пора приняться за осуществление нашего плана. Но шансы на успех были так слабы, что требовалась крайняя осторожность.
Петерс предложил следующий план: он отправится наверх, заведет разговор с вахтенным (Аллен) и постарается без шума спровадить его за борт; затем мы выйдем на палубу, вооружимся чем придется и займем трап, прежде чем наши враги начнут сопротивление. Я возражал против этого плана, так как не думал, что помощник капитана (человек очень ловкий во всем, что не касалось его предрассудков) так легко попадется в ловушку. Одно то обстоятельство, что на палубе был поставлен вахтенный, доказывало, что наш враг начеку — вахтенных не ставят, когда корабль лежит в дрейфе, разве на таких судах, где царствует строжайшая дисциплина. Так как я пишу главным образом, если не исключительно для лиц, совершенно незнакомых с мореплаванием, то считаю не лишним сделать кое-какие пояснения. «Ложиться в дрейф» — мера, принимаемая при различных обстоятельствах и на разный лад. В хорошую погоду это делается для того, чтобы остановить корабль — дождаться другого судна и т. п. Но мы имеем в виду дрейфование при сильном ветре. Это делается, когда ветер противный и слишком силен, чтобы можно было поднять паруса, не рискуя опрокинуться; иногда это делается и при попутном ветре, но сильном волнении. Если корабль идет на фордевинд при сильном волнении, то много вреда ему приносят толчки и захлестывание воды через корму. Поэтому в таких случаях почти всегда убирают паруса. Если корабль дал течь, то его нередко оставляют под парусами даже при сильнейшем волнении, так как при дрейфе трещины расширяются сильнее, чем на ходу. Часто также оказывается необходимым пустить корабль на фордевинд, потому что ураган грозит изорвать на клочки парус, с помощью которого корабль направляют носом к ветру, или вовсе нельзя исполнить этого последнего и важнейшего маневра вследствие каких-либо недостатков в конструкции корабля.
Корабли при ветре ложатся в дрейф на различный лад сообразно своей конструкции. Иные с помощью фок-зейля, и, кажется, этот парус употребляется чаще всех. На больших судах с четырехугольными парусами имеются для этой цели особые паруса, так называемые штормовые стаксели. Иногда поднимают кливер или кливер и фок-зейль, или фок-зейль, или фок-зейль на двойных рифах, нередко пользуются и задними парусами. Парус на фор-марсе часто лучше всех других удовлетворяет этому назначению. На «Грампусе» пользовались фок-зейлем, взяв его на все рифы. Собираясь лечь в дрейф, поворачивают корабль носом к ветру, чтобы парус надувался ветром, будучи положен на стеньгу, то есть поставлен диагонально поперек корабля. Раз это сделано, нос уклоняется лишь на несколько градусов от линии направления ветра, и сторона носа, обращенная к ветру, должна выдерживать главный напор волн. В таком положении хороший корабль выдержит очень сильный ураган, не зачерпнув ни капли воды и не требуя особенных забот со стороны экипажа. Руль обыкновенно принайтовывают, но в этом нет надобности (если не обращать внимания на шум, производимый оставленным на свободе рулем), потому что он и без того не имеет значения для судна, лежащего в дрейфе. Даже лучше оставить его на свободе, потому что в этом случае волнам не так легко сорвать его. Пока цел парус, корабль хорошей постройки будет сохранять свое положение и выдерживать сильнейшее волнение как существо, одаренное жизнью и разумом. Но если ветер изорвет парус (это случается обыкновенно лишь при сильнейшем урагане), тогда положение становится очень опасным. Корабль уклоняется от ветра и становится игрушкой волн; единственное средство в таких случаях — направить его против ветра с помощью какого-нибудь другого паруса. Иные корабли ложатся в дрейф вовсе без парусов, но на них нельзя полагаться.
Но вернемся к рассказу. Раньше помощник капитана не ставил вахтенного, когда корабль ложился в дрейф, и отступление от этого правила плюс отсутствие топоров и ганшпугов заставляло нас думать, что противники настороже и вряд ли попадутся врасплох. Однако необходимо было на что-нибудь решиться и, как можно скорее, так как, если подозрение против Петерса уже возникло, то, несомненно, его попытаются укокошить при первом удобном случае, а случай, конечно, представится во время бури.
Август заметил было, что если Петерс под каким-нибудь предлогом сдвинет цепь с люка в каюте Августа, то мы можем пробраться туда через трюм; но минутное размышление убедило нас, что при такой качке и тряске подобная попытка неосуществима.
К счастью, у меня явилась наконец мысль подействовать на суеверный страх и преступную совесть помощник капитана. Как уже известно читателю, утром скончался один матрос, Гартман Роджерс, заболевший два дня назад после того, как выпил стакан грога. Петерс уверял, что его отравил помощник капитана и что у него, Петерса, есть на это несомненные доказательства. Какие именно, он не пожелал сообщить нам, что, впрочем, вполне согласовывалось с его странным характером. Во всяком случае, существовали эти доказательства или нет, мы вполне разделяли подозрения Петерса и сообразно с этим решились действовать.
Роджерс умер часов в одиннадцать утра в страшных судорогах; и тело его спустя несколько минут после смерти приняло самый страшный и отвратительный вид, какой только можно себе представить. Живот страшно вздулся, как у утопленника, пробывшего под водой несколько недель. Руки тоже распухли, тогда как лицо скорчилось, съежилось и приняло меловой оттенок, за исключением двух или трех ярко-красных пятен, какие бывают при роже; одно из них проходило наискось через все лицо, совершенно закрывая глаз, точно повязка из красного бархата. В таком безобразном состоянии тело было перенесено из каюты на палубу с тем, чтобы бросить его в море, когда помощник капитана, увидав труп (до сих пор он не видал его) и терзаемый угрызениями совести или пораженный ужасом при виде такого страшного зрелища велел зашить покойника в саван и похоронить, как это принято на море.
Отдав распоряжение, он ушел вниз, чтобы не видеть тела. Пока матросы исполняли его приказание, налетел шквал, и погребение было отложено. Тело, брошенное на произвол судьбы, попало в желоб бакборда, где и оставалось в то время, о котором я рассказываю. Обсудив наш план, мы немедленно принялись за его осуществление. Петерс вышел на палубу, где сейчас же наткнулся на Аллена, сторожившего, по-видимому, скорее переднюю каюту, чем бриг. Судьба этого негодяя, впрочем, скоро свершилась; подойдя к нему с беззаботным видом, Петерс неожиданно схватил его за горло и, прежде чем тот успел пикнуть, выбросил за борт. Затем он кликнул нас, и мы поднялись наверх. Прежде всего мы стали искать какое-нибудь оружие, что оказалось нелегко, так как на палубе можно было стоять, только ухватившись за что-нибудь, и волны то и дело перекатывались через нее. В то же время необходимо было торопиться, так как помощник капитана каждую минуту мог выслать людей к помпам. Мы не нашли ничего, кроме двух ручек от насоса; одну взял Август, другую я. Затем мы сняли рубашку с покойного Роджерса и выбросили тело за борт. После этого я и Петерс вернулись вниз, а Август остался на палубе, став на место Аллена и повернувшись спиной к каюте, чтобы шайка помощника капитана не могла узнать его сразу, если вздумает подняться наверх.
Спустившись в каюту, я немедленно переоделся, стараясь выглядеть как покойник Роджерс. Рубашка, снятая с трупа, очень пригодилась при этом, так как была странного, бросающегося в глаза фасона — род блузы, которую покойный надевал поверх прочей одежды, голубая с белыми шнурками. Надев ее, я соорудил себе с помощью тряпья громадное брюхо в подражание ужасному раздувшемуся животу трупа. Затем придал соответственный вид рукам, надев белые шерстяные перчатки и набив их тряпьем. После этого Петерс разрисовал мне физиономию, натерев ее мелом и запачкав кровью, которую добыл из собственного пальца. Полоса, проходившая через глаз, не была забыта и придавала лицу самый ужасный вид.
ГЛАВА VIII[править]
Когда я поглядел на себя в осколок зеркала при тусклом свете фонаря, мной овладел такой ужас при воспоминании о том человеке, которого я копировал, что я задрожал, как лист, и готов был отказаться от своей роли. Но колебаться не приходилось, и мы с Петерсом отправились на палубу.
Тут все обстояло благополучно, и мы поползли, придерживаясь за борт, к лестнице в главную каюту. Дверь была притворена, но не совсем: на верхней ступеньке лестницы лежали дрова, не позволявшие закрыть ее плотнее. Заглянув в щель, мы легко могли осмотреть внутренность каюты. Хорошо, что мы не вздумали захватить шайку врасплох: они, очевидно, приготовились к нападению. Только один спал у самой лестницы, положив под руку заряженное ружье. Остальные сидели на матрацах, вынутых из коек и разложенных на полу. Они были заняты каким-то серьезным разговором и, судя по пустым бутылкам и оловянным кружкам, разбросанным по полу, проводили время весело, однако не казались особенно пьяными. Ножи, пистолеты и целая куча ружей лежали на койке поблизости.
Мы прислушивались к их разговору, не зная, что предпринять, так как еще не выработали план действий, решившись только напугать их привидением Роджерса. Они обсуждали свои пиратские замыслы; насколько мы могли понять, у них явился новый план: соединиться с экипажем какой-то шхуны «Шершень», овладеть, если возможно, этой шхуной, а затем пуститься в более крупное предприятие, характер которого оставался для нас неясным.
Один из матросов завел речь о Петерсе, а другой отвечал ему шепотом и в заключение прибавил громко, что он «не понимает, что такое они делают на баке с капитанским отродьем и что хорошо бы поскорее спровадить обоих за борт». Ответа не последовало, но мы не могли не заметить, что предложение пришлось по душе компании, в особенности Джонсу. Я был крайне взволнован, тем более, что ни Август, ни Петерс, по-видимому, не знали, что предпринять. Во всяком случае я решился продать жизнь как можно дороже и не поддаваться страху.
Страшный шум ветра, завывавшего в снастях, и валов, перекатывавшихся через палубу, заглушал слова матросов; мы могли разобрать разговор только урывками в минуты затишья. В одну из таких минут мы ясно услышали, как помощник капитана приказал матросу «сходить и посмотреть, что делают эти проклятые бездельники, и велеть им явиться в каюту, так как он, подшкипер, не намерен допускать секретов у себя на бриге». К счастью для нас, качка в эту минуту была так сильна, что приказание не могло быть исполнено немедленно. Повар поднялся было на ноги, но страшный толчок швырнул его в дверь соседней каюты, что создало немалую суматоху. Мы кое-как удержались на местах и успели добраться до бака, прежде чем посланный явился, то есть высунул голову из люка, на палубу он не выходил. Заметив на вахте человеческую фигуру и приняв ее за Аллена, он во все горло передал ему распоряжение начальника. Петерс, изменив голос, отвечал: «Ладно».
Повар спустился обратно в уверенности, что все обстоит благополучно.
После этого мои товарищи смело отправились в капитанскую каюту. Помощник начальника принял их с притворным радушием и сказал Августу, что ввиду его хорошего поведения он может поместиться в каюте. Затем он протянул им кружку, до половины наполненную ромом, и предложил выпить. Все это я видел и слышал в щель люка. Я захватил с собой обе ручки от насоса и держал их наготове.
Я старался как можно внимательнее следить за тем, что происходило внизу, чтобы не упустить момента и спуститься в каюту по сигналу Петерса. Он между тем завел речь о кровавых событиях бунта и мало-помалу перешел к бесчисленным суевериям, распространенным среди моряков. Я не мог разобрать его речей, но по лицам бунтовщиков видел, что этот разговор произвел на них сильное впечатление. Помощник капитана было очевидно взволнован, а когда один из матросов упомянул об ужасном виде трупа Роджерса, он казался близким к обмороку. Петерс обратился к нему с вопросом, не лучше ли выбросить труп за борт, чтобы избавиться от ужасного зрелища. На это негодяй не мог даже ответить, задыхаясь от волнения, и только обвел глазами всех, кто был в каюте, точно умоляя их исполнить предложение Петерса. Никто, однако, не шевельнулся, по лицам было видно, что нервы у всех напряжены до последней степени. Петерс подал мне знак. Я тотчас открыл люк и, безмолвно спустившись по лестнице, предстал перед ошеломленной публикой.
Впечатление, произведенное этим внезапным появлением, не покажется удивительным, если принять в соображение данные обстоятельства. Обыкновенно в подобных случаях у зрителя остается искра сомнения в реальности призрака, тень надежды, хотя бы самой слабой, что его дурачат, что перед ним ряженый, а не житель загробного мира. Можно смело сказать, что это смутное подозрение является почти всегда, что потрясающее впечатление подобных случаев зависит скорее от сомнения — что если это в самом деле призрак? — чем от непоколебимой веры в его реальность. Но в настоящем случае у бунтовщиков не могло быть и тени сомнения в том, что явившаяся перед ними фигура — оживший труп Роджерса или, по крайней мере, его призрак. Изолированное положение брига, его недоступность для посторонних вследствие урагана оставляли так мало места для обмана, что он должен был казаться невозможным команде. В течение двадцати четырех дней мы только перекликались изредка с другими судами. Вся команда собралась в каюте, за исключением Аллена, но его гигантский рост (он был шести футов шести дюймов) слишком намозолил глаза матросам, чтобы они хоть на секунду могли представить его в появившейся фигуре. Прибавьте к этому зловещий вой бури, характер разговора, затеянного Петерсом, глубокое впечатление, произведенное отвратительным видом трупа на воображение матросов, совершенство моего костюма, тусклый, трепетный свет фонаря, раскачивавшегося взад и вперед, — и вы нисколько не удивитесь, что мое появление произвело даже более сильное действие, чем мы ожидали. Помощник капитана вскочил с матраца, на котором лежал, и, не молвив слова, грохнулся замертво на пол. Из остальных семи только трое обнаружили некоторое присутствие духа. Четверо других точно приросли к полу — я в жизнь свою не видел такой жалкой растерянности и ужаса. Мы встретили сопротивление — да и то слабое и нерешительное — только со стороны повара, Джона Гента и Ричарда Паркера. Первых двух Петерс застрелил немедленно, а я повалил Паркера ударом ручки от насоса по голове. Тем временем Август схватил ружье, лежавшее на полу и выстрелил одному из бунтовщиков (Вильсону) в грудь. Теперь оставалось только трое, но они успели несколько оправиться и, может быть, начинали догадываться об обмане, по крайней мере, дрались отчаянно, и только благодаря чудовищной силе Петерса нам удалось одержать верх. Эти трое были Джонс, Грили и Абсалом Гикс. Джонс повалил Августа на пол, нанес ему несколько ран в правую руку и, вероятно, покончил бы с нами (так как я и Петерс не могли сразу расправиться с нашими противниками), если б на выручку ему не явился друг, на которого мы вовсе не рассчитывали. Этим другом оказался Тигр. Ринувшись в каюту с глухим рычаньем в самую критическую для Августа минуту, он бросился на Джонса и в одно мгновение повалил его на пол. Однако мой друг Август был слишком изранен, чтобы явиться мне на помощь, а меня крайне стеснял мой костюм; собака же не выпускала Джонса. Но у Петерса хватило силы расправиться с обоими оставшимися противниками, и, конечно, он покончил бы с ними еще быстрее, если б не страшная качка корабля и теснота помещения. Он схватил тяжелую скамейку и размозжил голову Грили, когда тот прицелился в меня из ружья; затем сильным толчком его отбросило к Гиксу, которого он схватил за горло и задушил почти мгновенно. Таким образом мы сделались господами брига гораздо скорее, чем я рассказал.
Из наших противников оставался в живых только Ричард Паркер. Если помните, я повалил его ударом по голове в самом начале схватки. Теперь он лежал недвижимо на полу каюты, но когда Петерс толкнул его ногой, он заговорил, умоляя о пощаде. Удар только оглушил его на время, но не ранил серьезно. Теперь он очнулся, и мы для безопасности скрутили ему руки за спиной. Собака все еще рычала, ухватив Джонса за горло; осмотрев его, мы убедились, что он умер; кровь ручьем струилась из глубокой раны, нанесенной острыми зубами Тигра.
Был час пополуночи, и буря все еще страшно бушевала. Бриг, очевидно, слишком отяжелел; необходимо было его облегчить. Почти с каждой волной он черпал воду, которая проникла и в каюту, так как я оставил открытым люк. Обшивку правого борта сорвало, как и шлюпку на корме. Скрип и треск грот-мачты доказывали, что и она недолго продержится. Чтобы выгадать побольше места в нижнем трюме, основание мачты было укреплено между верхней и нижней палубами (самый скверный способ установки мачт, практикуемый иногда плохими судостроителями), так что она грозила вылететь из степса. К довершению бед мы набрали воды на семь футов.
Оставив тела убитых в каюте, мы немедленно взялись за помпы. Паркера тоже развязали и заставили приняться за работу. Августу перевязали, как умели, израненную руку, и он делал все, что мог, то есть очень мало. Во всяком случае мы убедились, что можем справиться с течью, работая беспрерывно. Так как нас было всего четверо, то работа оказалась тяжелой, но мы старались не падать духом и с беспокойством ожидали рассвета, чтобы облегчить бриг, срубив грот-мачту.
Мы провели ночь в страшной тревоге и утомительной работе. Наутро буря не только не ослабела, но, по-видимому, и не собиралась ослабевать. Мы вытащили тела на палубу и выбросили их за борт. Нашей ближайшей задачей было срубить грот-мачту. После необходимых приготовлений Петерс принялся рубить мачту (топоры он нашел в каюте). Так как корабль страшно накренялся в подветренную сторону, то решено было обрубить тали с наветренного борта, после чего вся масса дерева и снастей рухнула в море, не причинив существенного вреда бригу. Корабль несколько облегчился, но наше положение все-таки оставалось крайне затруднительным, и, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать воду, работая на двух помпах. Август почти не мог помогать нам. В довершение всего сильное волнение вывело бриг из его прежнего положения, и прежде чем он успел установиться как следует, новый вал положил его плашмя. Балласт скатился на подветренную сторону (груз давно швыряло туда и сюда), и в течение нескольких мгновений мы были уверены, что опрокинемся. Наконец бриг несколько выпрямился, но балласт по-прежнему оставался ближе к бакборту, и мы черпали столько воды, что помпы оказывались совершенно бесполезными, тем более что и руки наши почти онемели, потрескались и сочились кровью.
Вопреки совету Паркера, мы решились срубить фок-мачту и с большим трудом исполнили эту работу. Падая за борт, она сорвала бушприт, так что от нашего корабля остался только голый корпус.
До сих пор мы могли утешаться хоть тем, что у нас уцелела большая шлюпка, совершенно не поврежденная бурей. Но недолго пришлось нам утешаться; после того как фок-мачта рухнула за борт вместе с фок-зейлем, с помощью которого мы могли бы сохранять надлежащее положение, бриг сделался игрушкой волн, и не прошло нескольких минут, как они очистили палубу догола, смыв шлюпку, сорвав левый борт и даже разбив вдребезги ворот. Словом, мы очутились в самом жалком положении.
К полудню ветер начал как будто утихать, но мы напрасно надеялись: через несколько минут буря завыла с удвоенным бешенством. К четырем часам ветер до того усилился, что не было никакой возможности держаться на ногах, а когда наступила ночь, я потерял всякую надежду, что бриг устоит до утра.
К полуночи мы сидели очень глубоко в воде, доходившей теперь до нижней палубы. Вскоре затем сорвало руль страшным валом, который поднял корму над водой; спустя мгновение корабль шлепнулся обратно с таким грохотом, какой бывает при крушении. Мы рассчитывали, что руль выдержит до конца, потому что он отличался необыкновенной прочностью и особенным устройством, какого мне не приходилось видеть ни раньше, ни после. Вдоль главного бруса шел ряд крепких железных крючьев и такой же вдоль ахтер-штевня. Сквозь эти крючья проходил рычаг кованой стали; руль, прикрепленный таким образом к ахтер-штевню, свободно двигался на рычаге. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить по тому, что все крючья ахтер-штевня, проходившие насквозь и заклепанные на нижней стороне, были вырваны из дерева начисто.
Не успели мы перевести дух после страшного толчка, как новый вал обдал палубу, сорвал трап и наполнил корабль водой.
ГЛАВА IX[править]
К счастью, при наступлении ночи мы привязали себя к остаткам ворота и лежали на палубе плашмя. Эта предосторожность спасла нас от гибели. Отдышавшись, я окликнул товарищей. Мне ответил только Август словами: «Все кончено, да помилует Бог наши души». Мало-помалу оправились остальные двое и советовали нам не терять присутствия духа, так как еще оставалась надежда: груз был такого рода, что корабль не мог утонуть, а к утру буря скорее всего должна стихнуть. Эти слова вдохнули в нас новую жизнь. Странно, хотя я очень хорошо понимал, что корабль, нагруженный пустыми бочками из-под сала, не может утонуть, но совершенно упустил это из виду и ожидал с минуты на минуту, что мы пойдем ко дну. Ободрившись, я пользовался каждой удобной минутой, чтобы прикрепить себя получше к брашпилю, и вскоре заметил, что мои товарищи заняты тем же самым. Ночь была чернее тюрьмы, а страшный вой, грохот и рев бушевавшего моря не поддается никакому описанию. Наша палуба находилась на одном уровне с морем, точнее, мы были окружены грядой пены, которая то и дело заливала нас. Без всякого преувеличения, наши головы оставались над водой разве одну секунду из трех. Хотя мы лежали бок о бок, но не могли видеть друг друга, так же, как и сам бриг, на котором нас так страшно качало. По временам мы окликали друг друга, стараясь поддержать надежду и ободрить того, кто падал духом. Август с его израненной рукой был предметом нашего общего беспокойства; он, понятно, не мог привязать себя достаточно крепко, и мы каждую минуту ожидали, что его снесет за борт, а помочь ему решительно не могли. К счастью, его положение было не так опасно, как наше: тело его защищалось обломком брашпиля, значительно ослаблявшем силу валов. Не попади он на это место (совершенно случайно), ему, конечно, несдобровать бы до утра. Положение корабля вообще благоприятствовало нам. Как я уже говорил, он сильно накренился на левый борт, так что палуба почти до половины находилась в воде. При таком положении брига волны, ударявшие в правый борт, разбивались, не достигая нас, а поднимавшиеся слева не могли причинить нам особенного вреда вследствие нашего положения.
В таком отчаянном состоянии мы дожидались рассвета, который только еще яснее обнаружил перед нами окружавшие нас ужасы. Бриг превратился в простое бревно, носившееся туда и сюда по прихоти волн; ветер усиливался, превратившись в настоящий ураган, и для нас не оставалось, по-видимому, никакой надежды на спасение. Несколько часов мы пролежали молча, с минуты на минуту ожидая, что веревки, привязывавшие нас к брашпилю, лопнут или остатки самого брашпиля будут смыты за борт, или какой-нибудь из гигантских валов, вздымавшихся вокруг нас и над нами, окунет корпус брига так глубоко, что мы захлебнемся, прежде чем вынырнем. Но милосердием Божьим мы избавились от такой участи, а около полудня выглянуло и пригрело нас благодатное солнце. Вскоре ветер значительно ослабел, и Август, заговорив в первый раз со вчерашнего вечера, спросил у Петерса, лежавшего рядом с ним, надеется ли он на спасение. Метис не отвечал, и мы подумали было, что он захлебнулся; однако спустя некоторое время он заговорил к великой нашей радости, хотя очень слабым голосом, жалуясь на нестерпимую боль от веревок, которые врезались ему в живот. Он уверял, что если не разрежет их, то умрет, так как не в силах выносить более эту муку. Помочь ему не было возможности, пока волны перекатывались через палубу. Мы уговаривали его потерпеть. Он отвечал, что скоро будет поздно; что он умрет прежде, чем мы успеем помочь ему; а затем, постонав несколько минут, умолк, из чего мы заключили, что он умер. К вечеру море стихло настолько, что валы набегали на судно приблизительно каждые пять минут, не чаще; ветер утих, хотя вся еще давал себя чувствовать. Я не слышал моих товарищей в течение нескольких часов и теперь окликнул Августа. Он отвечал, но очень невнятно, так что я не мог разобрать его слов. Я обратился к Петерсу и Паркеру, но ни тот, ни другой не ответили.
Я впал в состояние полузабытья, полного самых очаровательных видений: мне грезились зеленые деревья, волнующиеся нивы, хороводы танцующих девушек, группы всадников и тому подобные картины. Как я припоминаю теперь, главной чертой их было движение. Мне ни разу не пригрезился неподвижный предмет, например дом, или гора, или что-нибудь подобное; передо мной бесконечной вереницей проносились ветряные мельницы, корабли, огромные птицы, воздушные шары, всадники, экипажи, мчавшиеся во весь опор. Когда я очнулся, солнце уже поднялось довольно высоко; насколько я мог сообразить, прошло не менее часа после восхода. Мне стоило немалых усилий сообразить, где я и что со мной, и в течение некоторого времени я был в полной уверенности, что лежу в трюме подле ящика бок о бок с Тигром, за которого я принимал тело Паркера.
Наконец, очнувшись совершенно, я убедился, что море почти успокоилось. Моя левая рука отвязалась от брашпиля и была сильно ушиблена повыше локтя; правая совсем онемела, а кисть страшно распухла от веревки. Другая веревка, которую я обвязал вокруг талии, тоже затянулась и причиняла мне жестокие страдания. Взглянув на своих товарищей, я убедился, что Петерс еще жив, хотя веревка до такой степени перетянула ему живот, что, казалось, перерезала его пополам; когда я пошевелился, он сделал слабое движение рукой, указывая на веревку. Август не подавал признаков жизни и лежал, скорчившись на обломке брашпиля. Паркер спросил, хватит ли у меня силы освободить его от пут, прибавив, что я должен постараться сделать это, иначе мы все погибнем. Я сказал, что постараюсь помочь ему, пусть только он потерпит. Затем я достал из кармана перочинный нож и после нескольких тщетных попыток успел-таки открыть его. После этого перерезал левой рукой веревку на правой, а там и все свои путы. Но, попытавшись встать, я убедился, что ноги не слушаются меня, как и правая рука. Когда я сказал об этом Паркеру, он посоветовал мне полежать несколько минут спокойно, придерживаясь левой рукой за брашпиль, пока не восстановится кровообращение. Я так и сделал, и вскоре онемение стало проходить, так что сначала я пошевелил одной ногой, потом другой, а затем и правой рукой. Тогда я подполз к Паркеру и перерезал его веревки, после чего он тоже вскоре получил способность владеть своими членами. Теперь мы поспешили освободить Петерса. Веревка разрезала его шерстяные панталоны, обе рубашки и впилась в пах, откуда кровь так и хлынула, когда мы перерезали наконец его узы. Но лишь только мы освободили его, он заговорил и, по-видимому, сразу почувствовал сильное облегчение, двигаясь гораздо свободнее, чем мы, вероятно, вследствие кровотечения.
Мы не надеялись привести в чувство Августа, так как он не подавал признаков жизни. Но, осмотрев его, мы убедились, что он только лишился чувств от потери крови, так как вода смыла перевязки с его ран. Веревки, привязывавшие его к брашпилю, были затянуты так слабо, что не могли стать причиной смерти. Отвязав и вытащив тело из-под обломков брашпиля, мы перетащили его на сухое место, положили так, чтобы голова приходилась несколько ниже туловища, и принялись растирать. Спустя полчаса он пришел в себя, но долго еще, до следующего утра, Не узнавал нас и не мог говорить. Пока мы освобождались от своих уз, наступил вечер, и снова стали собираться тучи, так что мы опять пришли в отчаяние: поднимись теперь ураган, нам бы, конечно, с ним не сладить. К счастью, ветер всю ночь оставался слабым, и море мало-помалу успокаивалось, воскрешая в нас надежду на спасение. Легкий ветерок по-прежнему дул с северо-запада, но погода была довольно теплая. Мы хорошенько привязали Августа к брашпилю, чтобы он не скатился за борт при качке брига, так как держаться он не мог от слабости. Остальные же могли обойтись без этой меры предосторожности. Мы уселись поплотнее в кучку и держались за веревки, привязанные к брашпилю, толкуя, каким способом избавиться от нашего ужасного положения. Нам стало легче после того, как удалось снять и высушить платье. Это замечательно согрело и ободрило нас. Августу мы тоже помогли раздеться и выжали его платье, после чего он почувствовал сильное облегчение.
Больше всего терзали нас голод и жажда, и когда мы думали, что с этим делать, то начинали сожалеть, что нас не постигла более легкая смерть в волнах. Мы, однако, старались утешить себя надеждой, что какой-нибудь корабль заметит нас вовремя, и уговаривали друг друга не поддаваться унынию.
Наконец забрезжило утро четырнадцатого июля; погода по-прежнему стояла ясная и теплая, со свежим, но легким северо-западным ветерком. Море успокоилось совершенно, и так как бриг несколько выпрямился и палуба обсохла, то мы могли двигаться по ней довольно свободно. Мы ничего не ели и не пили более трех суток; необходимо было попытаться достать что-нибудь снизу. Но бриг был так переполнен водой, что попытка не обещала успеха. Мы устроили нечто вроде драги из двух деревяшек, связанных крест-накрест, вколотив в них несколько гвоздей, которые нашлись в обломках трапа. Привязав эту штуку к веревке, мы закинули ее в каюту и волочили взад и вперед со слабой надеждой выловить что-нибудь съедобное. В этой работе Мы провели большую часть утра, но поймали только несколько одеял, зацепившихся за гвозди. Да и трудно было рассчитывать на больший успех с таким неуклюжим снарядом.
Мы попытались выловить что-нибудь из передней каюты, но успех был тем же. Тогда Петерс вздумал спуститься в каюту, обвязавшись веревкой. Мы, конечно, с радостью приняли этот проект, ожививший наши надежды. Он тотчас же скинул с себя все, кроме панталон, и мы обвязали его веревкой вокруг талии и через плечо, так что она никоим образом не могла соскользнуть. Предприятие было трудное и опасное, так как, не найдя провианта в каюте, что было весьма вероятно, пришлось бы пробираться под водой по узкому проходу в десять или двенадцать футов длиной в кладовую, добыть в ней съестных припасов и таким же порядком вернуться обратно. Обвязавшись веревкой, Петерс спустился в каюту по лестнице, пока вода не дошла ему до подбородка, затем нырнул головой вниз, стараясь пробраться направо, к кладовой. Первая попытка, однако, оказалась совершенно безуспешной. Не прошло полминуты, как он сильно дернул за веревку (сигнал, по которому мы должны были вытаскивать его). Мы тотчас потащили его, но так неосторожно, что он жестоко ушибся о лестницу. Он ничего не достал и не мог пробраться по коридору, так как вода подкинула его вверх к палубе. Он явился наверх в изнеможении и отдыхал добрую четверть часа, прежде чем решился на вторую попытку.
Она увенчалась еще меньшим успехом; Петерс оставался под водой так долго, не подавая сигнала, что мы, наконец, встревожились и вытащили его почти без чувств. Оказалось, что он несколько раз дергал веревку, но мы не слыхали сигнала, наверное веревка зацепилась за перила лестницы. Эти перила так мешали нам, что мы решились обломать их, а потом уже приступить к дальнейшим попыткам. Так как у нас не было другого орудия, кроме собственных рук, то мы спустились по лестнице как можно глубже, налегли общими силами на перила и наконец сорвали их.
Третья попытка также осталась безуспешной, и нам стало ясно, что исполнить план Петерса возможно только с помощью какой-нибудь тяжести, без которой водолазу не удержаться на полу. Долго мы искали что-нибудь подходящее, наконец, к великой нашей радости заметили, что один из фок-русленей почти оторвался, так что нам ничего не стоило оторвать его совсем. Привязав его к ноге, Петерс снова нырнул и на этот раз добрался до кладовой. К его невыразимому огорчению последняя оказалась запертой. Пришлось вернуться обратно, так как Петерс не мог пробыть под водой больше минуты. Теперь наше положение не на шутку казалось отчаянным, и мы с Августом не могли удержаться от слез. Но это была минутная слабость. Мы кинулись на колени и молили Бога не оставить нас в опасности. Молитва возродила в нас надежду и силы, и мы снова принялись обсуждать средства к спасению.
ГЛАВА X[править]
Потом случилось происшествие, которое кажется мне самым потрясающим, — по той невыразимой радости, которую оно возбудило в нас сначала, и невыразимому ужасу, которым сменилась эта радость, — самым потрясающим из всех приключений, испытанных мною в течение девяти долгих лет, приключений поразительных, неслыханных, непостижимых. Мы лежали на палубе подле входа в главную каюту, рассуждая, как бы пробраться в камбуз, когда, взглянув на Августа, я заметил, что он лежит бледный, как мертвец, с дрожащими губами. Испугавшись, я заговорил с ним, но он ничего не ответил, и я уже думал, что с ним случился припадок болезни, но обратил внимание на его глаза, уставившиеся в одну точку позади меня. Я оглянулся. Никогда не забуду безумной радости, пронизавшей все мое существо, когда я увидел огромный бриг, шедший прямо на нас и находившийся всего в двух милях. Я вскочил, точно пуля внезапно ударила меня в сердце и, протянув руки к кораблю, стоял неподвижно, лишившись языка. Петерс и Паркер тоже увидели бриг, но волнение у каждого выразилось различно. Первый пустился в пляс, выкидывая самые невозможные штуки, издавая дикие восклицания и междометия, тогда как второй залился слезами и в течение нескольких минут плакал как дитя.
Замеченный нами корабль был большой двухснастный бриг, голландской постройки, выкрашенный в черную краску, с пестрым вызолоченным резным носом. Он, очевидно, сильно пострадал от непогоды быть может, от той самой бури, которая принесла нам столько вреда, так как потерял фок-мачту и часть левого борта. Когда мы заметили его, он, как я уже сказал, находился в двух милях от нас и направлялся к нам. Ветер был очень слабый, и нас крайне удивило, что на корабле были подняты только фок-зейль, грот и бом-кливер, — понятно, что он двигался очень медленно, и наше нетерпение доходило до судорог.
При всем своем возбуждении мы не могли не обратить внимания на то, что бриг идет как-то странно. Бриг шел к нам, но вдруг отклонился от курса. Так повторилось несколько раз. Мы готовы были думать, что на бриге либо вовсе не заметили нас, либо, заметив, но не видя людей на палубе, решили идти своим путем. Тогда мы начинали кричать во всю глотку, и корабль поворачивал в нашу сторону, — это странное явление повторилось два или три раза, так что мы решили наконец, что рулевой попросту пьян.
Никого не было видно на палубе, пока корабль не подошел на четверть мили. Тут мы заметили на нем трех человек, судя по одежде, голландцев. Двое лежали на куче старых парусов на баке, а третий стоял у бушприта, наклонившись над левым бортом и глядя на нас, по-видимому, с величайшим любопытством. Это был рослый, дюжий мужчина, очень смуглый. Казалось, он старался ободрить нас веселыми, хотя странными жестами, кивая головой, смеясь и оскаливая свои блестящие белые зубы. Когда корабль подошел ближе, мы заметили, что красная шапочка, прикрывавшая его голову, свалилась в море, но он не обращал на это внимания, продолжая смеяться и жестикулировать. Я подробно описываю все эти подробности — описываю, понятно, именно так, как это нам казалось.
Бриг подходил к нам, двигаясь все тише и тише, и — я не могу спокойно рассказывать об этом происшествии — сердца наши страшно бились, и души изливались в восклицаниях восторга и благодарности Господу за это неожиданное и чудесное избавление. Как вдруг внезапно с корабля (который подошел к нам почти вплотную) донесся запах, смрад, которому нет названия, адский, удушающий, нестерпимый, невозможный. Я, задыхаясь, повернулся к товарищам; они были белее мрамора. Но времени для расспросов не было — бриг находился уже футах в пятидесяти и, по-видимому, намеревался подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы могли перейти на него без помощи шлюпки. Мы ринулись на корму, но бриг внезапно повернулся и прошел мимо нас на расстоянии двадцати футов, так что мы могли окинуть взглядом всю его палубу. Забуду ли когда-нибудь это трижды ужасное зрелище? Двадцать пять или тридцать человеческих трупов, в том числе несколько женских, валялись на палубе между кормой и кухней в состоянии самого отвратительного разложения. Мы видели ясно, что ни единой живой души не осталось на этом проклятом корабле! И все-таки мы не могли удержаться от криков о помощи! Да, мы громко и долго умоляли эти отвратительные образы не бросать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в такие же трупы, и принять в свою компанию. Мы обезумели от ужаса и отчаяния, мы не могли выдержать такого страшного разочарования.
Когда раздался наш первый отчаянный крик, нам ответил с бушприта незнакомого корабля голос, до такой степени похожий на человеческий, что самый тонкий слух не мог бы не обмануться. В эту минуту новый внезапный поворот судна открыл перед нами носовую часть, и происхождение крика сразу стало ясным для нас. Рослая фигура по-прежнему стояла, нагнувшись над бортом и кивая головой, но теперь мы не могли видеть ее лицо. Руки свешивались за борт ладонями наружу. Колени упирались в толстый канат, протянутый от основания бушприта до крамбола. На спине, выглядывавшей из-под разодранной рубахи, сидела огромная чайка и жадно клевала отвратительное мясо, запустив клюв и когти глубоко в тело и пачкая в крови свои белые перья. Когда бриг проходил мимо нас, птица с очевидным усилием вытащила из тела свою окровавленную голову и, посмотрев на нас с минуту словно в изумлении лениво поднялась с трупа и пролетела над нашей палубой с куском запекшегося, похожего на печень мяса в клюве. Этот отвратительный ком шлепнулся к ногам Паркера. Прости меня Бог, но в эту минуту в уме моем мелькнула мысль, которой я не стану передавать. Я машинально шагнул к окровавленному мясу, но, оглянувшись, встретил взгляд Августа, такой выразительный, что разом пришел в себя. Кинувшись к ужасному комку, я с омерзением выбросил его в море.
Тело, из которого он был вырван, раскачивалось и тряслось вследствие движений птицы, отчего мы и приняли его за живого человека. Когда чайка улетела, оно несколько откинулось, и мы увидели лицо трупа. Нет, никогда не видал я такого зловещего зрелища! Глаз уже не было, мясо вокруг рта обвалилась, обнажив зубы. Так эта улыбка будила в нас надежду! Так это… Нет, не буду продолжать. Как я уже сказал, бриг тихонько прошел мимо нас и медленно продолжал свой путь по ветру. С ним и его страшным экипажем исчезли наши радужные надежды на избавление. Он двигался так медленно, что мы, пожалуй, успели бы добраться до него, но жестокое разочарование и ужасное зрелище парализовали наши духовные и физические силы. Мы видели и чувствовали, но не могли ни соображать, ни действовать, а когда оправились было — увы! — слишком поздно. До чего мы помрачились рассудком под влиянием этого происшествия, можно судить по тому, что, когда бриг уже почти исчез из вида, мы серьезно обсуждали возможность достигнуть его вплавь!
С тех пор я не раз старался найти разгадку этой страшной тайны. Как я уже сказал, общий вид и постройка брига, равно как и костюмы экипажа заставляли предполагать в нем голландское торговое судно. Мы, конечно, могли бы прочесть его имя на корме и заметить другие детали, если б не были так страшно потрясены. По шафранному оттенку трупов, которые еще не успели разложиться, мы заключили, что вся команда погибла от желтой лихорадки или другой подобной же болезни. Если так (а другого объяснения я положительно не могу придумать), то, судя по положению трупов, смерть настигла их с поразительной быстротой и внезапностью, совсем иначе бывает обыкновенно при опустошительных эпидемиях. Возможно, конечно, что причиной мора были случайно отравленные съестные припасы или какая-нибудь ядовитая рыба, птица или другое морское животное… Но стоит ли придумывать бесплодные объяснения тайны, которой суждено навеки остаться необъяснимой.
ГЛАВА XI[править]
Мы провели остаток дня в тупом оцепенении, следя глазами за удаляющимся кораблем, пока наступившая темнота не скрыла его от наших взоров. Тут мы несколько пришли в себя. Муки голода и жажды заставили нас забыть обо всем остальном. Но до утра нельзя было ничего предпринять, так что мы улеглись поудобнее в надежде отдохнуть хоть немного. Сверх всякого ожидания мне удалось это, и я проспал до рассвета, когда менее счастливые товарищи разбудили меня, чтобы снова пуститься на ловлю припасов.
Стоял мертвый штиль, море было гладко, как скатерть, погода теплая и мягкая. Бриг скрылся из вида. Мы начали с того, что оторвали второй фок-руслень и привязали оба к ногам Петерса. Затем он снова спустился в каюту в надежде добраться до камбуза и выломать дверь. Это могло бы удаться, если б он добрался до двери достаточно быстро; а так как корпус брига значительно выпрямился со вчерашнего дня, то он рассчитывал на успех.
Он очень быстро добрался до камбуза и, отвязав от ноги цепь, попытался разбить дверь, но безуспешно: она оказалась гораздо прочнее, чем мы думали. Долгое пребывание под водой до такой степени изнурило его, что он не мог возобновить попытки. Кто-нибудь должен был сменить его. Паркер немедленно предложил свои услуги, но, попытавшись три раза, не успел даже добраться до двери. Израненная рука Августа делала бесполезной всякую попытку с его стороны; если бы даже ему удалось дойти до камбуза, он не мог бы разбить дверь. Таким образом, пришлось мне попытать счастья.
Петерс оставил фок-руслень в коридоре, а держаться на полу с одной только цепью было слишком трудно. Поэтому я прежде всего решился отыскать оставленную цепь. Шаря руками по полу, я нащупал какой-то твердый предмет, схватил его не разбирая, что это такое, и тотчас поднялся на палубу. Находка оказалась бутылкой и притом — можете себе представить нашу радость! — бутылкой портвейна. Поблагодарив Бога за такую своевременную помощь, мы тотчас откупорили бутылку моим перочинным ножом и, хлебнув по небольшому глотку, почувствовали невыразимое облегчение, прилив новых сил и бодрости. Затем мы закупорили бутылку и подвесили ее на носовом платке, чтоб не разбилась.
Отдохнув немного после этой счастливой находки, я снова спустился и, отыскав цепь, вернулся наверх. Привязав ее к ноге, я нырнул в третий раз и, убедившись, что дверь решительно не поддается моим усилиям, выбрался на палубу с отчаянием в душе.
Казалось, для нас не остается никакой надежды. Я видел по лицам товарищей, что они ожидают смерти. Вино привело их в состояние странного опьянения, которого я не испытывал, быть может, благодаря своему купанию. Они болтали всякий вздор о вещах, не имевших никакого отношения к нашему положению. Петерс расспрашивал меня о Нантукете. Август тоже подошел ко мне и серьезнейшим тоном попросил у меня гребенку, говоря, что в его волосы набилась рыбья чешуя и что ему не мешает прочесаться перед выходом на берег. Паркер казался трезвее и убеждал меня нырнуть еще раз и поискать, не попадется ли что-нибудь. Я послушался и, пробыв под водой не меньше минуты, вытащил кожаный чемоданчик, принадлежавший капитану Барнарду. Мы тотчас открыли его со слабой надеждой, не окажется ли там что-нибудь съестное или питейное. Но там оказался только бритвенный прибор и две рубашки. Я снова отправился на поиски и на этот раз вернулся с пустыми руками. Высунув голову из воды, я услышал на палубе звон разбитого стекла, а выйдя из каюты, убедился, что мои товарищи по-свински воспользовались моим отсутствием, выпили остатки вина и, торопясь повесить бутылку на старое место, выронили ее и разбили. Я упрекал их за этот бессердечный поступок. Август залился слезами, остальные двое засмеялись, стараясь обратить дело в шутку, но не дай мне бог слышать еще раз подобный смех: эти судорожные гримасы были просто ужасны. По-видимому, действие вина, выпитого на пустой желудок, с каждой минутой сказывалось сильнее и сильнее. Они были мертвецки пьяны. Насилу удалось мне уговорить их лечь, и они тотчас же впали в тяжелое забытье. Теперь я, можно сказать, остался один на бриге, предаваясь размышлениям самого мрачного и печального характера. Я не видел иного исхода, кроме мучительной смерти от голода или, в лучшем случае, гибели в волнах при первой буре, так как мы, конечно, не могли бы пережить ее при таком крайнем изнеможении.
Лютый голод, терзавший меня, был просто нестерпим, и я чувствовал себя способным на все, чтобы только утолить его. Я отрезал ножиком кусочек кожи от чемодана и попытался съесть его, однако решительно не мог проглотить. Тем не менее я чувствовал некоторое облегчение, разжевывая, а потом выплевывая маленькие кусочки кожи. С наступлением ночи мои товарищи проснулись один за другим в состоянии крайнего изнеможения и ужаса — результат опьянения, которое теперь прошло. Они дрожали точно в жестокой лихорадке и жалобно просили воды. Их состояние поразило и тронуло мена; вместе с тем я порадовался счастливой случайности, которая помешала мне выпить мою долю вина и разделить их мрачную меланхолию и жалкое отчаяние. Их поведение, однако, крайне тревожило меня, я ясно видел, что если в их состоянии не произойдет перемены к лучшему, то мне нечего рассчитывать на помощь. Я еще не оставил надежды выловить что-нибудь в каюте, но об этом нечего было и думать, пока никто из них не оправится настолько, чтобы держать веревку. Паркер казался мне несколько бодрее других, и я всячески старался разбудить его. Думая, что морская ванна может оказать благотворное действие, я обвязал его веревкой, подвел к отверстию в каюту (он повиновался мне машинально), столкнул в воду и тотчас же вытащил обратно. Я мог поздравить себя с удачной выдумкой, потому что он вышел на палубу освеженный и отрезвленный и спросил меня, зачем это я его выкупал. Когда я объяснил ему, он поблагодарил меня, сказал, что теперь действительно чувствует себя гораздо лучше, и стал очень здраво рассуждать о нашем положении. Мы решили попробовать то же средство над Августом и Петерсом, что и исполнили немедленно; им оно тоже помогло. Мысль о ванне пришла мне в голову потому, что я читал в какой-то медицинской книге о полезном действии душа в подобных случаях.
Видя, что теперь можно доверить товарищам веревку, я раза три-четыре попробовал нырнуть в каюту, хотя было уже совсем темно, и легкий, но свежий ветер с севера колебал корпус брига. Мне удалось достать два кухонных ножа, пустой кувшин и одеяло, но ничего съестного. Я продолжал свои попытки, пока не изнемог совсем, но больше ничего не добыл. Затем сменили меня Петерс и Паркер, но также безуспешно, так что в конце концов мы отказались от попыток, видя, что только изнуряемся понапрасну.
Мы провели остаток ночи в сильнейших физических и моральных страданиях. Наконец забрезжило утро шестнадцатого июля, мы жадно вглядывались в горизонт, не явится ли помощь, — напрасно! Море было по-прежнему тихо, только легкая зыбь набегала с севера. Вот уже шестой день мы ничего не ели и не пили, кроме портвейна, и чувствовали, что недолго выдержим, если не найдем чего-нибудь подкрепиться. Никогда я не видал раньше — и не желал бы видеть впредь — человеческих существ, до такой степени изможденных, как Петерс и Август. Если бы они встретились мне на суше в таком состоянии, ни за что бы я не узнал их. Лица их до того изменились, что у меня невольно являлось сомнение, неужели это мои товарищи, те самые, с кем я имел дело несколько дней тому назад. Паркер — хотя и он похудел и ослабел до того, что едва мог поднять голову — изменился не так сильно. Он выносил страдания очень терпеливо, не жалуясь и стараясь всячески ободрить нас. Я со своей стороны, хотя и был болен в начале путешествия, да и вообще не отличался крепким сложением, оказался выносливее моих товарищей, не так похудел и удивительно сохранил умственные способности, тогда как остальные превратились в каких-то слабоумных, впали в детство, смеялись, корчили гримасы и мололи всякий вздор. По временам, однако, они внезапно оживали, приходили в сознание, вскакивали на ноги в порыве энергии и говорили о нашем положении вполне разумно, хотя с безнадежным отчаянием. Возможно, что я производил на своих товарищей такое же впечатление, как они на меня, проделывая бессознательно те же самые глупости. Этот пункт остался для меня невыясненным.
Около полудня Паркер заявил, что видит землю со стороны правого борта, и я насилу удержал его на палубе: он во что бы то ни стало хотел броситься в воду и плыть к берегу. Петерс и Август не обратили внимание на его слова, погрузившись в мрачные думы. Взглянув по направлению его руки, я не увидал ни малейших признаков берега — да и не могло его быть: я знал, что мы далеко от суши. Тем не менее я нескоро убедил Паркера в его ошибке. Наконец, убедившись, он залился слезами и рыдал как младенец часа два или три, пока не заснул от усталости.
Петерс и Август пытались глотать кусочки кожи. Я советовал жевать их, а потом выплевывать, но для этого они были слишком слабы. Я же продолжал жевать и находил в этом некоторое облегчение. Пуще всего терзала меня жажда, и если я не напился морской воды, то только потому, что помнил, к каким ужасным последствиям приводило это людей, бывших в нашем положении.
День подходил к концу, когда я заметил парус на востоке. По-видимому, это был большой корабль, шедший прямо на нас милях в десяти — двенадцати; мои товарищи еще не заметили его, а я не говорил им о своем открытии, опасаясь нового разочарования. Наконец, когда он подошел ближе, я ясно увидел, что он идет прямо на нас. Я не мог больше сдерживаться и сообщил об этом моим товарищам по несчастью. Они тотчас вскочили на ноги и снова предались порыву неудержимой радости, плакали, смеялись идиотским смехом, метались по палубе, дергачи себя за волосы, молились и ругались в одно и то же время. Я был так поражен их поведением и надеждой на избавление, что невольно присоединился к безумному веселью, прыгал и катался по палубе; хлопал в ладоши, изливая свою радость и благодарность в диких криках и неистовых жестах, пока не опомнился, увидев с невыразимым, нечеловеческим отчаянием, что корабль повернулся к нам кормой и пошел в направлении, противоположном прежнему.
Не сразу удалось мне втолковать моим злополучным товарищам, что наши надежды снова рухнули. На все мои доводы они отвечали взглядами и жестами, говорившими, что их не обманешь такими шутками. Поведение Августа в особенности тронуло меня. Несмотря на все мои уверения в противном, он доказывал, что корабль быстро приближается, и готовился пересесть на него. Увидев подле брига скопище водорослей, объявил, что это лодка, и хотел броситься в нее, отбиваясь с отчаянными криками, когда я насильно удержал его на палубе.
Успокоившись несколько, он продолжал следить глазами за кораблем, пока тот не скрылся из вида. Погода нахмурилась, поднялся свежий ветер. Как только корабль исчез, Паркер обернулся ко мне с таким выражением на лице, что меня бросило в дрожь. Это было выражение спокойной решимости, которое я раньше не замечал у него, и прежде чем он открыл рот, мое сердце подсказало мне, что он хочет предложить. Он объявил в нескольких словах, что один из нас должен умереть, дабы спасти жизнь другим.
ГЛАВА XII[править]
Я уже раньше думал о возможности этого ужасного исхода и втайне решился лучше принять какую угодно смерть, чем согласиться на такое крайнее средство. Моя решимость не ослабела и теперь, несмотря на терзавший меня голод. Ни Петерс, ни Август не слышали предложения Паркера. Я отвел его в сторону и, мысленно попросив Бога помочь мне отговорить его от этого ужасного намерения, долго толковал с ним, умоляя во имя всего святого отказаться от этой мысли и не говорить о ней остальным.
Он слушал меня, не возражая на мои аргументы, так что я начинал уже надеяться на успех моего красноречия. Но когда я умолк, он отвечал, что вполне согласен с моими словами, знает и сам, что предложенное им средство ужасно и возмутительно, но вытерпел уже все, что в силах вытерпеть человеческая природа, и считает нелепостью умирать всем, когда смерть одного может поддержать и, весьма вероятно, спасти остальных. В заключение он прибавил, что я напрасно стараюсь отговорить его, так он твердо решился на это средство еще до появления корабля, и только надежда на спасение помешала ему высказать свою мысль раньше.
Я просил его по крайней мере отложить этот план до следующего дня в надежде, что явится другой корабль и подаст нам помощь. Я приводил все аргументы, какие только мог придумать и какие только могли, по моему соображению, повлиять на такую грубую натуру. Он ответил, что и без того молчал до последней минуты, что больше он не в силах выдержать, и если отложит исполнение своего плана хотя бы до завтрашнего дня, то это будет слишком поздно, по крайней мере, для него.
Видя, что просьбы и увещания на него не действуют, я заговорил другим тоном. Я заметил, что страдания изнурили меня не так сильно, как их, что в настоящую минуту я сильнее и здоровее, чем он, Петерс или Август, что мне нетрудно будет с ним справиться и если он вздумает сообщить остальным свои кровожадные каннибальские замыслы, то я сброшу его в море. Услыхав это, он схватил меня за горло и, выхватив нож, несколько раз пытался пырнуть меня в живот; только крайняя слабость помешала ему исполнить это злодейство. Я же вне себя от бешенства толкнул его на край палубы с твердым намерением выбросить за борт. Его спасло вмешательство Петерса, который бросился между нами, спрашивая, что случилось. Паркер тут же изложил свой план, прежде чем я успел помешать этому.
Действие его слов было еще ужаснее, чем я ожидал. Август и Петерс, которые, по-видимому, давно уже пришли к той же страшной мысли, тотчас согласились с Паркером и настаивали на немедленном исполнении его плана.
Я рассчитывал, что хоть один из них сохранит твердость духа настолько, чтобы принять мою сторону и помочь мне воспрепятствовать исполнению ужасного замысла; вдвоем мы, конечно, могли бы не допустить до этого. Но, потеряв всякую надежду, я понял, что мне необходимо подумать о собственной безопасности, так как доведенные до отчаяния и раздраженные моим сопротивлением товарищи, чего доброго, могли назначить мне худшую роль в готовившейся драме.
Я сказал, что согласен на их предложение, но просил обождать хоть час, пока рассеется туман и корабль, который мы видели, быть может, появится опять. С большим трудом удалось мне добиться согласия. Как я и ожидал, поднялся ветер, туман рассеялся, но корабля не было видно, и мы приготовились бросить жребий.
С крайним отвращением приступаю к описанию последовавшей затем возмутительной сцены — сцены, врезавшейся в мою память со своими мельчайшими деталями, так что никакие события не могли изгладить этого мрачного воспоминания, которому суждено отравлять каждую минуту моего дальнейшего существования. Постараюсь рассказать как можно короче. Чтобы сделать ужасный выбор, приходилось бросить жребий. Мы нарезали щепочек; решено было, что держать буду я. Я удалился на один конец брига, а мои товарищи молча уселись на другом спиной ко мне. Ни разу в течение всей нашей ужасной драмы не испытывал я такого мучительного беспокойства, как в эту минуту. Вряд ли найдутся в жизни человеческой такие мгновения, когда воля не цеплялась бы за существование; желание жить возрастает тем сильнее, чем ничтожнее нить, на которой держится жизнь. Но теперь, когда спокойный решительный и мрачный характер моего дела (столь непохожий на оглушающую опасность бури или постепенно наступающие ужасы голода) давал мне возможность сообразить, как мало у меня шансов на спасение от ужаснейшей смерти — ужаснейшей ввиду ее цели, — теперь вся моя энергия разлетелась, как пух по ветру, оставив меня беспомощной жертвой самого подлого страха, Я не мог даже собрать щепочки: пальцы отказывались служить, колени тряслись. В голове моей мелькали тысячи планов, один глупее другого, увернуться от участия в жребии. Я хотел броситься на колени перед моими товарищами и умолять их сделать для меня исключение; хотел кинуться на них внезапно и, умертвив одного, сделать жребий излишним, — словом, я готов был на все, лишь бы не исполнять того, что я должен был исполнить. Наконец голос Паркера, требовавший, чтоб я поскорее избавил их от мучительного ожидания, вернул меня к действительности. Но и теперь я никак не мог решиться собрать щепочки, а придумывал всевозможные уловки, чтобы заставить кого-нибудь из товарищей вытянуть короткую щепку: решено было принести в жертву того, кто вытянет самую коротенькую. Прежде чем осуждать меня за такое бессердечие, попытайтесь представить себя в таком же положении.
Наконец пришлось-таки решиться, так как медлить далее становилось невозможным, и с сердцем, готовым выскочить из груди, я пошел на нос, где ожидали меня товарищи. Я вынул руку, Петерс тотчас вытащил щепочку. Он был свободен: ему досталась не самая коротенькая. Еще шанс прибавился против меня. Я напряг все свои силы и протянул жребий Августу. Он тоже вытащил и тоже удачно; теперь шансы умереть или жить были для меня одинаковы. В эту минуту бешенство тигра зажглось в моей груди, и я почувствовал к моему злополучному товарищу самую бешеную, самую адскую ненависть. Но это чувство вскоре исчезло; и я, закрыв глаза, с судорожной дрожью протянул ему руку с двумя оставшимися щепочками. Прошло добрых пять минут, пока он собрался с силами, чтобы вытянуть жребий, и все это время я ни разу не открыл глаз. Наконец одна из щепочек была разом выдернута из моей руки. Судьба решила, но я еще не знал, в мою пользу или против меня. Все молчали, а я не решался взглянуть на щепочку, которую держал в руке. Наконец Петерс взял меня за руку, и я невольно открыл глаза и увидел по лицу Паркера, что я спасен, а он приговорен к смерти. Я перевел дух и упал без чувств на палубу.
Я очнулся вовремя, чтобы видеть развязку трагедии: смерть того, кто был ее главным автором. Он не оказал никакого сопротивления и умер мгновенно, пораженный Петерсом в спину. Не стану описывать страшного пиршества, последовавшего немедленно. Такие вещи можно себе представить, но словами не передать их нечеловеческого ужаса. Скажу кратко: утолив палящую жажду кровью жертвы, мы с общего согласия обрубили ей руки, ноги и выбросили их вместе с внутренностями в море, а остальным туловищем питались в течение четырех вечно памятных дней: семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого июля.
Девятнадцатого пошел проливной дождь и длился пятнадцать — двадцать минут. Нам удалось собрать немного воды с помощью простыни, которую мы выудили из каюты после бури. Воды набралось всего с полгаллона, но и это ничтожное количество придало нам сил и бодрости.
Двадцать первого нам снова пришлось круто. Погода по-прежнему стояла ясная и теплая, иногда поднимался туман и легкий ветер, преимущественно с северо-запада.
Двадцать второго, когда мы сидели, прижавшись друг к другу и погрузившись в размышления о нашем плачевном положении, в уме моем мелькнула мысль, явившаяся внезапно, как светлый луч надежды. Я вспомнил, что когда мы рубили фок-мачты, Петерс сунул мне топор и попросил спрятать его куда-нибудь, а я положил его в передней каюте на койке за минуту перед последним валом, наполнившим бриг водой. Мне пришло в голову, что, отыскав этот топор, мы могли бы прорубить палубу над камбузом и достать съестные припасы.
Когда я сообщил об этом проекте своим товарищам, они испустили слабый крик радости, и мы тотчас отправились к передней каюте. Спуститься в нее было труднее, чем в главную вследствие малых размеров трапа. Тем не менее я не колебался и, обвязав себя веревкой, смело нырнул ногами вперед, живо добрался до койки и сразу нашел топор. Находка была встречена на палубе криками радости и торжества, и в моей удаче мы усмотрели доброе предзнаменование.
Затем мы начали рубить палубу с энергией, какую только могла внушить нам оживившаяся надежда. Рубили по очереди Петерс и я, так как больная рука Августа не позволяла ему принять участие в работе. Мы едва держались на ногах от слабости и могли работать без отдыха не более двух-трех минут; вскоре нам стало очевидно, что пройдет много долгих часов, прежде чем мы прорубим достаточно широкое отверстие. Это обстоятельство, однако, не смутило нас, и провозившись всю ночь при свете луны, мы окончили работу на рассвете двадцать третьего.
Петерс вызвался отправиться на поиски, спустился в отверстие и скоро вернулся с небольшим бочонком, который к великой нашей радости оказался полным оливками. Поделив их между собой и съев с величайшей жадностью, мы возобновили поиски. На этот раз Петерсу повезло свыше всяких ожиданий: он вернулся почти немедленно с большим окороком и бутылкой мадеры. Наученные опытом, мы хлебнули только по небольшому глотку вина. Окорок был сильно попорчен морской водой; годного для еды мяса сохранилось всего фунта два около кости. Мы и его поделили. Петерс и Август не удержались и съели свою часть немедленно, я же был осторожнее и ограничился маленьким кусочком, опасаясь мучений жажды. Затем мы прилегли отдохнуть, так как были страшно утомлены.
Около полудня, чувствуя себя бодрее и крепче, мы снова пустились на поиски провизии. Я и Петерс ныряли поочередно до самого вечера, и всякий раз с большим или меньшим успехом. Нам удалось достать четыре бочонка с оливками, окорок, плетеную бутыль галлона в три превосходной капской мадеры, и, что особенно обрадовало нас, небольшую галапагосскую черепаху. Капитан Барнард перед самым отплытием судна купил их несколько штук на шхуне «Мэри Питтс», только что вернувшейся из путешествия в Тихий океан.
Мне не раз придется упоминать об этой породе черепах. Они водятся, как, без сомнения, известно читателю, главным образом на островах Галапагос потому и получивших свое название, так как испанское слово gallipago означает пресноводную черепаху. Вследствие особенностей склада и походки этой черепахи ее называют иногда черепаха-слон. Они бывают нередко огромных размеров. Мне самому случалось видеть экземпляры в 1200—1500 фунтов весом, хотя я не помню, чтоб какой-нибудь мореплаватель упомянул об экземпляре, превышавшем восемьсот фунтов. Внешний вид ее очень странен, даже отвратителен. Походка очень тихая, мерная, тяжелая, тело тащится на фут от земли. Шея длинная и необычайно гибкая; обыкновенная длина ее от восемнадцати дюймов до двух футов, но мне случилось однажды убить черепаху, у которой расстояние от плеч до конца головы равнялось трем футам десяти дюймам. Голова поразительно напоминает змеиную. Эти черепахи могут выносить голод невероятно долго; известны случаи, когда они оставались в трюме корабля в течение двух лет без всякой пищи и в конце этого срока оказывались такими же жирными и здоровыми, как в начале. В одном отношении эти странные животные похожи на дромадера или верблюда пустыни. У основания их шеи находится мешок, постоянно наполненный водой. Случалось, убив черепаху, прожившую год без пищи, находить в ее мешке не менее трех галлонов свежей пресной воды. Пищей им служит дикая петрушка, сельдерей, портулак, морские водоросли. Их мясо превосходного вкуса и очень питательно; без сомнения, тысячи моряков, занимавшихся в Тихом океане ловлей китов и другими промыслами, обязаны жизнью этим черепахам.
Черепаха, пойманная нами в камбузе, была невелика, фунтов в шестьдесят пять или семьдесят весом. Это была самка, здоровая и жирная, в ее мешочке оказалось более четверти галлона чистой свежей воды. Для нас это было истинное сокровище, и мы, точно сговорившись, бросились на колени с горячей молитвой благодарности.
Вытащить животное на палубу было довольно трудно вследствие его чудовищной силы и отчаянного сопротивления. Оно чуть было не вырвалось из рук Петерса, но Август успел накинуть ему петлю на шею, а я соскочил в трап и помог Петерсу выпихнуть его на палубу.
Мы перелили воду из мешка черепахи в кувшин, который, если припомнит читатель, выловили раньше в каюте. Затем мы отбили горлышко бутылки и, заткнув его пробкой, устроили нечто вроде стакана вместимостью в четверть пинты. Выпив по полному стаканчику, мы решили ограничить этим нашу дневную порцию на все время, пока хватит воды.
В течение последних двух или трех дней погода стояла теплая и сухая, так что одеяла, выловленные нами из каюты, и наша одежда совершенно просохли. Эту ночь мы провели с сравнительным комфортом, поужинав оливками и ветчиной и хлебнув по глотку вина. Опасаясь, что ночью поднимется ветер и снесет наши запасы за борт, мы привязали их покрепче к остаткам брашпиля. Черепаху, которую нам хотелось подольше сохранить живой, перевернули на спину и тоже привязали.
ГЛАВА XIII[править]
24 июля. — Мы проснулись утром замечательно бодрыми и свежими. Несмотря на наше опасное положение вдали от материка, с запасом пищи, которого при самой строгой экономии не могло хватить более чем на две недели, почти без воды, на утлом плоту, носившемся по прихоти ветра и волн, несмотря на все это воспоминание о бесконечно более страшных муках и опасностях, от которых мы так недавно и так чудесно избавились, заставляло нас считать наши теперешние лишения самым обыкновенным бедствием. Так относительно понятие о худом и хорошем.
Мы собирались возобновить наши поиски в камбузе, когда пошел дождь с грозой, и мы поспешили собрать сколько можно воды с помощью той же простыни, которой пользовались раньше. Для этого мы натянули простыню, поддерживая ее за концы над кувшином, в который просачивалась вода. Мы почти наполнили его, когда сильный шквал, набежавший с севера, заставил нас прекратить это занятие, так как остов брига снова стало качать, и мы не могли удерживаться на ногах. Тогда мы снова привязали себя к брашпилю и стали ожидать дальнейших событий гораздо спокойнее, чем можно было бы думать.
В полдень ветер усилился, а к ночи превратился в ураган и поднял страшное волнение. Опыт научил нас, как наилучше привязать себя, и эту ночь мы провели в сравнительной безопасности, хотя волны окачивали нас ежеминутно, угрожая снести за борт. К счастью, погода была такая теплая, что эти души доставляли нам скорее удовольствие, чем досаду.
25 июля. — К утру ураган превратился в обыкновенный десятиузловой ветер, и море успокоилось настолько, что мы могли обсушиться. Но, к великому нашему огорчению, два бочонка с оливками и окорок были унесены волнами несмотря на то, что мы привязали их как можно тщательнее. Мы, однако, решили погодить убивать черепаху, а позавтракали оливками, выпив по склянке воды пополам с вином; эта смесь сильно подкрепила и освежила нас, не вызвав тяжелого опьянения, как раньше портвейн. Волнение все-таки было еще слишком сильно, чтобы возобновить поиски в камбузе. В течение дня из трюма выбросило несколько вещей, не имевших для нас значения и тотчас же смытых за борт. Мы заметили также, что бриг накренился гораздо сильнее, чем раньше, так что мы не могли держаться не привязанные. Это обстоятельство привело нас в уныние. В полдень солнце стояло почти в зените, и мы не сомневались, что постоянные северные и северо-западные ветры загнали нас к экватору. К вечеру мы увидели несколько акул и струхнули, когда одна из них, громадной величины, смело направилась к нам. Была минута, когда палуба совершенно погрузилась в воду и чудовище проплыло над нами, остановившись на мгновение над каютой и ударив Петерса хвостом. К счастью, волна перебросила ее за борт. Если бы погода была тихая, мы без труда изловили бы ее.
26 июля. — Ветер улегся, море успокоилось настолько, что мы решили возобновить поиски в камбузе. Провозившись целый день, мы убедились, что не найдем ничего нужного: ночью буря проломила дно камбуза, и все запасы провалились в трюм. Можете себе представить, в какое отчаяние привело нас это открытие.
27 июля. — Море почти гладкое, легкий ветер по-прежнему с северо-запада. После полудня солнце жестоко печет. Мы воспользовались этим, чтобы высушить одежду. Для облегчения от жажды купались в море, но при этом пришлось соблюдать крайнюю осторожность ввиду акул, плававших вокруг брига.
28 июля. — Все еще стоит хорошая погода. Бриг до того накренился, что мы опасаемся, как бы он не перевернулся. Приготовились к этой случайности, привязав нашу черепаху, кувшин с водой и бочонки с оливками как можно выше с наружной стороны брига под грот-русленями. Море весь день гладкое, ветер чуть заметный.
29 июля. — Та же погода. Раненая рука Августа обнаруживает симптомы гангрены. Он жалуется на сонливость и нестерпимую жажду, но не испытывает острой боли. Мы помазали раны уксусом из-под оливок, но это, по-видимому, ничуть не уменьшило его страданий. Мы всячески старались облегчить его состояние и назначили ему тройную порцию воды.
30 июля. — Необычайно жаркий день без малейшего ветерка. Огромная акула плыла подле брига большую часть дня. Мы тщетно пытались поймать ее в петлю. Августу гораздо хуже, он чахнет на глазах от недостатка пищи и от ран. Все время умолял избавить его от страданий, говоря, что ничего не желает, кроме смерти. Вечером мы съели последние оливки. Вода в кувшине до того испортилась, что мы не могли ее пить без примеси вина. Решили убить черепаху утром.
31 июля. — После крайне беспокойной и утомительной ночи вследствие положения брига мы убили и освежевали черепаху. Она оказалась гораздо меньшей, чем мы думали, хотя в хорошем состоянии, — мяса набралось всего фунтов десять. Чтобы сохранить этот запас подольше, мы разрезали мясо на тонкие куски и наполнили ими три оставшиеся бочонка из-под оливок и бутылку от портвейна, а сверху залили уксусом из-под оливок. Так мы уложили фунта три, решив не трогать их, пока не съедим остального. Решено было ограничиваться четырьмя унциями в день на каждого; таким образом всего достало бы нам на две недели. В сумерки разразилась гроза с дождем, но прошла так скоро, что мы успели собрать не более полпинты воды. С общего согласия мы уступили ее Августу. Он пил воду прямо с простыни (мы держали ее над ним, и вода стекала ему в рот), так как собирать ее было некуда: пришлось бы вылить мадеру из плетеной бутылки или гнилую воду из кувшина. Мы бы, конечно, так и сделали, если бы гроза затянулась.
Вода не доставила облегчения бедняге. Рука его почернела от кисти до плеча, ноги похолодели, как лед. Мы с минуты на минуту ожидали его смерти. Он был страшно изнурен: перед отплытием из Нантукета в нем было сто двадцать семь фунтов веса, а теперь не более сорока или пятидесяти. Глаза его так ввалились, что почти исчезли, а кожа на щеках до того обвисла, что мешала ему не только жевать твердую пищу, но даже глотать жидкость.
1 августа. — Та же тихая погода и невыносимая жара. Жестоко страдали от жажды; вода в кувшине окончательно испортилась и кишит червями. Мы все-таки заставили себя пить ее пополам с вином, но это питье почти не утоляло нашей жажды. Купанье в море больше облегчало нас, но мы лишь изредка могли прибегать к нему, потому что акулы то и дело появлялись подле брига. Мы убедились, что Августу нет спасения; он, очевидно, находился при последнем издыхании. Мы ничем не могли облегчить его страдания. Около полудня он скончался в страшных судорогах, не вымолвив ни слова в течение последних часов. Смерть его произвела на нас такое мрачное, гнетущее впечатление, что мы весь день просидели подле тела, не шевелясь и переговариваясь шепотом. Только с наступлением темноты мы решились выбросить тело за борт. Оно имело невыразимо отвратительный вид и разложилось до такой степени, что когда Петерс попробовал приподнять его, одна нога осталась в его руках. Когда эта разложившаяся масса соскользнула в море, мы видели при окружавшем ее фосфорическом свете штук семь или восемь огромных акул, которые разнесли добычу на куски, щелкая зубами так, что их, наверно, было слышно за милю. Мы содрогнулись от ужаса при этом звуке.
2 августа. — Та же зловещая тишина и жара. Утро застало нас в страшном упадке духа и физическом истощении. Вода в кувшине оказалась решительно негодной для питья, превратилась в какой-то студень, переполненный червями. Мы вылили ее в море и вымыли кувшин сначала морской водой, потом уксусом от оливок. Наша жажда стала решительно нестерпимой, и мы тщетно пытались утолить ее вином, которое действовало на нее, как масло на огонь, и страшно опьяняло нас. Потом мы попробовали облегчить наши страдания морской водой пополам с вином, но это питье моментально вызвало страшную рвоту, так что мы тотчас же отказались от него. Целый день искали случая выкупаться — напрасно: акулы осадили наш плот. Без сомнения, тут были и вчерашние чудовища, ожидавшие новой подачки. Это обстоятельство крайне смущало нас, внушая самые зловещие и мрачные предчувствия. Купание удивительно облегчало нас, и лишиться этого облегчения было просто невыносимо. К тому же нам угрожала нешуточная опасность от такого соседства; малейшая оплошность, неловкое движение могли бы предать нас в жертву этим хищным рыбам, которые нередко прямо бросались на нас. Наши крики и махания руками, по-видимому, ничуть не пугали их. Петерс ударил топором одну из самых крупных, но даже тяжелая рана не испугала её, и она продолжала бросаться на нас. В сумерки набежала туча, но, к нашему крайнему огорчению, прошла мимо без дождя. Невозможно передать, как жестоко терзала нас жажда. Мы провели бессонную ночь из-за этих мучений и страха перед акулами.
3 августа. — Никакой надежды на помощь, и бриг наклоняется все больше и больше, так что держаться на палубе совершенно невозможно. Старались закрепить наше вино и черепашье мясо так, чтобы они не погибли, если бриг перевернется. Вытащили из русленей два гвоздя и вколотили их топором в корпус брига на расстоянии двух футов от воды недалеко от киля, так как мы совершенно легли набок. К этим гвоздям привязали свои запасы; тут они будут целее, чем под грот-русленями. Целый день жестоко страдали от жажды, выкупаться не удалось: акулы не отстают от брига. Ночь провели без сна.
4 августа. — Перед самым рассветом мы заметили, что бриг опрокидывается, и приготовились к катастрофе. Сначала он поворачивался медленно, так что мы успешно взбирались к килю с помощью веревок, которые заранее привязали к гвоздям. Но мы не рассчитали силы ускорения толчка; бриг неожиданно кувырнулся так быстро, что мы не удержались на его поверхности и, не успев толком сообразить, в чем дело, очутились в воде на глубине нескольких морских саженей под огромным корпусом судна.
Очутившись в воде, я выпустил из рук веревку и, чувствуя крайнее истощение сил, покорился судьбе и ожидал смерти. Но и на этот раз я обманулся, не приняв в расчет обратное движение корабля, качнувшегося назад. Ток воды, поднятый этим движением, выбросил меня на поверхность еще быстрее, чем я попал в воду. Я оказался ярдах в двадцати от корабля, который раскачивался с боку на бок, взбурлив воду далеко вокруг. Я нигде не видал Петерса. Заметил только бочку из-под жира и другие вещи с брига, рассеянные кругом.
Пуще всего меня пугали акулы, которые должны были находиться поблизости. Стараясь не подпустить их, я отчаянно колотил руками и ногами по воде, пока плыл к бригу. Без сомнения этой уловке, при всей ее простоте, я обязан своим спасением: за минуту перед тем, как бриг опрокинулся, море буквально кишело акулами, так что я должен был почти задевать за них, подплывая к бригу, — да так и было, конечно. Как бы то ни было, я добрался до него невредимым, хотя в таком изнеможении, что вряд ли бы мог вылезть из воды без помощи Петерса, который появился совершенно неожиданно (взобравшись на киль с противоположной стороны) и бросил мне веревку.
Избавившись от одной опасности, мы тотчас убедились, что нам угрожает другая, не менее страшная — смерть от голода. Все наши припасы исчезли в море и, не видя никакой возможности помочь этой беде, мы предались отчаянию и разревелись как дети, не пытаясь даже ободрить друг друга. Трудно представить себе такое малодушие, и оно покажется просто непонятным тому, кто никогда не находился в таком же положении. Но следует помнить, что мы почти лишились рассудка вследствие долгих лишений и ужасов всякого рода и вряд ли могли считаться в это время разумными существами. Впоследствии я терпеливо выносил такие же и худшие бедствия, а Петерс, как ниже будет сказано, относился к ним со стоической философией, столь же невероятной, как его теперешняя слабость и глупость, — таково влияние условий.
Опрокинувшийся бриг, потеря вина и черепахи, в сущности, не ухудшили нашего положения, так как дно корабля фута на два-три от киля, так же как и сам киль, было сплошь покрыто слоем крупных ракушек, оказавшихся превосходной пищей. Таким образом в двух отношениях катастрофа с бригом оказалась для нас полезной: во-первых, доставила нам запас пищи, которой при экономном употреблении хватило бы на месяц, во-вторых, наше теперешнее положение было гораздо удобнее и безопаснее, чем раньше. Досадно было только то, что вместе с припасами исчезли и простыни и посуда, так что в случае дождя нам не во что было бы набрать воды.
Это обстоятельство мешало нам оценить выгоды нашего нового положения. На всякий случай мы сняли с себя рубашки, чтобы в случае дождя воспользоваться ими, как раньше простынями, хотя и не рассчитывали добыть таким образом больше четверти пинты воды при самых благоприятных обстоятельствах. Ни единого облачка не было видно весь день, и мы страдали невыразимо. Ночью Петерс заснул на часок тяжелым, беспокойным сном, но я не мог сомкнуть глаз.
5 августа. — Легкий ветер нанес массу водорослей, в которых мы обнаружили одиннадцать маленьких крабов, оказавшихся превосходной пищей. Скорлупки их были так нежны, что мы ели их целиком и нашли, что они менее возбуждают жажду, чем ракушки. Не замечая и признака акул в этих водорослях, мы решились выкупаться и провели в воде четыре-пять часов. Это значительно облегчило наши мучения, так что мы могли заснуть и провели ночь спокойнее, чем предыдущую.
6 августа. — В этот день небо послало нам сильный дождь, продолжавшийся с обеда до наступления темноты. Вот когда мы пожалели о потере кувшина и бутыли, так как могли бы наполнить их несмотря на неудобный способ собирания воды посредством рубашек. Теперь нам пришлось выкручивать ее себе в рот — и за этим занятием мы провели весь день.
7 августа. — На рассвете мы оба в одно время увидели на востоке парус, очевидно приближавшийся к нам! Мы приветствовали это чудное зрелище слабым, но восторженным криком и тотчас принялись подавать сигналы всеми способами, какие могли придумать: махали рубашками, поднимались, насколько позволяли наши слабые силы, даже кричали во весь голос, хотя корабль находился на расстоянии по меньшей мере пятнадцати миль. Как бы то ни было, он продолжал подвигаться к нам, и мы видели, что если только он не вздумает переменить курса, то подойдет так близко, что заметит нас. Через час мы уже ясно различали людей на палубе. Это была длинная низкая шхуна с косыми стеньгами и, по-видимому, очень многочисленным экипажем. Теперь нас должны были заметить, и мы уже начинали тревожиться, не хотят ли нас бросить на произвол судьбы — адская жестокость, не однажды совершавшаяся в море при подобных же обстоятельствах существами, причислявшими себя к роду человеческому. (Случай с бригом «Полла» из Бостона так замечателен и судьба его экипажа так сходна с нашей, что я не могу не сообщить его здесь. Этот корабль в сто тридцать тонн отплыл из Бостона с грузом лесных материалов и съестных припасов в Сен-Круа 12 декабря 1811 года под командой капитана Кано. Кроме капитана на корабле было восемь душ: помощник, четверо матросов, повар и некий м-р Гент с рабыней-негритянкой. Пятнадцатого, благополучно миновав мель Георга, корабль получил течь во время бури, налетевшей с юго-востока и опрокинулся, но снова выпрямился, когда мачты снесло за борт. В таком положении, без огня и с ничтожным запасом съестных припасов, экипаж оставался сто девяносто один день, с 15 декабря до 12 июня, когда капитан Кано и Самуэль Беджер, единственные оставшиеся в живых, были взяты на борт «Славы Гулля», капитан Фечерстон, возвращавшейся домой из Рио-де-Жанейро. В этот момент они находились под 28® сев. широты и 32® зап. долготы, сделав на развалине корабля около двух тысяч миль! Девятого июля «Слава» встретилась с бригом «Дромео», капитан Перкинс, который высадил несчастных в Кеннебеке. Рассказ, из которого мы заимствовали эти сведения, заканчивается следующими словами: «Является весьма естественный вопрос: как могли они проплыть такое огромное расстояние в наиболее посещаемой части Атлантического океана и остаться незамеченными? Им встретилось более дюжины кораблей, и один подошел так близко, что они видели на палубе и на снастях матросов, которые смотрели на них. Но, к невыразимому отчаянию изнуренных голодом и холодом страдальцев, эти жестокие люди не вняли голосу человеколюбия, подняли паруса и оставили несчастных на произвол судьбы».) В этом отношении мы, слава Богу, ошиблись, так как на палубе шхуны внезапно поднялась суматоха, и минуту спустя он поднял английский флаг и направился к нам. Через полчаса мы находились в его каюте. Это была шхуна «Джэн Гай», капитан Гай, отправлявшийся с торговыми целями в Тихий океан.
ГЛАВА XIV[править]
«Джэн Гай» была прекрасная шхуна грузоподъемностью сто восемьдесят тонн, с необычайно длинным заостренным носом и при попутном ветре превосходный ходок. В других отношениях она не обладала особенными достоинствами, ее осадка была слишком велика, если иметь в виду торговлю, для которой она предназначалась. Для этого рода торговли требуется корабль больших размеров и малого углубления, корабль грузоподъемностью тонн в триста — триста пятьдесят. Он должен быть хорошо вооружен, оснащен крепкими якорями и канатами, а главное, на судне должен быть многочисленный и смелый экипаж: человек пятьдесят — шестьдесят по меньшей мере. Команда «Джэн Гай» состояла из тридцати пяти матросов, не считая капитана и его помощника, но вооружение и оснастка судна не удовлетворили бы моряка, знакомого с трудностями и опасностями которые сопровождают торговые суда.
Капитан Гай был джентльмен с изящными манерами, очень опытный в плавании в здешних широтах, ведь этому он посвятил большую часть жизни. Но ему не хватало энергии и, следовательно, предприимчивости. Он был одним из собственников корабля, находившегося под его командой, и получил неограниченное право крейсировать в южных морях и забирать всякий груз, какой попадется под руку. Как водится при таких путешествиях, на корабле был достаточный запас бус, зеркал, огнив, топоров, пил, рубанков, стамесок, долот, буравчиков, напильников, скобелей, стругов, терок, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, бритв, иголок, ниток, посуды всякого рода, коленкора, дешевых украшений и т. п.
Шхуна отплыла из Ливерпуля десятого июля, пересекла тропик Рака двадцать пятого под двадцатым градусом западной долготы и двадцать девятого достигла островов Зеленого Мыса, где запаслась солью и другими необходимыми припасами. Третьего августа она оставила острова Зеленого Мыса и направилась к юго-западу, уклоняясь в сторону Бразилии, чтобы перейти экватор между двадцать восьмым и тридцатым градусами западной долготы. Это обычный курс кораблей, направляющихся из Европы к мысу Доброй Надежды или в Ост-Индию. Следуя этим путем, они избегают штилей и сильных встречных ветров, господствующих у гвинейского берега, так что в конце концов эта дорога оказывается кратчайшей, корабль достигает Мыса при постоянном попутном ветре с запада. Капитан Гай намеревался сделать первую остановку у острова Кергуэлен, я не знаю зачем. В день встречи с нами шхуна находилась на широте мыса Сен-Рок под тридцать первым градусом западной долготы, так что мы, по всей вероятности, сделали не менее двадцати градусов по направлению от севера к югу!
На «Джэн Гай» к нам отнеслись со всем вниманием, какого требовало наше плачевное состояние. В две недели, в течение которых шхуна продолжала свой путь к юго-востоку при легком ветре и прекрасной погоде, Петерс и я совершенно оправились от последствий наших недавних лишений и ужасных страданий и все случившееся с нами представлялось нам скорее страшным сном, от которого мы, к счастью, очнулись, чем событиям трезвой и холодной действительности. Я не раз замечал впоследствии, что этого рода забвение всегда наблюдается при внезапном переходе от радости к горю или наоборот, причем степень его пропорциональна разнице в предыдущем и последующем состояниях. Так и в настоящем случае я решительно не мог себе представить в полном объеме бедствия, переносимые мною на корпусе брига. Вспоминались события, но не чувства, возбуждавшиеся этими событиями. Я помнил только, что в то время, как они происходили, мне казалось, что человеческая натура не в силах вынести больших мучений.
В течение нескольких недель мы продолжали наше плавание без всяких происшествий, кроме случайных встреч с китобоями и еще более частых с черными, или настоящими китами, называемыми так в отличие от кашалотов. Шестнадцатого сентября подле мыса Доброй Надежды шхуна выдержала первый сильный шквал со времени отплытия из Ливерпуля. В этом месте, а еще чаще к югу и востоку от мыса мореплавателям часто приходится бороться с сильнейшими штормами. Они поднимают страшное волнение, но главная опасность этих штормов в почти мгновенной перемене ветра, что случается обыкновенно в самый разгар бури. В данный момент дует настоящий ураган с севера или северо-востока, а в следующий он мчится с юго-запада с почти невероятной силой. Перед тем, как поменяется направление ветра, небо обыкновенно светлеет с южной стороны; благодаря этому признаку корабль может приготовиться к перемене ветра.
Было около шести часов утра, когда на нас налетел с севера шквал. К восьми буря усилилась и поднялось чудовищное волнение. На шхуне убрали все паруса; тем не менее она страшно раскачивалась и показала себя плохим пловцом, черпая носом всякий раз, как спускалась с волны, и выпрямляясь с большим трудом. Перед заходом солнца заметили светлое пятно на юго-западе, час спустя маленький передний парус бессильно трепался о мачты. Через две минуты, несмотря на все приготовления, мы разом легли набок, точно по волшебству, и целый водопад пены окатил палубу. К счастью, ветер оказался мимолетным шквалом, и мы выпрямились, не потеряв ни единой рейки. Сильное волнение донимало нас еще несколько часов, но к утру мы находились в таком же хорошем положении, как перед бурей. Капитан Гай говорил, что мы уцелели каким-то чудом.
Тринадцатого октября мы были в виду острова Принца Эдуарда под 46®53′ южной широты и 37®46′ западной долготы. Два дня спустя мы прошли острова Владения, затем миновали острова Крозет под 42®59′ южной широты, 48® западной долготы. Восемнадцатого мы увидели землю Кергуэлен или остров Отчаяния в южном Индийском океане и бросили якорь в гавани Рождества.
Остров, или скорее группа островов, находится на расстоянии восьмисот лиг к юго-востоку от мыса Доброй Надежды. Он был открыт в 1772 г. французским бароном де Кергулен, или Кергуэлен, который принял его за часть огромного южного материка и в этом смысле сделал о нем сообщение дома, возбудившее большую сенсацию. В следующем году правительство, заинтересовавшееся этим открытием, послало барона исследовать новую землю, тогда ошибка обнаружилась. В 1777 г. капитан Кук посетил эту группу островов и дал главному из них название острова Отчаяния — название вполне заслуженное. Правда, приближаясь к островам, мореплаватель может подумать иное, так как они одеты с сентября до марта роскошной зеленью. Этой обманчивой наружностью они обязаны маленькому растению вроде камнеломки, в изобилии растущему на торфянистой почве. Других растений нет, кроме жесткой травы подле гавани, лишайников и каких-то кустарников, напоминающих видом капусту, но горького и едкого вкуса.
Поверхность островов холмистая, сколько-нибудь высоких гор нет. Вершины холмов одеты вечным снегом. Есть несколько бухт; самая удобная — гавань Рождества. Это первая бухта на северо-восточной стороне, когда минуешь мыс Франсуа, образующий северную оконечность острова. Мыс заканчивается высокой скалой с широким естественным проходом в виде арки. Вход в гавань находится под 48®40′ южной широты, 69®6′ западной долготы. Самое удобное место для якорной стоянки — под защитой маленьких островов, охраняющих корабли от восточных ветров. К востоку от места стоянки находится бухта Ос у входа в гавань. Это маленький заливчик, окруженный сушей почти со всех сторон, в который ведет проход в четыре сажени глубиной и где можно найти место для стоянки глубиной от трех до десяти саженей с плотным глинистым дном. Корабль может простоять здесь на носовом якоре в совершенной безопасности хоть целый год. В западной части бухты Ос, у входа в нее, бежит ручеек с превосходной пресной водой.
На острове Кергуэлен попадаются тюлени и в изобилии водятся морские слоны. Пернатое население очень многочисленно, бездна пингвинов четырех различных видов. Самый крупный из них — королевский пингвин, названный так за свою величину и красоту оперения. Верхняя часть туловища королевского пингвина обыкновенно серая, иногда с лиловым оттенком, нижняя — снежной белизны. Голова и ноги блестящего черного цвета. Но главная красота его оперения — две широких золотистых полосы, проходящие от головы до груди. Клюв длинный, пунцовый или светло-розовый. Эти птицы ходят прямо, с величавой осанкой. Они держатся, закинув голову; крылья висят, как руки, хвост приходится на одной линии с ногами; все это придает им такое сходство с человеком, что в сумерках нетрудно ошибиться. Королевские пингвины, найденные нами на Кергуэлене, были ростом побольше гуся. Другие виды — пингвин-франт, пингвин-глупыш и пингвин-грач. Они гораздо меньше, не так красивы и во многих отношениях отличаются от первого. Кроме пингвина там много других птиц, из которых упомяну о голубых буревестниках, чибисах, утках, курочках, бакланах, капских голубях, буревестниках, крачках, качурках, большом чистике и, наконец, альбатросе.
Большой чистик размерами не уступает альбатросу. Это хищная птица, но вовсе не пугливая; хорошо приготовленная представляет вкусное блюдо. Летая, он часто несется над самой водой, раскинув крылья и, по-видимому, вовсе не шевеля ими и не делая ни малейших усилий для того, чтобы двигаться.
Альбатрос — одна из самых крупных и сильных птиц южного океана. Он принадлежит к семейству чаек и ловит добычу на лету; на сушу является только для вывода птенцов. Между этой птицей и пингвином существует странная дружба.
Они сообща устраивают гнезда по определенному плану: гнездо альбатроса помещается в середине квадрата, образуемого гнездами четырех пингвинов. Эти гнездовья часто описывались, но так как моим читателям, быть может, никогда не попадались подобные описания и так как мне не раз придется упоминать о пингвинах и альбатросах, то я опишу подробнее их образ жизни и гнездования.
Когда наступает время размножения, птицы собираются в огромном количестве и в течение нескольких дней, по-видимому, обсуждают вопрос о гнездовье. Наконец принимаются за дело. Выбирают ровную площадку достаточных размеров, обыкновенно в три-четыре акра, как можно ближе к морю, но вне линии прилива. Место выбирается поглаже, по возможности без каменьев. Затем птицы, очевидно с общего согласия и побуждаемые общим импульсом, проводят с математической точностью квадрат или параллелограмм, — смотря по тому, какая форма более подходит к условиям, — таких размеров, чтобы можно было поместиться всем, ни больше, ни меньше. По-видимому, это делается для того, чтобы предотвратить возможность вторжения пришельцев, не участвовавших в общей работе. Одна из сторон четырехугольника, обращенная к морю, остается открытой для входа и выхода.
Проведя границы колонии, птицы начинают очищать площадку от разного хлама, подбирая один за другим каменья и складывая их вдоль границ, так что с трех сторон, обращенных к суше, образуется стенка. Вдоль внутренних сторон стенки вытаптывается совершенно ровная и гладкая дорожка от шести до восьми футов шириной вокруг всего гнездовья — для общей прогулки.
Затем приступают к разделению площадки на небольшие и совершенно одинаковые квадраты. Для этого протаптываются узенькие тропинки, пересекающиеся под прямыми углами, на протяжении всей площадки. В каждой точке пересечения тропинок устраивается гнездо альбатроса, а в центре квадрата гнездо пингвина, так что каждый пингвин окружен четырьмя альбатросами, а каждый альбатрос четырьмя пингвинами. Гнездо пингвина представляет небольшое углубление в земле, достаточное для помещения одного яйца. Гнездо альбатроса более сложной постройки, имеет вид холмика вышиной в фут и два фута в диаметре, устроенного из земли, водорослей и раковин. На верхушке его делается углубление для кладки яиц. Птицы стараются не оставлять гнезда ни на минуту в течение высиживания или даже до тех пор, пока птенцы не подрастут настолько, что могут сами заботиться о себе. Пока самец летает в море за добычей, самка исполняет материнскую обязанность и только с возвращением своего сожителя позволяет себе отлучиться от гнезда. Яйца никогда не остаются открытыми: если одна из птиц слетает с гнезда, другая тотчас садится на ее место. Эта предосторожность необходима ввиду воровских наклонностей, которыми отличаются члены колонии, всегда готовые стянуть у соседа яйца при первом удобном случае.
Некоторые колонии населены исключительно пингвинами и альбатросами, но в большинстве случаев к ним присоединяются и другие морские птицы, пользуясь всеми правами гражданства и устраивая свои гнезда там и сям, где найдется местечко, но никогда не пытаясь захватить места хозяев. Издали эти колонии представляют странное зрелище. Воздух над площадкой переполнен альбатросами (и более мелкими видами), которые безостановочно реют над гнездами, то улетая в океан, то возвращаясь обратно. На площадке видна масса пингвинов, иные расхаживают взад и вперед по тропинкам, другие со свойственной им военной осанкой прогуливаются по дорожке, окаймляющей колонию. Словом, как ни смотри на эти поселения, не можешь не поражаться разумным образом действий этих пернатых существ. И вряд ли какое-нибудь зрелище доставит более пищи для ума разумного человеческого существа.
Наутро после нашего прибытия в гавань Рождества помощник капитана мистер Паттерсон приказал спустить лодки и отправился за тюленями (хотя время для охоты еще не наступило), оставив капитана Гая с его молодым родственником на западном берегу гавани; у них было какое-то дело на острове, но в чем оно состояло, я не знаю. Капитан Гай захватил с собой бутылку, в которой было запечатано письмо, и направился к самому высокому холму. По всей вероятности, он намеревался оставить там записку для другого корабля, который должен был явиться вслед за нами. Как только он исчез из вида, мы (я и Петерс отправились в лодке помощника) пустились в путь вокруг острова, высматривая тюленей. Мы потратили на эти поиски около трех недель, осмотрев все закоулки и бухточки не только на острове Кергуэлен, но и на соседних островках. Наши труды, однако, не увенчались сколько-нибудь значительным успехом. Мы видели много мохнатых тюленей, но они были очень осторожны, так что при всех стараниях мы добыли только триста пятьдесят шкур. Морские слоны попадались в изобилии, особенно на западной стороне главного острова, но мы убили всего двадцать штук, да и то с большими затруднениями. На маленьких островах мы нашли множество щетинистых тюленей, но не стали их трогать. Вернувшись на шхуну одиннадцатого, мы застали на ней капитана Гая с племянником, которые вынесли очень безотрадное впечатление из своей экскурсии внутрь острова, оказавшегося крайне пустынной и бесплодной страной. Они провели на острове двое суток по милости младшего помощника, который вследствие какого-то недоразумения не догадался вовремя выслать за ними лодку.
ГЛАВА XV[править]
Двенадцатого мы покинули гавань Рождества и направились на запад, оставив справа остров Марион, принадлежащий к группе Крозет. Затем мы миновали остров Принца Эдуарда, оставив его левее, и, уклонившись к северу, прибыли через две недели к островам Тристан д’Акунья под 37®8′ южной широты и 12®8′ западной долготы.
Этот архипелаг, ныне хорошо исследованный и состоящий из трех круглых островков, был открыт португальцами, посещен голландцами в 1643 г. и французами в 1767 г. Островки расположены треугольником и отстоят друг от друга на десять миль, так что разделены широкими проливами. Все они очень высоки, в особенности остров Тристан д’Акунья. Это самый обширный из трех, миль пятнадцати в окружности и такой высокий, что в ясную погоду его видно на расстоянии восьмидесяти или девяноста миль. Северный берег его возвышается на тысячу с лишним футов над уровнем моря. На этой высоте находится плоскогорье, тянущееся до средины острова и увенчанное высоким конусом наподобие Тенерифского пика. Нижняя половина конуса одета громадными деревьями, верхняя же — голая скала, почти всегда скрывающаяся в облаках и покрытая снегом в течение большей части года. Вокруг острова нет мелей и рифов; берега замечательно крутые и море глубокое. На северо-западной стороне есть бухта с черным песчаным берегом, у которого легко пристать на лодках при южном ветре. Тут можно запастись пресной водой и наловить трески и другой рыбы.
Следующий по величине остров, самый западный в группе, Называется Неприступным. Он находится под 37®17′ южной широты и 12®24′ западной долготы. Он имеет семь-восемь миль в окружности и совершенно неприступный вид. Вершина его заканчивается плоскогорьем. Остров крайне бесплоден, на нем нет почти никаких растений, кроме чахлых кустарников.
Остров Соловей самый маленький и южный по положению, под 37®26′ южной широты, 12®12′ западной долготы. Южная оконечность его примыкает к группе высоких утесистых островков, несколько таких утесов есть и на северо-восточной стороне. Почва неровная и бесплодная, посреди острова проходит глубокая долина.
В известное время года берега этих островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, щетинистыми и мохнатыми тюленями, также всякого рода морскими птицами. Киты также часто попадаются по соседству. В прежнее время эти различные животные ловились в таком изобилии, что острова часто посещались. Сначала ездили сюда голландцы и французы. В 1790 г. капитан корабля «Индустрия» Паттен пробыл на Тристан д’Акунья семь месяцев (с августа 1790 г. по апрель 1791 г.), занимаясь ловлей тюленей. За этот период он собрал пять тысяч шестьсот шкур и утверждает, что мог бы в три недели нагрузить жиром большой корабль. Он не встретил на острове четвероногих животных, кроме нескольких диких коз; в настоящее же время острова изобилуют самыми ценными домашними животными, которые были завезены последующими мореплавателями.
Помнится, вскоре после капитана Паттена американец Колькгун на бриге «Бетси» посетил главный остров и посадил тут лук, картофель, капусту и другие овощи, которые и теперь растут там в изобилии.
В 1811 г. некий капитан Гейвуд на корабле «Нерей» посетил Тристан. Он нашел здесь трех американцев, которые занимались заготовлением тюленьих шкур и жира. Один из них, Джонатан Ламберт, называл себя правителем острова. Он расчистил и обработал около шестидесяти акров земли, засадив их кофейным деревом и сахарным тростником, которыми снабдил его американский консул в Рио-де-Жанейро. В конце концов, однако, эта колония прекратила свое существование, а в 1817 г. архипелаг был объявлен британским владением, и английское правительство выслало сюда колонистов с мыса Доброй Надежды. Они, однако, пробыли здесь недолго, но впоследствии поселились здесь три английские семьи независимо от правительства. Двадцать пятого марта 1824 г. капитан Джеффри на корабле «Бервик» заглянул сюда по пути из Лондона на Ван-Дименову Землю и нашел здесь англичанина по имени Глэсс, бывшего капрала британской артиллерии. Он величал себя генерал-губернатором островов; под его начальством находилось двадцать мужчин и три женщины. Он отзывался с большой похвалой о здоровом климате и плодородии островов. Колонисты занимались, главным образом, заготовлением тюленьих шкур и жира морских слонов, сбывая эти продукты в Капскую Землю на маленькой шхуне, принадлежавшей Глэссу. Когда мы прибыли сюда, губернатор по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и состояла из пятидесяти шести душ на Тристане и маленького поселка в семь душ на Соловье. Мы достали у них овощей и всякого рода живности: овец, свиней, коз, кроликов, рыбы. Бросив якорь у самого острова на глубине восемнадцати саженей, мы без труда перевезли все это на шхуну. Капитан Гай купил также у Глэсса пятьсот тюленьих шкур и запас слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока господствовал северо-западный ветер и стояла пасмурная погода. Пятого ноября мы отплыли к юго-западу с целью отыскать и исследовать группу островов Аврора, насчет которых существовали самые разноречивые мнения.
Говорят, будто эти острова были открыты в 1762 г. капитаном корабля «Аврора». В 1790 г. капитан Мануэль де Оярвидо на корабле «Принцесса», принадлежавшем Королевской Филиппинской компании, проходил, как сам утверждает, среди этих островов. В 1794 г. испанский корвет «Атревида» отправился определить их точное географическое положение. В мемуарах, напечатанных Королевским Гидрографическим обществом в Мадриде в 1809 г., сказано об этой экспедиции следующее: «Корвет „Атревида“ произвел все необходимые наблюдения 21—27 января и измерил хронометром разницу долготы между этими островами и портом Соледадом. Всего островов три, лежат почти на одном меридиане, средний довольно низменный, остальные два видны с моря на расстоянии девяти лиг». Наблюдения на «Атревиде» доставили следующие данные относительно географического положения островов. Самый северный находится под 52®37’24″ южной широты и 47®43’15″ западной долготы; средний под 53®2’40″ южной широты и 47®55’15″ западной долготы; самый южный под 53®15’22″ южной широты и 47®57’15″ западной долготы.
Двадцать седьмого января 1820 г. капитан британского флота Джэмс Уэддел отправился на поиски о-ва Авроры. В своем отчете он говорит, что разыскивал их самым тщательным образом; прошел не только через пункты, указанные капитаном «Атревиды», но и избороздил море по всем направлениям по соседству с этими пунктами и, однако, не нашел ни малейших признаков земли.
Эти противоречивые показания заставили других моряков пуститься на поиски, и странное дело: одни, обследуя море в том месте, где должны находиться острова, не нашли их, другие видели и подходили к их берегам. Капитан Гай намеревался сделать все от него зависящее, чтобы решить наконец этот странный спор. (Из судов, видевших острова Авроры, можно упомянуть о корабле «Сан-Мигуэль» в 1709 г., «Аврора» в 1774 г., бриг «Жемчужина» в 1779 г. и «Долорес» в 1790 г. Все они указывают на то, что острова расположены на 53® южной широты.)
Мы продолжали путь в юго-западном направлении при переменной погоде и двадцатого были у спорного пункта под 53″15′ южной широты, 47®58′ западной долготы, т. е. подле того места, на котором должен был находиться южный остров группы. Отсюда мы повернули на север до пятьдесят второй параллели, затем на восток, продолжая аккуратно определять широту и долготу утром и вечером. Достигнув меридиана, соответствующего западному берегу острова Южная Георгия, мы снова спустились по этому меридиану до пятьдесят третьей параллели, описав таким образом четырехугольник. Затем пересекли его по диагоналям, все время имея вахтенного на марсе. Исследование продолжалось в течение трех недель при удивительно спокойной погоде. В результате мы пришли к убеждению, что если тут и были когда-нибудь острова, то от них не осталось и следов. По возвращении домой я узнал, что такое же исследование было произведено в 1822 г. капитаном Джонсоном на американской шхуне «Генри» и капитаном Моррелем на американской шхуне «Оса» — в обоих случаях с таким же результатом, как наш.
ГЛАВА XVI[править]
Первоначальным намерением капитана Гая было, проверив сведения насчет архипелага Авроры, направиться к Магелланову проливу, а оттуда вдоль западного берега Патагонии; но справки, полученные на Тристан д’Акунья, заставили его отклониться к югу в надежде разыскать маленькие острова, находившиеся, по слухам, под 60® южной широты и 41®20′ западной долготы. Если бы не удалось открыть эти острова, он намеревался пройти далее к полюсу, насколько позволит время года. Итак, двенадцатого декабря мы отплыли в этом направлении. Восемнадцатого находились в пункте, указанном Глэссом, и трое суток крейсировали вокруг него, не найдя и следа островов, о которых он говорил. Двадцать первого, при удивительно ясной погоде, мы направились далее к югу, решившись плыть в этом направлении как можно дальше. Прежде чем перейду к этой части моего рассказа, считаю нелишним изложить вкратце историю немногочисленных попыток проникнуть к Южному полюсу для читателей, незнакомых с этим предметом.
Первая попытка, о которой мы имеем точные сведения, экспедиция капитана Кука. В 1772 г. он отправился к югу на корабле «Резольюшн» в сопровождении лейтенанта Фюрно на «Адвенгур». В декабре он достиг пятьдесят восьмой параллели под 26®57′ западной долготы. Тут встретились ему ледяные поля от восьми до десяти дюймов толщиной, простиравшиеся на северо-запад и юго-восток. Льдины лежали такими сплошными грудами, что корабли с большим трудом пробирались между ними. По множеству птиц и другим признакам капитан Кук предполагал, что неподалеку должна быть земля. Он продолжал плыть к югу при крайне холодной погоде, пока не достиг шестьдесят четвертой параллели под 38® 14′ западной долготы. Тут погода стала теплее, подул легкий ветер, в течение пяти дней термометр показывал 36®. В январе 1773 г. корабли пересекли Южный полярный круг, но не могли пробраться дальше, так как под 67®15′ южной широты были остановлены колоссальным ледяным полем, застилавшим южный горизонт насколько хватало глаз. Льдины были самой разнообразной формы, иные в несколько миль, и поднимались над водой на восемнадцать — двадцать футов. Ввиду позднего времени года и не надеясь обогнуть это препятствие, капитан Кук скрепя сердце повернул к северу.
В ноябре того же года он возобновил свои исследования в Антарктическом океане. Под 59®40′ южной широты ему попалось сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда корабли находились под 67®З1 ‘ южной широты, 142®54′ западной Долготы, наступили жестокие холода с сильными ветрами и туманами. Здесь тоже в изобилии попадались птицы: альбатросы, пингвины и в особенности буревестники. Под 70®23′ широты наткнулись на обширные ледяные поля, а вскоре затем облака на южной стороне горизонта приняли белоснежную окраску, указывавшую на присутствие сплошного льда. Под 71®10′ южной широты, 106®54′ западной долготы мореплаватели снова были остановлены сплошной массой льда, захватывавшей все видимое пространство к югу. Северная окраина этого ледяного поля была изломана и загромождена льдинами, образовавшими почти непроходимый вал шириной в милю. Далее простирался сравнительно гладкий лед, заканчивавшийся на горизонте гигантскими ледяными горами, нагроможденными одна на другую. Капитан Кук заключил, что это ледяное поле простирается до полюса или примыкает к материку. Мистер Дж. Н. Рейнольдс, настойчивости которого мы обязаны снаряжением национальной экспедиции, частью для исследования этих областей, говорит о попытке «Резольюшн» следующее: «Мы не удивляемся, что капитан Кук не мог пробраться дальше 71® 10′ южной широты, но мы поражены, узнав, что он достиг этого пункта под 106®54’ западной долготы. Земля Пальмера лежит к югу от Шетландских островов под 64® широты и простирается к юго-западу дальше, чем мог проникнуть какой-либо мореплаватель. Кук наткнулся на эту землю, когда его плавание было остановлено льдом, который, надо опасаться, никогда не оттаивает в этой местности. Весьма возможно, что ледяные горы, о которых упоминается в его отчете, составляют часть земли Пальмера».
В 1803 г. капитаны Крузенштерн и Лисянский были отправлены в кругосветное плавание императором Александром I. Пытаясь пробраться к югу, они достигли только 59®58′ южной широты под 70® 15′ западной долготы. Тут попались им сильные течения, направлявшиеся к востоку. Они видели множество китов, но не заметили льда. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что если бы Крузенштерн прибыл в описываемую им область пораньше, то наверное застал бы здесь лед: он достиг вышеуказанного пункта в марте месяце. Южные и юго-западные ветры, господствовавшие в то время, вместе с морскими течениями отнесли лед в холодную область, ограниченную на севере островом Южная Георгия, на востоке островами Сандвичевскими и Южными Оркнейскими островами, на западе Южными Шетландскими.
В 1822 г. капитан британского флота Джэмс Уэддел с двумя маленькими суденышками пробрался к югу дальше всех предшествующих мореплавателей и притом без особенных затруднений. По его словам, плавучие льды мешали ему только до семьдесят второй параллели, а дальше море оказалось свободным, и до 74® 15′ попались только три ледяных островка. Странно, что несмотря на громадные стаи птиц и другие признаки земли, несмотря на то, что к югу от Шетландских островов была замечена с марса неизвестная земля, капитан Уэддел все-таки отрицает существование материка в южной полярной области.
Одиннадцатого января 1823 г. капитан Бенджамен Моррель на американской шхуне «Оса» отправился с острова Кергуэлен на юг, намереваясь проникнуть как можно дальше. Первого февраля он находился под 64®52′ южной широты, 118®27′ западной долготы. В журнале его под этим числом значится следующее: «Вскоре ветер усилился до одиннадцати узлов, и мы воспользовались этим, чтобы идти к западу. Но убежденные, что за шестьдесят четвертой параллелью будет все меньше и меньше льдов, мы все время уклонялись к югу, пока не перешли южный полярный круг и достигли 69®15′ широты. На этой широте мы вовсе не встретили сплошного льда, а видели только редкие отдельные льдины».
Четырнадцатого марта отмечено следующее: «Море было свободно ото льда, не более дюжины ледяных островков находилось в виду. В то же время температура воздуха и воды стояла по крайней мере на тридцать градусов выше, чем где бы то ни было между шестидесятой и шестьдесят второй параллелью. Мы находились теперь под 70®14′ южной широты, температура воздуха была 47®, воды 44®. Я определил отклонение магнитной стрелки в 14®27′ к востоку… Я бывал и раньше за антарктическим кругом на различных меридианах и всякий раз убеждался, что температура воздуха и воды становится тем выше, чем дальше проникаешь за шестьдесят пятую параллель. К северу от этой параллели, между шестидесятым и шестьдесят пятым градусами, мы нередко пробирались с величайшим трудом среди огромных и бесчисленных ледяных гор, из которых многие имели до двух миль в окружности и возвышались над уровнем моря на пятьсот и больше футов».
Вследствие позднего времени года, недостатка воды и топлива и отсутствия необходимых инструментов капитан Моррель должен был вернуться, не пытаясь проникнуть далее на юг, хотя перед ним простиралось открытое море. Он говорит, что, если бы не эти обстоятельства, ему удалось бы добраться до полюса или, по крайней мере, до восемьдесят пятой параллели. Я остановился на его рассказе так долго, чтобы читатель мог судить, насколько он подтвердился моим собственным опытом.
В 1831 году капитан Бриско, служивший у гг. Эндерби, владельцев китобойного судна, отправился в Южный океан на бриге «Живчик» в сопровождении катера «Тэли». Двадцать восьмого февраля, находясь под 66®30′ южной широты, 47®13′ западной долготы, он увидал землю и «ясно различил среди снегов черные вершины горного хребта, тянувшегося в направлении ост-зюйд-ост». Он оставался здесь целый месяц, но не мог подойти к берегу ближе десяти лиг вследствие бурной погоды. Убедившись, что дальнейшие исследования невозможны вследствие позднего времени года, он повернул к северу и пошел зимовать на Ван-Дименову Землю.
В начале 1832 г. он снова отправился на юг и четвертого февраля увидел землю на юго-востоке под 67®15′ южной широты и 69®29′ западной долготы. Она оказалась островом, примыкавшим к ранее открытой земле. Двадцать первого он высадился на эту землю и вступил во владение ею от имени Вильгельма IV, дав ей название «остров Аделаиды» в честь английской королевы. Королевское Географическое общество в Лондоне, выслушав отчет об этих путешествиях, пришло к следующему заключению: «Непрерывная полоса суши тянется от 473® 0′ восточной до 69®29′ западной долготы между шестьдесят шестой и шестьдесят седьмой параллелями южной широты». Мистер Рейнольдс замечает по поводу этого: «Мы отнюдь не находим это заключение правильным, да и открытия Бриско вовсе не оправдывают его. В пределах указанной области капитан Уэддел проник далеко к югу». Мой собственный опыт доказывает полнейшую несостоятельность вывода, к которому пришло общество.
Вот главные попытки проникнуть к Южному полюсу. Из всего вышеизложенного видно, что до путешествия «Джэн Гай» оставалось около трехсот градусов долготы, в пределах которых Южный полярный круг ни разу не был перейден. Таким образом, перед нами открывалось обширное поле для открытий, и я с живейшим интересом отнесся к намерению капитана Гая проникнуть подальше к югу.
ГЛАВА XVII[править]
Бросив поиски островов Глэсса, мы плыли на юг в течение четырех суток, не замечая и признаков льда. В полдень двадцать шестого мы находились под 63®23′ южной широты, 41®25′ запад-вой долготы. Тут мы заметили несколько ледяных гор и небольшое поле сплошного льда. Ветер был большей частью с юго-востока или северо-восточный, но очень слабый. Изредка поднимался западный, всегда с дождем. Каждый день шел более или менее сильный снег. Двадцать седьмого термометр показывал тридцать пять градусов.
1 января 1828 г. — Мы совершенно затерты льдами, и перспектива, открывающаяся перед нами, совсем не веселого свойства. Сильный северо-восточный ветер, поднявшийся с полудня, нагонял такие груды льда на нос и корму, что мы каждую минуту дрожали за последствия. Вечером при бешеном урагане громадное ледяное поле, простиравшееся перед нами, раскололось, так что нам удалось, подняв все паруса, протиснуться в более свободную от льдов часть моря. Приближаясь к этому открытому пространству, мы постепенно убавляли паруса и наконец, выбравшись на свободу, легли в дрейф под фок-зейлем на одном рифе.
2 января. — Погода улучшилась. В полдень мы находились под 69®10′ южной широты, 42®20′ западной долготы, по ту сторону Южного полярного круга. К югу почти не видно льда, хотя за нами остались обширные ледяные поля. Мы устроили лот из чугунного котла в двадцать галлонов и веревки в двести саженей длиной. Течение направляется к северу с быстротой четверть мили в час. Температура воздуха около тридцати трех градусов. Отклонение к востоку 14®28′.
5 января. — Продолжали путь к югу, не встречая особенных препятствий. Однако в это утро под 73® 15′ южной широты и 42® 10′ западной долготы мы были задержаны огромным ледяным полем. Направившись к востоку, вдоль окраины ледяного поля, мы встретили наконец проход в милю шириной, по которому кое-как пробрались уже на закате солнца. За ним оказалось море, Усеянное льдинами, но свободное от сплошного льда, так что мы смело продолжали путь. Холод не усиливался, хотя снег перепадал довольно часто, а иногда шел сильный град. Громадные стаи альбатросов пролетали над шхуной, направляясь с юго-востока на северо-запад.
7 января. — Море по-прежнему не особенно загромождено льдами, так что мы без труда продолжаем наш путь. В западном направлении заметили несколько чудовищных ледяных гор, а под вечер прошли мимо одной из них. Вершина ее отстояла от поверхности океана по меньшей мере на четыреста саженей. В обхвате она имела приблизительно около трех четвертей мили и множество потоков струилось из расщелин по ее бокам. Мы остались в виду этого ледяного острова двое суток; затем он исчез в тумане.
10 января. — Рано утром мы имели несчастье потерять человека. Это был Петер Вреденбург, американец, уроженец Нью-Йорка, один из лучших матросов на нашей шхуне. Проходя по носу, он поскользнулся, упал в море между двух льдин, и больше его не видали. В полдень мы находились под 78®30′ широты, 40®15′ западной долготы. Холод стоял лютый, то и дело набегали тучи с градом с северо-востока. В том же направлении видели много огромных льдин, а весь восточный горизонт загроможден ледяными горами, которые поднимаются амфитеатром, одна над другой. Вечером были замечены обломки какого-то судна и множество птиц — буревестников, альбатросов и каких-то особенных, блестящего голубого цвета. Магнитное отклонение здесь меньше, чем по ту сторону Южного полярного круга.
12 января. — Наше плавание снова затруднено, ничего не видно в направлении полюса, кроме бесконечного, по-видимому, сплошного льда, груды ледяных утесов, вздымающихся один над другим. До четырнадцатого мы шли к западу в надежде отыскать проход.
14 января. — Утром мы добрались до западной оконечности ледяного поля, преграждавшего нам путь, и, обогнув его, вышли в открытое море без малейших следов льда. Мы нашли здесь течение, направляющееся к югу со скоростью полумили в час. Температура воздуха 47®, воды 34®. Мы продолжали плыть к югу до шестнадцатого, не встречая никаких препятствий; в этот день мы достигли 82®1′ широты под 42® западной долготы. Течение по-прежнему устремляется к югу со скоростью трех четвертей мили в час. Отклонение магнитной стрелки уменьшилось, температура мягкая и приятная, термометр показывает 51®. Льда ни крошки. Все на корабле уверены, что мы достигаем полюса.
17 января. — День, полный приключений. Бесчисленные стаи птиц тянулись с юга, мы застрелили несколько штук, в том числе пеликана, оказавшегося превосходным блюдом. Около полудня марсовой заметил небольшую льдину с правого борта, а на ней какое-то огромное животное. Так как погода стояла хорошая и ясная, то капитан Гай отрядил две шлюпки посмотреть, что это за зверь. Дэрк Петерс и я сопровождали старшего помощника в большой лодке. Подплыв к льдине, мы увидели гигантского зверя из породы белых медведей, но гораздо больших размеров, чем обыкновенный вид. Так как мы были хорошо вооружены, то и решились напасть на него без всяких колебаний. Сделали залп; большая часть пуль попала, по-видимому, в голову зверя. Ничуть не смущаясь этим, он кинулся в море и поплыл, разинув пасть, к лодке, в которой находились Петерс и я. Вследствие смятения, вызванного этим неожиданным оборотом дела, никто не успел выстрелить вторично, и медведь, ввалившись до половины в нашу лодку, схватил одного из матросов за крестец, прежде чем мы приготовились к защите. Только проворство и находчивость Петерса спасли нас от гибели в эту критическую минуту. Вскочив на спину зверя, он погрузил нож ему в шею, перерезав спинной мозг одним ударом. Животное рухнуло в море, увлекая за собой Петерса. Последний, впрочем, тотчас вынырнул и, прежде чем взобраться на лодку, обвязал труп зверя веревкой, которую мы бросили ему. Затем мы с торжеством вернулись на шхуну, таща за собой наш трофей. Длина этого медведя оказалась пятнадцать футов. Шерсть была совершенно белая, жесткая и курчавая. Глаза кроваво-красные, больше, чем у обыкновенного полярного медведя, морда более закругленная, напоминающая морду бульдога. Мясо очень нежное, но горькое и сильно отзывалось рыбьим жиром. Впрочем, наши матросы ели его с жадностью и находили превосходным.
Не успели мы втащить нашу добычу на корабль, как с марса раздался радостный крик: «Земля с левого борта!» Все оживились и вскоре при попутном ветре с северо-востока подошли к берегу. Земля оказалась низким скалистым островом около мили в окружности, почти без всякой растительности. С северной стороны его выдавался небольшой мыс странной формы, Напоминавший тюк хлопчатой бумаги. К западу от него находилась маленькая бухта, в которой могли пристать наши шлюпки. Не много времени потребовалось, чтобы осмотреть остров, но, за одним исключением, мы не нашли ничего замечательного. На южной оконечности островка мы вытащили из-под груды камней обломок дерева, напоминавший по форме нос челнока. На нем была заметна резьба, и капитан Гай различил в ней изображение черепахи, но, надо сознаться, весьма сомнительного сходства. За исключением этого обломка мы не нашли никаких следов прежнего пребывания людей на острове. У берегов попадались изредка небольшие скопления льда. Точное положение островка (которому капитан Гай дал название «Остров Беннета» в честь своего компаньона) 82®50′ южной широты, 42®20′ западной долготы.
Мы пробрались к югу на восемь градусов дальше всех прежних мореплавателей, а перед нами все еще расстилалось открытое, свободное ото льда море. Отклонение магнитной стрелки постепенно уменьшалось по мере нашего движения к югу, и, что всего удивительнее, температура воздуха и воды становилась мягче. Погоду можно было даже назвать приятной; легкий ветер все время дул в одном направлении, с севера. Небо большей частью было ясно, только время от времени собирались тучки на южной стороне горизонта, но вскоре исчезали. Нас смущали только два обстоятельства: недостаток топлива и скорбут, проявившийся среди экипажа. Эти обстоятельства заставили капитана Гая подумать о возвращении, и он несколько раз говорил об этом. Я со своей стороны убежденный, что мы вскоре наткнемся на землю и, судя по всему, не такую бесплодную, какие обыкновенно встречаются в высоких полярных широтах, горячо убеждал его продолжать путь в том же направлении, по крайней мере, еще несколько дней. Никогда еще мореплавателям не представлялся такой удобный случай решить великую проблему антарктического материка, и я, признаюсь, пылал негодованием на робость и нерешительность капитана. Я думаю даже, что мои настояния убедили его отказаться от намерения вернуться. И хотя я с глубоким сожалением вспоминаю о грустных и кровавых событиях, явившихся результатом моих настояний, но не могу не чувствовать известного удовлетворения при мысли, что содействовал, хотя бы косвенно, раскрытию величайших, интереснейших тайн, когда-либо привлекавших внимание науки.
ГЛАВА XVIII[править]
18 января. — Утром (термины утро и вечер, к которым я прибегаю ради удобства, разумеется, не должны быть понимаемы в обычном смысле. Мы давно уже не видали ночи, пользуясь постоянным днем. Даты обозначены мной, как они определялись на корабле, по морскому времени. Замечу кстати, что я не могу ручаться за точность определения времени, долготы и широты в первой части моего рассказа, так как начал вести регулярный дневник только позднее. Во многих случаях мне приходилось полагаться на память) продолжали путь к югу при той же приятной погоде. Море совершенно гладко, довольно теплый ветерок с северо-востока, температура воды пятьдесят три градуса. Снова определили направление морского течения и убедились, что оно устремляется к югу с быстротой мили в час. Это постоянство в направлении течения и ветра возбуждало недоумения и даже тревогу в экипаже и смущало самого капитана Гая. Но он крайне боялся показаться смешным, и мне удалось шутками рассеять его опасения. Отклонение магнитной стрелки было теперь ничтожное. В течение дня мы видели множество китов; бесчисленные стаи альбатросов тянули над кораблем. Мы поймали в море кустарник с красными ягодами вроде боярышника и труп какого-то странного животного, очевидно, сухопутного. Длиной оно было в три фута, толщиной в шесть дюймов, с короткими лапами и длинными когтями ярко-красного цвета, напоминавшими коралл. Тело было покрыто белой шелковистой шерстью. Хвост остроконечный, как у крысы, фута в полтора длиной. Голова напоминала голову кошки, исключая уши, болтавшиеся, как у собаки. Зубы были такого же ярко-красного цвета, как и когти.
19 января. — Сегодня под 83®20″ широты, 43®5″ западной долготы (море приняло замечательно темную окраску) мы снова увидели землю, которая оказалась группой очень больших островов. Берег был утесистый, внутренняя часть, по-видимому, одета лесом, что очень обрадовало нас. Спустя четыре часа после того, как земля была впервые замечена, мы бросили якорь на глубине десяти саженей на расстоянии мили от берега, так как сильный прибой не позволял подойти ближе. Капитан отрядил две самые большие шлюпки, и партия хорошо вооруженных матросов (в том числе Петерс и я) отправилась разыскивать проход среди рифов, окружавших остров. После непродолжительных поисков мы нашли пролив и хотели войти в него, когда заметили, что от берега отплыли четыре больших челна, наполненные людьми, по-видимому, хорошо вооруженными. Мы остановились, поджидая их, и так как они плыли очень быстро, то вскоре приблизились к нам. Капитан Гай привязал к веслу белый платок в знак мира — увидев его, туземцы остановились и заговорили все разом на каком-то незнакомом языке. Мы могли разобрать только отдельные восклицания «Анаму-му» и «Лама-Лама!» Это продолжалось полчаса, причем мы могли хорошо рассмотреть наружность туземцев.
В четырех челнах длиной футов в пятьдесят, шириной в четыре сидело сто десять дикарей. Они были такого же роста, как европейцы, но более крепкого мускулистого сложения, черные, как уголь, с густыми, длинными, похожими на шерсть волосами. Одеждой им служили косматые, с шелковистой шерстью шкуры какого-то неизвестного животного, довольно искусно обернутые вокруг тела мехом внутрь; только на шее, руках и ногах мех был выворочен наружу. Оружие их состояло, главным образом, из дубин какого-то черного и, по-видимому, очень тяжелого дерева. Кроме того, мы заметили несколько копий с кремневыми наконечниками и пращи. На дне лодок лежали груды черных каменьев величиной с куриное яйцо.
Когда они кончили свое приветствие (кажется, их болтовня имела смысл приветственной речи), один из них, по-видимому вождь, встал на нос челна и знаками приглашал нас приблизиться. Мы сделали вид, что не понимаем его приглашения, считая более благоразумным держаться на некотором расстоянии, так как дикарей было вчетверо больше, чем нас. Догадавшись о наших опасениях, вождь велел трем лодкам отойти подальше, а сам приблизился к нам на своем челне, перескочил в большую шлюпку и уселся рядом с капитаном, указывая на шхуну и повторяя слова «Анаму-му» и «Лама-Лама». Затем мы отправились на корабль, а четыре челна следовали за нами на некотором расстоянии.
Поднявшись на палубу, начальник выразил крайнее удивление и восхищение, хлопал в ладоши, бил себя по ляжкам и в грудь и хохотал, как сумасшедший. Его спутники разделяли его веселье, так что в течение нескольких минут стоял оглушительный гвалт. Когда наконец восстановилось спокойствие, капитан Гай приказал поднять шлюпки в видах предосторожности и знаками объяснил начальнику (имя которого, как мы вскоре узнали, было Ту-Уит), что он не может принять на корабль более двадцати человек разом. Дикарь, по-видимому, согласился на это требование и отдал какие-то распоряжения, после которых один из челнов приблизился к кораблю, а остальные отошли на расстояние пятидесяти ярдов. Двадцать дикарей взобрались на палубу и тотчас принялись осматривать корабль, лазить по снастям, чувствуя себя, по-видимому, как дома, и рассматривая каждую вещь с величайшим любопытством.
Ясно было, что они никогда еще не видали белых людей и что этот цвет внушал им крайнее отвращение. Они принимали «Джэн» за живое существо и, по-видимому, боялись ранить ее своими копьями, стараясь держать их остриями вверх. Одна выходка Ту-Уита в особенности рассмешила наших матросов. Повар колол дрова подле кухни и, промахнувшись, вогнал топор глубоко в палубу. Вождь тотчас подбежал к нему, грубо оттолкнул и не то застонал, не то завыл в знак сочувствия страданиям шхуны, поглаживая ее рану рукой и обмывая морской водой из кадки, стоявшей подле. Мы не ожидали такого невежества, и я не мог отделаться от мысли, что вождь притворяется.
Когда посетители удовлетворили свое любопытство, осмотрев палубу, мы пригласили их в каюту. Тут удивление их превзошло всякие границы, по-видимому, даже лишило их способности говорить, так как они стояли в молчаливом изумлении, испуская отрывистые восклицания. Оружие в особенности заинтересовало их, и мы позволили им вертеть и осматривать его как угодно. Кажется, они не поняли настоящего значения этих предметов, а приняли их за идолов, видя, как внимательно мы следим за ними. Пушки еще более изумили дикарей. Они приближались к ним со знаками глубочайшего почтения и боязни, но не решались трогать и ощупывать. Но удивление их достигло кульминации при виде двух больших зеркал в каюте. Ту-Уит первый приблизился к ним, дойдя до середины каюты, лицом к одному зеркалу, спиной к другому. Он не сразу заметил их, но когда поднял глаза и увидел свое отражение в стекле, то совсем ошалел; когда же, обернувшись, увидел себя и с другой стороны, то я думал, что его хватит удар. Никакие увещания не могли заставить его взглянуть в зеркало еще раз; бросившись на пол, он лежал ничком, пока мы не вытащили его на палубу.
Таким образом все дикари перебывали на шхуне, по двадцати человек за раз; только Ту-Уит оставался все время. Мы не заметили в них наклонности к воровству, и после их ухода все вещи оказались налицо. Все они выказывали самые дружеские намерения. Правда, некоторые особенности в их поведении показались нам странными; например, они ни за что не хотели подойти к совершенно безобидным предметам; парусам, яйцу, открытой книге, корзине с мукой. Мы старались узнать, нет ли у них каких-нибудь товаров для продажи, но не могли втолковать им, что нам требуется. Мы узнали, однако, к нашему изумлению, что острова изобилуют большими галапагосскими черепахами, и видели одну в челноке Ту-Уита. Мы заметили также несколько трепанов у одного из дикарей, который с жадностью пожирал их сырыми. Эти неожиданные — имея в виду широту местности — явления навели капитана Гая на мысль тщательно исследовать остров в надежде извлечь какую-нибудь выгоду из этого открытия. Я, со своей стороны, хотя и интересовался островами, но еще сильнее пылал нетерпением продолжать путь к Южному полюсу. Погода стояла прекрасная, но никто не мог сказать, долго ли она простоит. Между тем мы достигли уже восемьдесят четвертой параллели, перед нами расстилалось открытое море, течение несло нас к югу — мудрено ли, что мне не хотелось оставаться здесь дольше, чем было необходимо для поправки экипажа и для того, чтобы запастись топливом и свежей провизией. Я доказывал капитану, что мы можем остановиться подольше на этих островах на обратном пути и перезимовать здесь, если льды преградят нам путь. В конце концов он согласился со мной (не знаю, каким образом, но я приобрел над ним влияние) и решил, что даже если нам удастся найти много трепангов, мы пробудем на островах самое большее неделю, пополним свои запасы и затем отправимся дальше на юг. Согласно этому решению, мы сделали все необходимые приготовления, провели «Джэн» сквозь рифы по указаниям Ту-Уита и бросили якорь на расстоянии мили от острова в прекрасной бухте глубиной в десять саженей, с черным песчаным дном, защищенной со всех сторон суши. У входа в гавань впадали в море три ручья (по словам дикарей) с превосходной ключевой водой; окрестности были одеты лесом. Четыре челна следовали за нами, впрочем, на почтительном расстоянии. Сам Ту-Уит оставался на шхуне, а когда мы бросили якорь, пригласил нас посетить его деревню. Капитан Гай согласился; десять дикарей остались в качестве заложников, а мы, всего двенадцать человек, отправились с вождем, хорошенько вооружившись, но стараясь не обнаруживать недоверия. На шхуне приготовили пушки, подняли абордажные сети, вообще приняли все меры предосторожности на случай внезапного нападения. Старший помощник получил приказание не принимать никого на шхуну в наше отсутствие, а если мы не вернемся через двадцать часов, выслать на поиски шлюпку фальконетом.
На острове мы на каждом шагу убеждались, что попали в страну, где никогда не ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было ново и неожиданно. Деревья совсем не напоминали растительность жаркого, умеренного или северного полярного пояса, не походили даже на те, которые попадались нам до сих пор в южных широтах. Скалы поражали нас своей странной формой, цветом, строением; сами ручьи, как ни кажется это невероятным, до того отличались от виденных нами раньше, что мы не решались пить их воду и не могли поверить, что эта вода естественная. У небольшого ручья, пересекавшего нам путь (первого, который мы встретили), Ту-Уит и его спутники остановились напиться. Но мы не решились попробовать эту странную воду, думая, что она испорчена, и только позднее убедились, что решительно все речки на этих островах таковы. Я затрудняюсь дать понятие об этой воде в немногих словах. Хотя она быстро струилась по склонам почвы, как и обыкновенные воды, но нигде, за исключением каскадов, не обладала свойственной воде прозрачностью. Между тем она была чиста, как самая лучшая ключевая вода, отличаясь от последней только внешним видом. С первого взгляда, в особенности там, где уклон дна был незначителен, она напоминала густой раствор обыкновенного гуммиарабика. Но это не было ее главной отличительной чертой. Она не была бесцветна и не представляла какого-либо определенного цвета, а отливала бесчисленными оттенками пурпура, подобно шелковой материи. Эти переливы красок возбуждали в нас такое же удивление, как зеркало в Ту-Уите. Наполнив кувшин этой водой и дав ей отстояться, мы заметили, что она состоит из множества отдельных разноцветных жилок, что эти жилки не смешиваются и что только частицы внутри жилок плотно соединены друг с другом, сами же они отделены друг от друга. Когда мы проводили ножом в воде, они тотчас смыкались, не оставляя никаких следов разреза. Но если нож случайно проходил между двух жилок и разъединял их, то они не сразу сближались. Эта удивительная вода представляет первое звено в цепи чудес, среди которых я жил с этого дня.
ГЛАВА XIX[править]
Мы шли почти три часа, так как деревня отстояла на девять миль от берега, а дорога шла по очень неровной местности. По пути толпа дикарей (с Ту-Уитом отправились все сто десять человек, бывшие в челнах) постоянно росла, так как к ней то и дело присоединялись новые партии душ по шести-семи. Они являлись, по-видимому, случайно, но эта случайность вызывала мысль о системе; у меня невольно возникло недоверие, и я сообщил о своих опасениях капитану Гаю. Теперь, впрочем, поздно было думать о возвращении, и мы решили, что самое безопасное для нас делать вид, будто мы вполне полагаемся на честность Ту-Уита. Итак, мы продолжали путь, наблюдая исподтишка за поведением дикарей и не позволяя им разделить нас. Таким образом, перебравшись через глубокую пропасть, мы достигли единственной, как нам говорили, деревни на острове. Когда она явилась перед нами, Ту-Уит испустил громкое восклицание и несколько раз повторил слово «Клок-Клок», которое мы приняли за название этой деревни или всех вообще деревень.
Постройки имели невыразимо жалкий вид, и каждая была сооружена на свой манер. Некоторые (принадлежавшие, как мы узнали позднее, «вампу» или «ямпу», т. е. вождям) состояли из дерева, срубленного на высоте четыре фута от земли, вокруг которого свешивались черные шкуры. Под ними и ютились дикари. Другие состояли из больших сучьев, прислоненных под углом градусов в сорок пять к куче земли неправильной формы вышиной в пять или шесть футов. Иные, наконец, были простые ямы, вырытые в земле и прикрытые ветвями, которые снимались, когда хозяин входил в землянку, а затем настилались снова. Немногие были устроены в развилинах древесных стволов, причем верхние сучья были надломлены, так что спускались над нижними, образуя густой шатер. Но большинство представляли пещерки, выдолбленные в стене утеса, состоявшего из какой-то черной земли вроде сукноваляльной глины и окружавшего деревню с трех сторон. У входа в эти первобытные жилища лежали камни, которыми хозяин тщательно задвигал свою хижину, когда уходил из дома. Для чего это делалось, не знаю, так как камни не закрывали входа и на одну треть.
Деревня, если только можно назвать деревней подобное становище, находилась в глубокой долине, в которую можно было проникнуть только с южной стороны, так как с остальных она была окаймлена упомянутым выше утесом. Среди долины струилась шумная речка с такой же странной водой, как та, что мы видели раньше. Мы заметили подле жилищ каких-то странных животных, по-видимому, ручных. Самое крупное из них напоминало нашу обыкновенную свинью формой туловища и рыла, но обладало мохнатым хвостом и тонкими ногами, как у антилопы. Движения его были крайне неуклюжи и нерешительны, и мы ни разу не заметили, чтобы оно пустилось бежать. Были тут и другие животные, похожие на первое, но более удлиненной формы и покрытые черной шерстью. Много было разнообразной домашней птицы, составлявшей, по-видимому, главную пищу туземцев. К нашему удивлению, мы заметили множество черных альбатросов, совершенно ручных, периодически улетавших в море кормиться, но всегда возвращавшихся назад и гнездившихся на близлежащем берегу. На гнездовье они жили совместно с своими друзьями пингвинами, но пингвины никогда не являлись в деревню. Мы заметили также уток, почти таких же, как наших, черных бакланов и большую птицу, похожую на сарыча, но не хищную. Рыба здесь, очевидно, водилась в изобилии. Во время нашего посещения мы видели много сушеной семги, трески, голубых дельфинов, макрели, камбалы, морских угрей, скатов, пеструшек, барвен, доршей, палтусов и рыб других пород. Мы заметили также, что большинство напоминали породы, водящиеся подле Ауклендских островов под пятьдесят первым градусом южной широты. Галапагосские черепахи также попадались во множестве. Мы видели диких зверей, но мало; все они были небольшой величины и не походили ни на один из знакомых нам видов. Две-три змеи самого страшного вида переползли перед нами дорогу, но дикари не обратили на них ни малейшего внимания, из чего мы заключили, что они не ядовиты.
Когда мы подошли к деревне, огромная толпа бросилась навстречу Ту-Уиту и его спутникам с оглушительными криками, среди которых мы различили уже знакомое «Анаму-му» и «Лама-Лама»! Мы с удивлением увидали, что люди, за одним или двумя исключениями, были совершенно нагие. Только дикари, встреченные нами в челнах, носили черные шкуры. По-видимому, в их руках находилось также все местное оружие, так как население деревни было совершенно безоружно. Тут было много детей и женщин, в своем роде довольно красивых. Высокие, стройные, хорошо сложенные, они отличались фацией и свободой движения, редкой в цивилизованном обществе. Губы их, однако, были так же толсты и мясисты, как у мужчин, так что зубов не было видно, даже когда они смеялись. Волосы были тоньше, чем у мужчин. Среди этого голого населения мы заметили человек десять — двенадцать, одетых, подобно спутникам Ту-Уита, в черные шкуры и вооруженных копьями и палицами. По-видимому, они пользовались большим влиянием среди своих соплеменников, которые величали их титулом «вампу». Им же принадлежали шатры из черных шкур. Шатер Ту-Уита помещался в центре деревни и был гораздо больше и лучше устроен, чем остальные. Дерево, служившее для него опорой, было срублено на расстоянии двенадцати футов от земли; пониже оставлено несколько ветвей для крыши, состоявшей из четырех огромных шкур, скрепленных деревянными иглами и прибитых к земле колышками. Пол был покрыт толстым слоем сухих листьев.
Нас торжественно ввели в эту палатку, а за нами втиснулось столько народу, сколько могло поместиться. Ту-Уит уселся на листьях и знаком пригласил нас последовать его примеру. Мы повиновались и очутились в самом неудобном, чтобы не сказать критическом положении. Мы, двенадцать человек, сидели на земле, так плотно стиснутые дикарями, которых набилось в палатку сорок человек, что в случае нападения не могли бы ни воспользоваться своим оружием, ни даже встать на ноги. Народ столпился не только в палатке, но и вокруг нее; тут очевидно собралось все население острова, и если нас не задавили насмерть, то только благодаря увещаниям и окрикам Ту-Уита. Вообще, главной гарантией нашей безопасности был сам вождь; мы окружили его как можно плотнее, решившись умертвить его при первом проявлении враждебных намерений.
После суматохи установилось относительное спокойствие, и вождь обратился к нам с длинной речью, напоминавшей приветствие при первой встрече с той разницей, что слова «Анаму-му» повторялись на этот раз чаще и выразительнее, чем «Лама-Лама». Мы с глубоким вниманием выслушали этот спич, на который капитан Гай отвечал уверениями в вечной дружбе и расположении, предложив в заключение подарок: несколько ниток голубых бус и нож. К нашему удивлению, дикарь презрительно повел носом при виде бус, зато несказанно обрадовался ножу и тотчас велел подавать обед. Обед подавался через головы присутствующих и состоял из сырых, еще трепещущих внутренностей какого-то неизвестного животного, — по всей вероятности, одной из тех свиней на тонких ножках, что мы заметили в деревне. Видя, что мы не знаем, как приняться за еду, он показал нам пример, начав уписывать, ярд за ярдом, это соблазнительное кушанье, так что мы решительно не могли выдержать и проявили самые недвусмысленные признаки революции в желудке, изумившие его величество почти не меньше, чем зеркала. Во всяком случае мы наотрез отказались принять участие в пиршестве, объявив, как умели, что незадолго перед тем плотно позавтракали.
Когда вождь насытился, мы завели разговор, напрягая всю свою изобретательность, чтобы выведать, есть ли на островах какие-либо ценные продукты и можно ли извлечь из них выгоду. Наконец он, по-видимому, догадался, что нас интересует, и предложил провести нас в такое место, где в изобилии водятся трепанги (он показал нам это животное).
Мы обрадовались случаю вырваться из толпы и знаками выразили свою готовность следовать за ним. Затем мы вышли из палатки и в сопровождении всей деревни отправились за вождем к юго-восточной оконечности острова, поблизости от бухты, в которой стоял на якоре наш корабль. Тут мы прождали около часа, пока дикари не пригнали к нам четыре челна. Вся наша компания уселась в один из них, и мы отправились вдоль рифов, о которых я уже упоминал, к другой гряде утесов, подле которых я увидел такую массу трепангов, какую вряд ли встречали старейшие из нас, несмотря на то, что южные широты вообще изобилуют этим ценным животным. Убедившись, что тут найдется чем нагрузить хоть дюжину кораблей, мы вернулись на шхуну и простились с Ту-Уитом, взяв с него обещание привезти нам столько уток и галапагосских черепах, сколько поместится в его челноке. В течение всего этого времени мы не заметили ничего подозрительного в поведении дикарей, кроме разве систематического появления новых отрядов по дороге в деревню.
ГЛАВА XX[править]
Вождь исполнил свое обещание и в изобилии снабдил нас съестными припасами. Черепахи были очень хороши, утки оказались лучше всякой нашей дичины: нежные, сочные, тонкого вкуса. Кроме того, дикари привезли нам кучу сельдерея и ложечной травы и целую лодку сушеной и свежей рыбы. Сельдерей оказался очень вкусной приправой, а ложечная трава отличным лекарством для больных скорбутом. В самое короткое время все больные поправились. Нам доставили также много других припасов, в том числе какие-то раковины, видом напоминавшие обыкновенную ракушку, но вкусом устрицу; креветки, яйца альбатроса и других птиц, большой запас мяса свиней, о которых я уже упоминал. Большинство матросов находили его сносной пищей, но мне оно не нравилось, так как отзывалось рыбой. В обмен за эти припасы мы дали дикарям голубые бусы, оловянные кружки, гвозди, ножи, куски красной материи. Они, видимо, были очень довольны этой меной. Мы открыли торг на берегу под прикрытием пушек, причем дикари относились к нам с полным доверием и вели себя вполне прилично, чего мы никак не ожидали, помня их поведение в деревне Клок-Клок.
Эти дружественные отношения продолжались в течение нескольких дней; дикари нередко являлись на шхуну, и наши люди ездили на берег, совершали продолжительные экскурсии вглубь острова без всякой помехи со стороны туземцев. Убедившись, что корабль нетрудно нагрузить трепангами благодаря дружественным отношениям с туземцами, которые охотно помогали нам ловить этих животных, капитан Гай предложил Ту-Уиту заключить контракт насчет постройки запасного магазина и собирания трепангов дикарями, между тем как мы воспользуемся хорошей погодой и поплывем дальше на юг. Вождь охотно согласился на это предложение. Таким образом был заключен договор к удовольствию обеих сторон. Решено было, что шхуна останется у острова, пока не будет выбрано место, построен магазин, вообще сделаны все необходимые приготовления, для которых потребуется наше участие; а затем мы поплывем дальше, оставив трех человек для надзора за исполнением нашего плана и сушки трепангов, которой они обучат и дикарей. Вознаграждение будет зависеть от усердия дикарей во время нашего отсутствия. За свою работу туземцы получат столько бус, ножей, красной ткани, сколько соберут трепангов.
Быть может, некоторым из читателей небезынтересно узнать, что это за животное и каким образом его приготовляют. Я расскажу об этом вкратце. Следующее описание заимствовано мной из одного новейшего путешествия в южный океан:
«Моллюск, известный в торговле под названием трепанг, водится в Индийском океане. Он в изобилии ловится у островов Тихого океана специально для торговли с Китаем, где этот моллюск ценится так же высоко, как пресловутые съедобные гнезда, которые, вероятно, делаются ласточками из студенистого тела трепангов (в зоологии — голотурись). У них нет раковины, ног, вообще никаких членов, только пищеприемное и извергающее отверстия на противоположных концах тела, но посредством своих эластичных колец они ползают подобно червям в мелководье. Тут во время отлива на них набрасываются ласточки и своими острыми клювами достают из нежного тела моллюсков клейкую массу для гнезд.
Эти моллюски бывают разного объема, продолговатой формы, от трех до восемнадцати дюймов длиной; мне редко случалось видеть экземпляры менее двух футов. В разрезе они почти круглые, слегка сплюснутые на стороне, обращенной к морскому дну, от одного до восьми дюймов толщиной. В известное время года они выползают на отмели, вероятно для размножения, так как в это время их часто встречают парами. Они приближаются к берегу, когда солнце сильно нагревает воду, часто выползают на такие мелкие места, что после отлива совершенно обсыхают под лучами солнца. Но размножаются они в мелководье; по крайней мере, нам никогда не случалось видеть на отмелях детенышей, а только взрослых животных. Пищей им служат главным образом коралловые полипы.
Трепанги ловятся обыкновенно на глубине трех-четырех футов; затем их вытаскивают на берег и делают на конце тела надрез в дюйм или больше, смотря по величине животного. Через это отверстие выдавливаются внутренности, которые вообще походят на внутренности других низших обитателей моря. Затем животное обмывают и варят — операция довольно важная, так как недоварить или переварить моллюска одинаково вредно. Потом зарывают на четыре часа в землю, снова варят и высушивают на огне или на солнце. Высушенные на солнце они больше ценятся, зато сушка идет в тридцать раз медленнее, чем на огне. Хорошо приготовленные, они могут сохраняться в сухом месте два-три года, но время от времени, приблизительно раза четыре в год, их все-таки нужно осматривать, не завелась ли сырость.
Китайцы, как выше сказано, считают трепангов лакомым блюдом и приписывают ему способность укреплять и обновлять организм и восстанавливать силы, истощенные вследствие разного рода излишеств. Первый сорт стоит в Кантоне девяносто долларов за пикуль (133 1/2 ф.), второй — семьдесят пять долларов, третий — пятьдесят, четвертый — тридцать, пятый — двадцать, шестой — двенадцать, седьмой — восемь, восьмой — четыре; но маленькие грузы часто приносят и большую выгоду в Маниле, Сингапуре и Батавии».
Итак, заключив контракт, мы тотчас принялись отыскивать место для постройки складочного магазина. Была выбрана широкая площадка на восточной стороне бухты, где оказалось вдоволь воды и леса, неподалеку от рифов, подле которых водились трепанги. Все мы рьяно принялись за работу и в самое короткое время к великому изумлению дикарей свалили кучу деревьев и вывели сруб магазина. В два-три дня постройка подвинулась настолько, что остальную работу можно было поручить троим остававшимся матросам: Джону Карсону, Альфреду Гаррису и Петерсону (все уроженцы Лондона), которые добровольно предложили свои услуги.
К концу месяца все было готово для отъезда. Мы обещали, однако, навестить перед отплытием деревню, и Ту-Уит так упорно настаивал на исполнении этого обещания, что мы сочли неблагоразумным оскорбить его отказом. Кажется, в это время никто из нас не питал ни малейших подозрений относительно враждебных замыслов со стороны дикарей. Они вели себя вполне прилично, охотно помогали нам в наших работах, старались доставить всевозможные удобства, часто без всякого вознаграждения, и ни разу не стянули у нас ни одной вещицы, хотя, очевидно, высоко ценили наши богатства, судя по восторгу, с которым принимались подарки. Женщины были особенно любезны во всех отношениях, и нам решительно не могла прийти в голову мысль о каком-либо вероломстве со стороны людей, относившихся к нам так предупредительно. Но вскоре нам пришлось убедиться, что эта кажущаяся любезность была результатом глубоко обдуманного плана нашей гибели и что эти островитяне, к которым мы так некстати прониклись дружбой, были самым варварским, коварным, кровожадным племенем негодяев, когда-либо осквернявшим землю.
Мы отправились в деревню с прощальным визитом первого февраля. Хотя, как уже сказано выше, у нас не было и тени подозрения, но все-таки меры предосторожности не были забыты. На шхуне остались шесть человек, которым было строго-настрого приказано не пускать никого ни под каким предлогом на корабль и не оставлять палубы в наше отсутствие. Абордажные сети были подняты, пушки заряжены двойными зарядами картечи, фальконеты мушкетными пулями. Шхуна стояла за милю от берега, и ни один челнок не мог бы подойти незамеченным.
В деревню отправилась партия в тридцать два человека. Все мы были вооружены с ног до головы ружьями, пистолетами и кинжалами; сверх того у каждого из нас был длинный нож, напоминающий охотничий, которые так распространены у нас в западных и южных штатах. Сотня воинов в черных шкурах встретила нас на берегу, чтобы сопровождать в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были совершенно безоружны; и на наш вопрос, почему так, Ту-Уит ответил просто: «Матти нон уи па паси», т. е. оружия не нужно там, где все братья. Мы приняли его слова за чистую монету и отправились.
Оставив за собой ручеек и речку, о которых я упоминал выше, мы вступили в узкое ущелье между утесов, среди которых росли деревья. Это ущелье было скалистое и неровное, так что мы с большим трудом пробрались через него при первом посещении деревни Клок-Клок. В длину оно имело полторы-две мили и прихотливо извивалось среди утесов (по-видимому, оно было когда-то ложем реки), делая крутые повороты почти на каждом шагу. Стены его достигали в среднем семидесяти или восьмидесяти футов высоты, а местами поднимались еще выше, так что свет едва проникал в ущелье. Средняя ширина была около сорока футов, местами же ущелье суживалось настолько, что пять-шесть человек едва могли идти рядом. Короче говоря, место было как нельзя более удобное для засады, и нет ничего удивительного, что мы осмотрели оружие, прежде чем вошли в ущелье. Вспоминая теперь о нашей безрассудной доверчивости, я удивляюсь, как могли мы при каких бы то ни было условиях довериться неизвестным дикарям настолько, что позволили им идти впереди и сзади нас в такой тесноте. Но мы шли именно в таком порядке, положившись на силу нашего отряда, безоружность Ту-Уита и его спутников, верное действие огнестрельного оружия (еще неизвестного туземцам), а главное, на дружественные намерения этих гнусных негодяев. Пятеро или шестеро из них шли впереди как бы в качестве проводников, услужливо расчищая дорогу от камней и сучьев. За ними следовал наш отряд. Мы шли плотной кучкой, стараясь только, чтоб нас не разделили. Шествие замыкала толпа дикарей, соблюдавшая величайший порядок.
Дэрк Петерс, некто Вильсон Аллен и я шли по правую руку от наших товарищей, рассматривая необычное залегание пород на склоне возвышавшегося над нами утеса. Трещина в мягкой горной породе привлекла наше внимание. Она была достаточно широка, чтобы пройти одному человеку, и углублялась в скалу футов на двадцать, поворачивая затем налево. Высота этой расщелины была футов шестьдесят или семьдесят. В ней росли какие-то низенькие кустарники с плодами вроде орехов, которые мне захотелось попробовать. Я быстро свернул в расщелину, сорвал несколько штук орехов и хотел поскорее вернуться, но обернувшись увидел, что Петерс и Аллен последовали за мной. Я просил их вернуться, так как разойтись двоим тут было невозможно, и обещал поделиться с ними орехами. Они послушались, и Аллен уже находился у выхода в ущелье, когда я почувствовал сотрясение, которое ни с чем не могу сравнить, внушившее мне смутную мысль, что земной шар разлетается вдребезги и наступает последний день вселенной.
ГЛАВА XXI[править]
Опомнившись, я убедился, что задыхаюсь в темноте под грудой земли, которая валится на меня со всех сторон, угрожая схоронить заживо. Ужаснувшись при этой мысли, я старался встать на ноги, что мне и удалось наконец. Затем в течение нескольких минут я стоял недвижимо, стараясь сообразить, что такое случилось и где я. Наконец я услышал глухой стон и задыхающийся голос Петерса, умолявшего о помощи. Я пополз к нему и вскоре наткнулся на его голову и плечи. Он был засыпан рыхлой землей и никак не мог из нее выбраться. Я принялся откапывать его и наконец помог ему освободиться.
Оправившись от ужаса и изумления, мы стали соображать, в чем дело, и пришли к заключению, что стены расщелины обвалились вследствие землетрясения или собственной тяжести и похоронили нас заживо. Долго мы предавались безумному отчаянию, какое вряд ли может понять человек, никогда не бывавший в таком положении. Я уверен, что в ряду человеческих бедствий нет катастрофы, соединенной с большими телесными и душевными муками, чем погребение заживо. Черная тьма, окружающая жертву, жестокая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, сознание, что не остается и тени надежды, что вам суждена участь трупа, — наполняют сердце человеческое невыносимым, невыразимым ужасом.
Наконец Петерс заметил, что нам нужно еще определить, как велико наше бедствие, и исследовать свою темницу: не найдется ли какого-нибудь выхода. Я с жаром ухватился за эту надежду и стал пробираться среди рыхлой земли. Сделав шаг вперед, я заметил слабый свет, убедивший меня, что, по крайней мере, от недостатка воздуха нам не суждено погибнуть. Мы несколько ободрились, убеждая друг друга не падать духом. Перебравшись через груду, загораживавшую нам путь к свету, мы убедились, что можем двигаться без затруднений, и стали дышать гораздо свободнее. Теперь мы могли осмотреться и увидели, что находимся у верхнего конца расщелины, там, где она поворачивала налево. Еще несколько усилий — и мы добрались до поворота, за которым к своей невыразимой радости увидели Длинную трещину, направлявшуюся вверх под углом градусов в сорок пять, но местами более крутую. Мы не могли разглядеть выхода, но свет, свободно проходивший в эту трещину, убеждал нас, что если только мы доберемся до ее конца, то выйдем на волю.
Тут я вспомнил, что мы вошли в расщелину втроем и что нашего товарища Аллена нигде не видно. Мы тотчас вернулись и стали искать его. После долгих поисков, сопряженных с серьезной опасностью погибнуть под обвалом, Петерс крикнул мне, что ему удалось нащупать ногу Аллена, который совершенно завален землей, так что невозможно его вытащить. Я вскоре убедился, что он прав и что жизнь, без сомнения, уже оставила нашего товарища. Как ни горько нам было, но пришлось бросить тело на произвол судьбы и вернуться к повороту.
Трещина была так узка, что мы едва помещались в ней, и после двух-трех безуспешных попыток пробраться к выходу снова стали отчаиваться. Я уже говорил, что утесы, среди которых вилось ущелье, состояли из какой-то мягкой горной породы вроде мыльного камня. Стены и дно расщелины, по которой мы пробирались, состояли из такого же камня и были так скользки, что даже в отлогих местах нам трудно было подвигаться вперед, а в крутых затруднение казалось почти непреодолимым. Как бы то ни было, отчаяние придало нам храбрости, и мы, вырезая ножами ступеньки в мягкой землистой массе и цепляясь с риском полететь с кручи за выступы из более твердых пород, выдававшиеся из общей массы, кое-как добрались до площадки, с которой был виден клочок голубого неба в конце заросшей лесом долины. Оглянувшись на расщелину, мы убедились, что она недавнего происхождения, и заключили отсюда, что землетрясение, так неожиданно засыпавшее нас землею, в то же время открыло и этот выход. Так как мы едва могли двигаться и даже говорить от усталости, то Петерс предложил известить товарищей о нашем затруднительном положении, выстрелив из пистолетов (ружья и кинжалы остались под землей). Дальнейшие события показали, что если бы мы выстрелили, нам пришлось бы жестоко раскаяться в этом; к счастью, у меня явилось смутное подозрение, что с нами сыграли злую шутку, и мы решили оставить дикарей в неизвестности относительно нашего местопребывания.
Отдохнув с час, мы стали пробираться вверх и, пройдя немного, услышали страшный гвалт. Наконец нам удалось выбраться на поверхность земли, так как до тех пор мы шли под навесом скал и деревьев, поднимавшихся высоко над нашими головами. Мы осторожно пролезли в узкое отверстие и, окинув взглядом окрестности, разом поняли страшную тайну землетрясения.
Мы стояли недалеко от главной вершины этой цепи холмов. Ущелье, в которое вошли тридцать два человека, извивалось налево от нас футах в пятидесяти. Но на протяжении доброй сотни ярдов ложе ущелья было завалено хаотической грудой земли и каменьев по меньшей мере в миллион тонн — и этот обвал, очевидно, был произведен искусственно. Способ, употребленный при этом, был столь же очевиден, сколько прост; следы зверского дела еще сохранились. В разных местах вдоль восточного края обрыва (мы находились на западном) виднелись деревянные колья, воткнутые в землю. В этих местах скала уцелела, но по всему протяжению обвала сохранились следы, показывавшие, что такие же колья были воткнуты на расстоянии ярда один от другого футах в десяти от края пропасти на протяжении около трехсот футов. Крепкие веревки из виноградных лоз были привязаны к кольям, еще остававшимся на утесе, без сомнения, такие же веревки были привязаны и к остальным кольям. Я уже говорил о странной структуре этих холмов и описывал узкую и глубокую трещину, по которой мы выбрались наверх. Очевидно, эта горная порода в силу своей структуры легко раскалывалась на вертикальные параллельные друг другу пласты. Этой особенностью воспользовались дикари для своих предательских целей. Без сомнения, ряд кольев, вколоченных в утес, вызвал образование трещины, быть может, глубиной в фут или два; затем, ухватившись за веревки (привязанные к верхушкам кольев и протянутые в сторону, противоположную краю утеса), дикари разом дернули их по сигналу, поданному снизу и, действуя кольями как рычагом, отделили целый пласт. Судьба наших злополучных товарищей была нам совершенно ясна. Мы одни ускользнули от гибельной катастрофы. Мы одни остались в живых из всех белых людей, бывших на острове.
ГЛАВА XXII[править]
Наше положение, однако, оказалось почти столь же критическим, как в то время, когда мы считали себя погребенными заживо. Нам предстояло или быть убитыми, или влачить жалкое существование в плену у дикарей. Мы могли, конечно, спрятаться от них в лабиринте холмов или в расщелине, из которой только что выбрались; но в конце концов пришлось бы или погибнуть от голода и холода в суровую полярную зиму, или выдать себя дикарям.
Местность вокруг нас, по-видимому, кишела дикарями, толпы которых прибывали на плотах с других островов, без сомнения для того, чтобы помочь своим единоплеменникам захватить и ограбить «Джэн». Корабль по-прежнему стоял спокойно на якоре; по-видимому, оставшиеся на нем матросы не подозревали об опасности. Как хотелось нам в эту минуту быть с ними! Разделить их участь, вместе уйти или умереть защищаясь. Но мы не могли даже предостеречь их, не навлекая гибель на свои головы. Выстрел из пистолета показал бы им, что случилось какое-то несчастье, но не объяснил бы, что единственный способ избегнуть гибели — немедленно сняться с якоря, что честь не обязывает их остаться, так как товарищи уже погибли. Услыхав выстрел, они не могли бы приготовиться к атаке лучше, чем были уже приготовлены. Стало быть, пользы от выстрела не было бы никакой, а вред мог бы оказаться громадный. Итак, по здравому размышлению, мы решили не стрелять.
Затем нам пришло в голову попытаться захватить один из челнов и добраться до корабля. Но невыполнимость этого отчаянного плана была слишком очевидна. Как я уже заметил, местность буквально кишела дикарями, прятавшимися за кустами и пригорками, чтобы не быть замеченными со шхуны. Поблизости, загораживая нам дорогу к берегу, стояла толпа воинов в черных шкурах с Ту-Уитом во главе, по-видимому, ожидавших подкрепления, чтобы начать атаку «Джэн». Да и в челнах, которые стояли у входа в гавань, виднелись дикари, без сомнения, имевшие при себе какое-нибудь оружие. Итак, нам поневоле пришлось остаться на месте простыми зрителями схватки, которая вскоре и последовала.
Через полчаса шестьдесят или семьдесят плотов обогнули выступ, защищавший бухту с южной стороны. У дикарей не было другого оружия, кроме коротких дубин и камней, наваленных грудами на плотах. Тотчас с противоположной стороны появился другой отряд, еще более многочисленный и так же вооруженный. Четыре челна быстро наполнились дикарями, прятавшимися в кустах, и присоединились к атакующим. Таким образом «Джэн» была окружена громадной толпой негодяев, решившихся овладеть ею во что бы то ни стало.
В успехе предприятия невозможно было сомневаться. Шесть человек, оставшихся на судне, при самой отчаянной защите не могли устоять против такого подавляющего большинства, не могли даже управиться со своими пушками. Я думал, что они вовсе не окажут сопротивления, но в этом ошибся. Я увидел, как они повернули корабль левым бортом к челнам, находившимся уже на расстоянии пистолетного выстрела, тогда как плоты еще были за четверть мили. Не знаю почему, может быть, вследствие волнения наших злополучных товарищей, очутившихся в таком отчаянном положении, только первый залп был сделан неудачно. Картечь пролетела над головами нападающих, не задев ни одного челна, не убив ни одного дикаря. Они только были поражены неожиданным грохотом и дымом до того, что в первую минуту, казалось, хотели пуститься наутек.
Так бы и было, по всей вероятности, если бы наши товарищи сделали новый залп из ружей, который при близком расстоянии причинил бы вред дикарям и заставил их отступить. Но вместо этого матросы кинулись к левому борту, а дикари тем временем оправились от испуга и убедились, что никакого вреда им не причинили.
Залп с левого борта произвел опустошительное действие. Семь или восемь плотов потонули, человек тридцать или сорок дикарей были убиты, да человек сто, большинство тяжело раненные, попадали в воду. Остальные, ошалев от ужаса, обратились в бегство, бросив на произвол судьбы своих изувеченных и вопивших о помощи товарищей. Этот успех, однако, не мог предотвратить гибели наших храбрых моряков. Челны уже подошли к шхуне, и человек полтораста дикарей вскарабкались на палубу, прежде чем фитили были поднесены к пушкам левого борта. Ничто не могло удержать их зверской ярости. Защитники шхуны в одно мгновение были окружены, смяты и буквально разорваны на клочки.
Заметив это, дикари, бывшие на плотах, оправились от страха и поспешили принять участие в грабеже. Через пять минут «Джэн» представляла самое жалкое зрелище. Палубы были прорублены и изломаны, веревки, паруса, все вещи на палубе исчезли точно по волшебству. Затем негодяи ухитрились прибуксировать судно на челнах, подталкивая его в корму и в бока, к берегу и передать Ту-Уиту, который во все время схватки, как настоящий генерал, оставался на своем наблюдательном посту и только теперь снизошел до того, чтобы спуститься вниз и принять участие в грабеже.
Уход Ту-Уита дал нам возможность оставить наше убежище и осмотреть холм по соседству с расщелиной. Ярдах в пятидесяти от нее мы увидели ручеек и утолили одолевавшую нас жгучую жажду. Поблизости от источника мы нашли заросли кустарников с орехами, о которых я уже упоминал. Они оказались съедобными и напоминали вкусом обыкновенные английские лесные орехи. Мы набрали их две шляпы, снесли в расщелину и вернулись за новым запасом. В то время как мы собирали орехи, нас испугал шорох в зарослях, и мы хотели уже спрятаться в свое убежище, когда большая черная птица вроде выпи тяжело поднялась над кустами. Я был так ошеломлен, что стоял разинув рот, но Петерс бросился к ней, прежде чем она успела набрать высоту, и схватил ее за шею. Она так отчаянно билась и кричала, что мы хотели было выпустить ее, опасаясь привлечь внимание дикарей, которые могли оказаться поблизости. Однако удар ножа живо прекратил ее крики, мы стащили ее в расщелину, радуясь, что добыли пищу, по крайней мере, на неделю.
Теперь мы решились продолжать рекогносцировку и спустились довольно далеко по южному склону, но не нашли ничего годного в пищу. Собрав порядочный запас хвороста, мы вернулись, заметив, что толпы дикарей возвращаются в деревню, нагруженные добычей с корабля, и опасаясь, что они заметят нас, проходя мимо холма.
Нашей ближайшей заботой было по возможности скрыть свое убежище, для чего мы прикрыли кустарниками проход, из которого впервые увидали голубое небо и долину, когда выбрались на площадку. Мы оставили только небольшое отверстие, через которое могли бы наблюдать за бухтой, оставаясь сами незамеченными. Устроившись таким образом, мы поздравили себя с безопасным убежищем: здесь нас никто не найдет. Никаких следов дикарей не было видно в расщелине; но, когда мы подумали, что она, по всей вероятности, недавно образовалась вследствие землетрясения и другого пути сюда нет, нас не столько обрадовало это обстоятельство, сколько напугала мысль, что нам никогда не удастся выбраться из нее. Мы решили при первом удобном случае исследовать вершину холма как можно тщательнее. Пока мы ограничились наблюдением за дикарями.
Они уже совершенно ограбили корабль и приготовлялись сжечь его. Вскоре мы увидели густые клубы дыма, поднимавшиеся из главного трапа, а затем огромный сноп пламени вырвался из передней каюты. Снасти, мачты, обрывки парусов занялись мгновенно, и вскоре огонь охватил всю палубу. Тем не менее толпы дикарей еще копошились на ней, отбивая каменьями, топорами и пушечными ядрами металлические цепи и другие металлические части. На берегу в челнах, на плотах собралось не менее десяти тысяч туземцев, не считая тех, которые тащили добычу на берег или на соседние острова. Мы ожидали катастрофы и не обманулись в своих ожиданиях. Предвестием ее явилось сильное сотрясение (которое и мы почувствовали, как слабый удар гальванической батареи), не сопровождавшееся, однако, признаками взрыва. Дикари, очевидно, были поражены и на мгновение прекратили свою работу и гвалт. Только они хотели вновь приняться за дело — из трапа вырвался чудовищный черный клуб дыма, похожий на грозовую тучу, потом столб пламени высотой в четверть мили, потом пламя разлилось кругом веером, потом в одно мгновение, точно по волшебству, атмосфера наполнилась обломками, кусками железа, клочьями человеческих тел, — и наконец разразился взрыв, от которого мы попадали на землю, холмы загудели и дождь мелких обломков посыпался со всех сторон.
Опустошительное действие взрыва превзошло все наши ожидания. Дикари пожали достойные плоды своей измены. Не менее тысячи погибло от взрыва, да столько же было изуродовано. Поверхность бухты была буквально усеяна тонущими в смертных муках негодяями; стоявшим на берегу пришлось еще хуже. Дикари были так поражены неожиданным финалом своего предприятия, что даже не помогали друг другу. Наконец мы заметили странную перемену в их поведении. От полного столбняка они разом перешли к страшному возбуждению и забегали как сумасшедшие по берегу со странным выражением ужаса, бешенства и крайнего любопытства на лицах, оглашая воздух криками «Текели-ли! Текели-ли!»
Наконец толпа дикарей кинулась к холмам и вскоре вернулась с кольями в руках. Они направились к тому месту на берегу, где собралось всего больше народа. Толпа расступилась, и мы увидели причину их возбуждения. Мы заметили на земле что-то белое и сначала не могли разобрать, что это такое. Наконец мы разглядели чучело странного животного с красными зубами и когтями, пойманного нами в море восемнадцатого января. Капитан Гай снял с него шкуру, чтобы отвезти в Англию. Я помню, что он распорядился на этот счет еще до прибытия на остров и что чучело было уложено в его каюте в сундуке. Взрывом его выбросило на берег; но почему оно произвело такой переполох среди дикарей, мы не могли понять. Они столпились на близком расстоянии от чучела, но, видимо, не решались подойти к нему. Дикари, принесшие колья, воткнули их в виде ограды вокруг чучела, и как только эта работа была окончена, вся толпа бросилась в глубь острова с громкими криками «Текели-ли! Текели-ли!»
ГЛАВА XXIII[править]
В течение шести или семи следующих дней мы оставались в своем убежище, выходя с величайшими предосторожностями только за водой и орехами. Мы устроили на площадке род навеса, настлав под ним сухих листьев и соорудив стол, служивший в то же время очагом. Мы без труда добывали огонь трением двух кусков дерева, твердого и мягкого, один о другой. Птица, которую мы поймали, оказалась прекрасной, хотя несколько грубой дичью. Она была не из морских птиц, а вид выпи с черным в серую крапинку оперением и маленькими, сравнительно с величиной птицы, крыльями. Мы видели подле расщелины еще трех таких птиц, по-видимому, отыскивавших первую, но нам не удалось их поймать.
Наше положение было довольно сносно, пока мы не прикончили птицу, но затем пришлось подумать о провизии. Орехи плохо утоляли голод и к тому же вызывали сильные колики в желудке, а в случае неумеренного употребления жестокую головную боль. Мы видели на востоке от холма много крупных черепах и легко могли бы поймать их, если бы нам удалось добраться до берега незамеченными. Итак, мы решили попытать счастья.
Мы начали спускаться с южного склона, так как он казался наименее крутым, но не прошли и сотни ярдов, как наш путь был прегражден рукавом ущелья, в котором погибли наши товарищи. Мы направились по краю этой трещины и прошли четверть мили, когда были остановлены пропастью чудовищной глубины и, не имея возможности перебраться через нее, должны были вернуться обратно.
Теперь мы направились по восточному склону, но с таким же результатом. Проползав около часа с риском переломать себе шеи, мы очутились на дне громадного колодца со стенами из черного гранита, откуда могли выбраться только по тому же крутому склону, по которому спускались. Вскарабкавшись снова наверх, мы решили попытать счастья на северном склоне. Тут нам пришлось пробираться с величайшей осторожностью, так как мы то и дело рисковали быть замеченными в деревне. Мы ползли на четвереньках, иногда даже совсем ложились на брюхо, стараясь спрятаться в кустарниках. Так мы ползли очень недолго, потому что вскоре наткнулись на пропасть еще более глубокую, чем те, что попадались раньше. Наши опасения вполне подтвердились, мы действительно попали в совершенно неприступное убежище. В полном изнеможении вернулись мы на площадку и, бросившись на мягкую листву, проспали крепким сном несколько часов.
После этих бесплодных попыток мы в течение нескольких дней самым тщательным образом обшаривали утес. Мы убедились, что на нем нет ничего, пригодного в пищу, кроме ядовитых орехов и ложечной травы, которая, впрочем, росла на небольшом пространстве, так что мы скоро съели ее подчистую. Пятнадцатого февраля, если не ошибаюсь, от нее не осталось ни травинки, да и орехи почти все были съедены, так что наше положение становилось отчаянным. (Этот день замечателен еще тем, что мы увидели на юге огромные клубы сероватых паров, о которых я уже упоминал раньше.) Шестнадцатого мы снова осмотрели стены нашей темницы в надежде отыскать какой-нибудь спуск, но с таким же успехом, как и раньше. Попробовали мы спуститься в трещину, где нас засыпал обвал, со слабой надеждой отыскать какой-нибудь проход в главное ущелье. Но и здесь нам пришлось разочароваться. Мы нашли только одно из ружей, засыпанных землей.
Семнадцатого мы решились осмотреть тщательнее пропасть с черными гранитными стенами, куда спускались еще в первый день наших поисков. Мы вспомнили, что одна из трещин этого гранитного колодца была осмотрена нами кое-как, и решились исследовать ее, хотя и не рассчитывали найти выход.
Мы без особенных затруднений спустились на дно пропасти и на этот раз исследовали ее очень старательно. Это было удивительно странное место, так что мы с трудом верили в его естественное происхождение. Длина пропасти от восточной до западной оконечности была около пятисот ярдов, считая все извивы; по прямой же линии ярдов сорок — пятьдесят — не больше. На верхнем краю, то есть футов на сто от вершины холма, стены пропасти резко различались и, по-видимому, никогда не представляли одного целого: одна состояла из мыльного камня, другая из мергеля с прожилками какого-то неизвестного мне металла. Среднее расстояние между утесами достигало в этом месте футов шестидесяти. Ниже оно уменьшалось, и стены шли параллельно друг другу, хотя все еще различались по структуре. На расстоянии пятидесяти футов от дна они становились совершенно одинаковыми по структуре, цвету и совершенно параллельными. Они состояли из блестящего черного гранита, а расстояние между ними на всем протяжении пропасти было ровно двадцать ярдов. Я попытался изобразить форму пропасти на бумаге; к счастью, у меня была записная книжка и карандаш, которые уцелели в течение всех дальнейших приключений. Таким образом я мог записать много подробностей, которые иначе исчезли бы из моей памяти.
Этот рисунок (рис. 1) показывает лишь общие очертания пропасти без боковых углублений, которых было много, причем каждому соответствовало такое же на противоположной стороне. Дно было покрыто слоем тончайшей, почти неосязаемой пыли дюйма в три-четыре толщиной, под которым оказался такой же гранит, из какого состояли и стены. Направо, на нижнем конце рисунка, заметен округлый выступ; это и есть трещина, о которой говорилось выше и которую мы хотели хорошенько осмотреть. Мы пробрались к ней, обломав ветви кустарника, преграждавшие нам путь, и разбросав кучу остроконечных кремней, напоминавших наконечники для стрел. Мы не смущались препятствиями, так как заметили слабый свет в конце трещины. Наконец мы пробрались в нее под низкой правильной аркой, вокруг все было усыпано такой же тонкой пылью, как и в пропасти. Продолжая идти на свет, мы свернули в галерею такого же характера, как та, в которой мы сейчас были, только другой формы (рис. 2).
Общая длина этой пропасти от входа a до конца d пятьсот ярдов. Подле c мы открыли выступ, такой же, как в первой галерее, и также заросший кустарниками и заваленный грудами кремней, похожих на наконечники стрел. Мы пробрались по галерее и, пройдя футов сорок, вышли в третью галерею. Она также только по форме отличалась от первой (рис. 3).
Общая длина этой третьей пропасти оказалась триста двадцать ярдов. В точке a мы обнаружили выступ в шесть футов шириной и пятнадцать длиной, упиравшийся в пласт мергеля, но не выходивший в новую пропасть, как мы ожидали. Мы уже хотели уйти из этой ниши, в которую проникал очень слабый свет, когда Петерс указал мне на ряд странных фигур на поверхности мергеля. При некотором усилии воображения левая или самая восточная из этих фигур могла быть принята за изображение человека, стоящего прямо, с вытянутой рукой. Остальные фигуры напоминали до некоторой степени буквы, и Петерс упорно доказывал, что это и есть буквы. Я, однако, доказал ему, что он ошибается, обратив его внимание на обломки мергеля, валявшиеся в пыли. Они совершенно подходили к углублениям на стене и, очевидно, отвалились вследствие какого-нибудь естественного сотрясения.
Рисунок 4 представляет точную копию этих значков.
Убедившись, что из этих странных пещер нет выхода, мы вернулись на вершину холма в глубоком унынии и отчаянии. В течение следующих суток не случилось ничего замечательного; только на дне третьей, восточной галереи мы нашли два глубоких треугольных колодца тоже со стенами из черного гранита. В них мы не сочли нужным спускаться, так как колодцы имели вид естественных углублений без всяких признаков выхода.
Каждый был футов двадцати в окружности; их форма и положение относительно третьей галереи изображены на рис. 5.
ГЛАВА XXIV[править]
20 февраля, убедившись, что не можем более питаться орехами, причинявшими нам нестерпимые страдания, мы решились во что бы то ни стало спуститься с южного склона. Стена пропасти состояла здесь из очень мягкого мыльного камня, но спускалась совершенно отвесно, местами даже наклоняясь вперед, на глубину в полтораста футов. После долгих поисков мы открыли узкий карниз футах в двадцати от края пропасти. Петерс соскочил на него с помощью связанных носовых платков, которые я держал за один конец. Затем спустился и я, и мы убедились, что есть возможность спуститься и дальше таким же порядком, как мы выходили из расщелины, т. е. вырезая ножами ступеньки в мягком камне. Разумеется, попытка была страшно рискованная, но ничего другого не оставалось.
На карнизе, где мы стояли, росли кустарники; к одному из них мы привязали нашу веревку из носовых платков. Другим концом ее Петерс обвязал себе талию, и я спускал его, пока веревка не натянулась. Затем он принялся выдалбливать глубокое, дюймов в восемь или десять, отверстие в мыльном камне, стесывая над ним кусок породы в виде клина, чтобы затем можно было ручкой пистолета заколотить в отверстие этот клин. Затем я поднял его фута на четыре выше, и тут он выдолбил еще отверстие, как внизу, устроив таким образом точки опоры для рук и для ног. Отвязав веревку от куста, я бросил ему свободный конец, который он привязал к верхнему клину. Затем спустился на всю длину платка, т. е. фута на три ниже второго клина, выдолбил третье отверстие и вбил в него клин, в который и уперся ногами. Теперь надо было отвязать веревку от верхнего клина и привязать ее ко второму, но это оказалось затруднительным, так как углубления были выдолблены слишком далеко друг от друга. После двух-трех бесплодных и опасных попыток достать до узла Петерс решился перерезать веревку в шести дюймах от клина. Привязав ее ко второму клину, он спустился ниже третьего, но уже не так далеко. Таким способом (которого мне ни за что бы не придумать, так что мы обязаны нашим избавлением всецело решимости и изобретательности Петерса) и пользуясь выступами скалы, он благополучно спустился вниз.
Не сразу я решился последовать за ним, но в конце концов рискнул. Перед тем как спуститься, Петерс снял с себя рубашку, которую мы связали с моей, соорудив таким образом веревку. Сбросив вниз ружье, я привязал ее к кустарнику и начал спускаться как можно скорее, стараясь этой быстротой движения заглушить страх, которого иначе не мог бы преодолеть. Этого оказалось достаточным на первых четырех-пяти ступенях, но вскоре мысль о страшной пропасти, которая зияла подо мной, и о ненадежном устройстве ступеней предстала во всем своем ужасе в моем воображении. Напрасно я старался отогнать ее, не сводя глаз с плоской поверхности утеса надо мной. Чем упорнее старался я не думать, тем большую яркость и ужасающую отчетливость приобретали мои мысли. Наконец наступил кризис воображения, одинаковый во всех подобных случаях, кризис, при котором мы начинаем представлять себе наши ощущения во время падения — головокружение, тошноту, последнюю борьбу, дурноту и, наконец, падение во всем его ужасе. Я чувствовал, что воображаемое становится действительным, что вымышленные ужасы превращаются в факт. Колени мои тряслись, пальцы понемногу выпускали клин. В ушах зазвенело, и я подумал: «Это по мне звонят!» Безумное желание взглянуть вниз овладело мною. Я не мог, не хотел смотреть на гладкую стену и со странным, неизъяснимым чувством не то ужаса, не то облегчения устремил взгляд в пропасть. На мгновение мои пальцы впились в клин, и слабая тень надежды мелькнула в мозгу; но в ту же Минуту в душе моей загорелось желание упасть — стремление, жажда, страсть, решительно непреодолимая. Я выпустил клин и, отвернувшись от стены, зашатался. Но вот голова моя закружилась, пронзительный, нечеловеческий голос раздался в моих ушах, какая-то темная, страшная, призрачная фигура явилась подо мной, я вздохнул и с замирающим сердцем полетел вниз в ее объятия.
Я лишился чувств, и Петерс подхватил меня, когда я падал. Он наблюдал за мной снизу и, заметив, что я теряю присутствие духа, старался ободрить меня криками; но волнение мое было так велико, что я не слышал и не понимал его слов. Наконец, видя, что я шатаюсь, он поспешил вверх и подоспел вовремя. Упади я всей тяжестью, веревка несомненно оборвалась бы от толчка; но Петерс поддержал меня, так что я опустился тихонько и висел над пропастью, пока не очнулся четверть часа спустя. Мой ужас совершенно исчез, я сделался как бы новым существом и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз.
Теперь мы находились вблизи ущелья, оказавшегося могилой для наших товарищей, к югу от того места, где произошел обвал. Местность была дикая и напоминала мне описания пустыни, расстилающейся на месте Древнего Вавилона. Обломки рухнувшего утеса, возвышались хаотической грудой; поверхность почвы была усеяна огромными камнями, напоминавшими останки какого-то гигантского здания, хотя при детальном осмотре нельзя было заметить следов искусственных построек. Повсюду виднелись груды камня и огромные глыбы черного гранита и мергеля (мергель был тоже черный; вообще мы не заметили светлых предметов на этом острове) с прожилками какого-то металла. Никаких признаков растительности не было заметно на всем пространстве, которое мог охватить глаз. Среди камней шныряли чудовищные скорпионы и другие гады, обычно не встречающиеся в таких высоких широтах.
Так как наша главная задача была раздобыть что-нибудь съестное, то мы решили отправиться на берег в надежде поймать черепаху. Мы прошли уже несколько сот ярдов, прячась за каменьями и обломками, как вдруг на нас набросилось пятеро дикарей, выскочивших из небольшой пещеры, и одним ударом дубины повалил Петерса наземь. Когда он упал, все они бросились на него, чтобы прикончить свою жертву, чем дали мне время опомниться. Я бросил ружье, так как замок совершенно испортился при падении с вершины утеса, и, выхватив пистолеты, уложил одного за другим двух дикарей. Они упали, а третий, замахнувшийся уже копьем на Петерса, кинулся на меня. Но мой товарищ живо расправился со всеми. Он не воспользовался пистолетами, а, полагаясь на свою чудовищную силу, выхватил палицу у одного из дикарей и уложил всех троих почти мгновенно.
Это произошло так быстро, что мы не верили в действительность происшествия и остановились над трупами, разинув рты, но крики, раздавшиеся вдали, привели нас в чувство. Очевидно, дикари услыхали выстрелы, и нам трудно было остаться незамеченными. Чтобы вернуться на утес, надо было бежать в направлении криков, да если бы нам и удалось добраться до его подножия, мы не могли бы подняться наверх, не будучи замеченными. Наше положение оказывалось крайне опасным, и мы колебались, куда направиться, когда один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил и хотел убежать. Мы, однако, схватили его Петерс заметил, что дикарь может оказаться полезен для нас, если мы заставим его бежать вместе с нами.
Мы дали пленнику понять, что он будет застрелен при малейшей попытке к сопротивлению; дикарь покорился судьбе и побежал рядом с нами к берегу.
Неровности почвы заслоняли от нас море, и мы увидели его только на расстоянии двухсот ярдов. Выбежав на открытый берег, мы заметили громадную толпу дикарей, бежавших к нам со всех концов острова с дикими криками. Мы уже хотели вернуться и спрятаться среди утесов, когда я заметил пару челнов, видневшихся из-за скалы. Мы бросились к ним и убедились, что при них никого нет. В них лежали три большие галапагосские черепахи и запас весел на шестьдесят гребцов. Мы тотчас вскочили в один из них, заставив нашего пленника следовать за нами, и оттолкнулись от берега.
Только отплыв ярдов на пятьдесят, мы сообразили, как нелепо было с нашей стороны оставить другую лодку дикарям, которые тем временем быстро приближались к берегу. Нельзя было терять времени. Мы не надеялись поспеть к лодке раньше дикарей, но ничего другого не оставалось делать. В случае успеха мы могли спастись, тогда как оставить лодку дикарям значило погибнуть наверняка.
Нос и корма челнока были устроены одинаково, так что нам не нужно было поворачивать, а только грести в противоположном направлении. Заметив наш маневр, дикари взвыли еще сильнее и пустились бежать с невероятной быстротой. Но мы налегли на весла с энергией отчаяния и добрались до лодки, когда к ней подбежал только один дикарь, опередивший остальных. Он дорого поплатился за свое проворство: Петерс уложил его выстрелом из пистолета. Передовые из его товарищей были шагах в двадцати или тридцати, когда мы схватились за лодку. Мы хотели стащить ее на воду, но она так плотно засела в песке, что не поддавалась нашим усилиям. Тогда Петерс двумя сильными ударами ружейного приклада проломил ей бок. Затем мы поспешили оттолкнуть свою лодку. Двое из дикарей, ухватились было за нее, но мы отделались от них ударами ножей и пустились в море. Толпа дикарей, подбежав к челну, разразилась страшными криками бешенства и злобы. Вообще по всему, что я видел, они показались мне самым коварным, двуличным, мстительным, кровожадным и дьявольски жестоким племенем из всех живущих на земле. Ясно, что нам не было бы пощады, если бы мы попались к ним в лапы. Они попытались было преследовать нас в дырявом челне, но, убедившись, что это невозможно, еще раз излили свое бешенство в неистовых криках и устремились обратно в горы.
Теперь мы избавились от непосредственной опасности, но все-таки наше положение было очень печальным. Раньше мы видели у дикарей четыре челна и не знали (впоследствии нам сообщил об этом дикарь, наш пленник), что два были разбиты вдребезги при взрыве «Джэн Гай». Мы были уверены, что дикари пустятся в погоню за нами, как только доберутся до того места, где обыкновенно стояли лодки. Поэтому мы постарались как можно скорее уйти от острова, заставив и пленника взяться за весла. Через полчаса, отплыв миль на пять или на шесть к югу, мы заметили целую флотилию плотов, выходившую из гавани, очевидно, в погоню за нами. Но скоро дикари вернулись обратно, вероятно, отчаявшись догнать нас.
ГЛАВА XXV[править]
Теперь мы находились в безбрежном и безотрадном Антарктическом океане за восемьдесят четвертым градусом широты в утлом челноке с тремя черепахами вместо съестных припасов. Долгая полярная зима должна была наступить очень скоро. Надо было хорошенько обдумать, куда нам направиться. Мы видели вдали шесть или семь островов, принадлежавших к одной и той же группе и отстоявших друг от друга миль на пять-шесть, но не решались пристать к какому-нибудь из них. Направляясь с севера к югу на «Джэн Гай», мы оставили за собой самую суровую полосу холода и льдов. Этот факт, противоречивший общепринятым мнениям об Антарктике, был тем не менее фактом, в действительности которого мы не могли сомневаться. Стало быть, возвращаться назад было бы безумием — особенно в такое время года. Оставался только один путь. Мы решились смело плыть к югу, где можно было надеяться встретить новые земли и более мягкий климат.
До сих пор Антарктический океан, подобно Арктическому, оказывался сравнительно спокойным; мы не испытали еще сильных бурь и волнения, но наш челнок, хотя и достаточно вместительный, был слишком ненадежен, и мы постарались улучшить его насколько было возможно. Корпус челна был сделан из коры какого-то неизвестного нам дерева. Ребра из гибких ивовых сучьев, вполне подходивших для этой цели. Длина лодки была пятьдесят футов, ширина от четырех до шести, глубина четыре с половиной, — таким образом она значительно отличалась по форме от челнов, употребляемых обитателями южных морей, с которыми приходилось иметь дело цивилизованным нациям. Мы не могли поверить, что они выстроены невежественными островитянами, у которых мы нашли их, и через несколько дней узнали от нашего пленника, что лодки действительно попали к ним случайно от другого племени, обитавшего на островах, находившихся далее к юго-западу. Мы могли сделать очень немногое, чтобы приспособить челн к плаванию в океане. Законопатили шерстяными лоскутьями от наших курток щели, замеченные нами на обоих концах лодки. Из запасных весел, которых в лодке оказалась целая куча, устроили нечто вроде обшивки на носу, чтобы ослаблять силу волн. Два весла утвердили в виде мачт на бортах, одно против другого, заменив таким устройством реи. Между ними натянули парус, соорудив его из собственных рубашек. Это нам удалось не без труда, потому что дикарь решительно отказался помогать этой в работе, хотя охотно разделял все наши остальные труды. Вид полотна производил на него странное действие. Он ни за что не хотел дотронуться до него, дрожал всеми членами и кричал: «Текели-ли!»
Сделав все, что было можно, для исправления лодки, мы направились к юго-востоку, намереваясь обогнуть группу южных островов. Затем повернули прямо на юг. Погода стояла хорошая. Дул легкий ветерок с севера, море было гладкое, дневной свет не сменялся ночью. Льда вовсе не попадалось; вообще я не заметил ни одной льдинки южнее параллели острова Беннета. Да и не могло его быть при такой высокой температуре воды. Убив самую крупную черепаху, которая доставила нам порядочный запас не только пиши, но и воды, мы продолжали путь без всяких приключений в течение семи-восьми дней и подвинулись далеко к югу, так как ветер был все время попутный и направление течения не изменялось.
1 марта. (По весьма понятным причинам я не могу ручаться за точность дат. Я привожу их главным образом для отчетливости рассказа, по моей записной книжке.) — Ряд необычайных явлений показывает, что мы вступили в область неожиданностей и чудес. Высокая гряда серых паров постоянно остается на южном горизонте, то расширяясь блестящими полосами с запада на восток или с востока на запад, то снова стягиваясь в виде правильной гряды, — словом, постоянно изменяя очертания подобно северному сиянию. Средняя высота этой гряды около двадцати пяти градусов. Температура воды возрастает с минуты на минуту, и цвет моря заметно меняется.
2 марта. — Сегодня, расспрашивая пленника, мы узнали много подробностей относительно его родины, единоплеменников и их обычаев, но могут ли они теперь заинтересовать читателя? Замечу, впрочем, что, по его словам, архипелаг состоял из восьми островов, которыми правил король Тсалемон или Псалемун, живший на самом маленьком островке; что черные шкуры, составлявшие одежду воинов, шкуры огромного животного, которое водится только в долине подле резиденции царя; что жители архипелага не умеют строить лодки, а плавают на плотах; что четыре челна достались с какого-то большого острова, находящегося дальше к юго-западу; что его, нашего пленника, зовут Ну-ну; что он никогда не слыхал про остров Беннета; и что название острова, на котором произошла катастрофа, Тсалал. Первые слоги «Тсалемон и Тсалал» произносились им с каким-то особенным присвистом, напоминавшим голос черной выпи, которую мы поймали на вершине холма.
3 марта. — Температура воды поразительно высока, цвет моря резко изменился; оно уже не прозрачное, а молочно-белое. Рядом с лодкой оно спокойно, по крайней мере настолько, что не угрожает ей опасностью; но мы с удивлением заметили, что направо и налево от нас оно точно вскипает по временам, — этому явлению всегда предшествуют странные изменения очертаний гряды серых паров.
4 марта. — Сегодня, желая увеличить размеры паруса, так как ветер заметно ослабел, я вытащил из кармана белый носовой платок и случайно задел им по лицу Ну-ну, сидевшего рядом со мной. Он упал в судорогах, за которыми последовали обморок и оцепенение, сопровождавшиеся глухим бормотанием: «Текели-ли! Текели-ли!»
5 марта. — Ветер упал совершенно, но мы по-прежнему несемся к югу, увлекаемые сильным течением. Странно, что мы не испытываем никакого волнения. Лицо Петерса спокойно, хотя по временам принимает выражение неизъяснимое. Полярная зима приближается, но приближается без своих обычных ужасов. Я испытываю онемение душевное и телесное, какую-то дремоту чувств, но больше ничего.
6 марта. — Серые пары поднялись на несколько градусов выше, мало-помалу теряя свою окраску. Температура воды поднялась до того, что рука не выдерживает, молочный цвет стал еще ярче. Сегодня вода забурлила подле самого челна. Это явление сопровождалось странным блеском на вершине гряды паров и разрывом ее основания. Тонкая белая пыль вроде пепла, однако не пепел, осыпала лодку и море, пока не замер блеск и не стихло волнение. Ну-ну бросился ничком на дно лодки, и никакие увещевания не могли заставить его встать.
7 марта. — Мы спрашивали Ну-ну, за что его соплеменники убили наших товарищей, но он до того одурел от ужаса, что не мог ничего ответить. Он по-прежнему лежал на дне лодки и на все вопросы отвечал идиотскими жестами, приподнимая пальцем верхнюю губу и оскаливая таким образом зубы. Они были черные. До этого времени нам не случалось видеть зубы обитателей Тсалала.
8 марта. — Сегодня мимо нас проплыло белое животное, такое же, как то, чучело которого произвело переполох среди диких на острове Тсалал. Я хотел было поймать его, но мной овладела какая-то странная лень, так что я не тронулся с места. Вода стала еще горячей и положительно обжигает руку. Петерс почти все время молчит, и я не знаю, чем объяснить его апатию. Ну-ну только вздыхает.
9 марта. — Тонкая пыль вроде пепла постоянно сыплется на нас. Гряда паров поднялась на чудовищную высоту и приняла более определенную форму. Я могу сравнить ее только с чудовищным водопадом, безмолвно стремящимся в море с вершины колоссального утеса, теряющейся в небесах. Эта гигантская завеса охватывает весь южный горизонт. Никаких звуков не слышно.
21 марта. — Мрачная тьма сгустилась над нами, но из молочно-белых недр океана поднимается яркий свет и озаряет лодку. Нас совсем засыпала белая, подобная пеплу, пыль; она все время валится в челн и тает в воде. Вершина водопада исчезла в туманной дали. Но мы, очевидно, несемся к ней с ужасающей быстротой. По временам она точно разрывается; сквозь эти сияющие трещины мелькает рой туманных и неясных образов и вырывается бурный, но безмолвный ветер, вздымая пылающий океан.
22 марта. — Тьма еще более сгустилась; только яркий свет белой завесы перед нами отражается водой. Гигантские белые птицы то и дело вылетают из-за завесы и исчезают с криком «Текели-ли». Услыхав этот крик, Ну-ну пошевелился на дне лодки, но, дотронувшись до него, мы убедились, что он испустил дух. Еще минута — и перед нами разверзлись бездны водопада. Но из них поднялась человеческая фигура в саване, далеко превосходившая своими размерами обыкновенных людей. Ее кожа была белее снега.
Примечание[править]
Публике уже известны из газет обстоятельства внезапной и трагической смерти мистера Пима. Мы боимся, что последние главы рукописи, дополняющие его рассказ и оставленные им у себя для просмотра, когда первые главы уже набирались, погибли безвозвратно. Может быть, впрочем, они будут найдены, и в таком случае мы не преминем их напечатать.
Мы старались помочь беде всеми зависящими от нас средствами. Джентльмен, о котором упомянуто в предисловии и который, по-видимому, мог бы пополнить пробел в рассказе, наотрез отказался от этого, так как не помнит деталей и не доверяет правдивости последних глав. Петерс, от которого можно бы было получить необходимые сведения, еще жив и находится в Иллинойсе, но мы не могли его разыскать. Может быть, это удастся впоследствии; в таком случае он, конечно, не откажется пополнить рассказ мистера Пима.
Потеря двух или трех последних глав (вряд ли их было больше) тем более достойна сожаления, что в них, без сомнения, содержатся сведения о самом полюсе или ближайших к нему местностях, — сведения, которые могли бы быть проверены или опровергнуты подготовляемой ныне правительством экспедицией в южный океан.
Считаем нелишним сделать несколько замечаний по поводу одного места в рассказе и будем очень довольны, если наши слова усилят доверие публики к странным сообщениям автора. Мы имеем в виду пропасти на острове Тсалал и фигуры, изображенные в главе XXIII.
Мистер Пим рассказывает о рисунке пропасти без всяких комментариев, а о фигурах, вырезанных на стене самой восточной из галерей, говорит как о естественном явлении, случайно напоминающем буквы, и решительно отвергает их искусственное происхождение. Это утверждение высказано так просто и подтверждается такими убедительными доказательствами — нахождением обломков мергеля на дне пропасти, совершенно подходящих к этим значкам, — что мы охотно верим автору, да и всякий рассудительный читатель согласится с ним. Но так как факты, относящиеся ко всем этим фигурам, в высшей степени странны (особенно если их поставить в связь с другими данными рассказа), то будет кстати сказать о них несколько слов, тем более, что обстоятельства, которые мы имеем в виду, без сомнения, ускользнули от внимания мистера Пима.
Если мысленно соединить рисунки 1, 2, 3 и 5 в том порядке, в котором расположены сами пропасти и постараться взглянуть на изображение под определенным углом, то мы увидим эфиопское коренное слово в переводе означающее «быть черным». Отсюда происходят все слова, означающие тень или тьму.
Что касается «левой или самой северной» фигуры, то она, по всей вероятности, вырезана искусственно, как и предположил Петерс, и изображает человека. Остальные фигуры подтверждают мнение Петерса. Верхний ряд знаков являет собой, вероятно, арабское коренное слово которое переводится как «быть белым», от него происходят все термины, означающие блеск и белизну. Нижний ряд не так ясен. Буквы неполны и стерты, тем не менее невозможно сомневаться, что в целом виде они образовали египетское слово, означающее «область юга». Заметим, что эти объяснения подтверждают мнение Петерса насчет «самой северной» фигуры. Рука вытянута к югу.
Эти заключения открывают широкое поле для размышления и интересных догадок. Может быть, их нужно рассматривать в связи с самыми незначительными и вскользь затронутыми подробностями рассказа, хотя цепь заключений во всяком случае не будет полной. «Текели-ли!» кричали испуганные жители Тсалала при виде белого животного, пойманного в море. То же повторял пленный дикарь при виде белых предметов. Таков же был крик гигантских белых птиц, вылетавших из-за белой завесы на горизонте. Ничего белого не оказалось на Тсалале, и только этот цвет замечен в более южной области. Возможно, что «Тсалал», название острова, на котором найдены вышеописанные пропасти, окажется при тщательном филологическом исследовании имеющим какое-либо отношение к самим пропастям или таинственным надписям на их стенах:
«Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы».
Edgar Allan Poe.
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1837).
Перевод М. Энгельгардта (1896).
Текстовая версия: verslib.com
По Э. Собрание сочинений в 2 тт. Т. 2. — СПб.: Изд. Г. Ф. Пантелеева, 1896
- ↑ Отчет (фр.).
ПРЕДИСЛОВИЕ
Несколько месяцев тому назад, по возвращении в Соединенные Штаты после ряда удивительнейших приключений в Южном океане, изложение которых предлагается ниже, обстоятельства свели меня с несколькими джентльменами из Ричмонда, штат Виргиния, каковые обнаружили глубокий интерес ко всему, что касалось мест, где я побывал, и посчитали своим непременным долгом опубликовать мой рассказ. У меня, однако, были причины для отказа и сугубо частного характера, затрагивающие только меня одного, и не совсем частного.
Одно из соображений, которое удерживало меня, заключалось в опасении, что поскольку большую часть моего путешествия дневника я не вел, то я не сумею воспроизвести по памяти события достаточно подробно и связно, дабы они и казались такими же правдивыми, какими были в действительности — не считая разве что естественных преувеличений, в которые все мы неизбежно впадаем, рассказывая о происшествиях, глубоко поразивших наше воображение.
Кроме того, события, которые мне предстояло изложить, были столь необыкновенного свойства и притом никто в силу обстоятельств не мог их подтвердить (если не считать единственного свидетеля, да и тот индеец-полукровка), — что я мог рассчитывать лишь на благосклонное внимание моей семьи и тех моих друзей, которые, зная меня всю жизнь, не имели оснований сомневаться в моей правдивости, в то время как широкая публика, по всей вероятности, сочла бы написанное мною беззастенчивой, хотя и искусной выдумкой. Тем не менее одной из главных причин того, почему я не последовал советам своих знакомых, было неверие в свои сочинительские способности.
Среди виргинских джентльменов, проявивших глубокий интерес к моим рассказам, особенно той их части, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, незадолго до того ставший редактором «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом У. Уайтом[155]Уайт Томас Уиллис (1788—1843) — ричмондский печатник, в типографии которого с августа 1834 г. печатался журнал «Сатерн литерери мессенджер», редактировавшийся в 1835—1837 гг. Эдгаром По. в Ричмонде. Как и прочие, мистер По настоятельно рекомендовал мне, не откладывая, написать обо всем, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл читающей публики; при этом он убедительно доказывал, что, какой бы неумелой ни получилась книга, сами шероховатости стиля, если таковые будут, обеспечат ей большую вероятность быть принятой как правдивое изложение действительных событий.
Несмотря на эти доводы, я не решился последовать его совету. Тогда он предложил (видя, что я непоколебим), чтобы я позволил ему самому описать, основываясь на изложенных мною фактах, мои ранние приключения и напечатать это в «Южном вестнике» под видом вымышленной повести. Не видя никаких тому препятствий, я согласился, поставив единственным условием, чтобы в повествовании фигурировало мое настоящее имя. В результате две части, написанные мистером По, появились в «Вестнике» в январском и февральском выпусках (1837 г.), и для того, чтобы они воспринимались именно как беллетристика, в содержании журнала значилось его имя.
То, как была принята эта литературная хитрость, побудило меня в конце концов взяться за систематическое изложение моих приключений и публикацию записей, ибо, несмотря на видимость вымысла, в которую так искусно была облечена появившаяся в журнале часть моего рассказа (причем ни единый факт не был изменен или искажен), я обнаружил, что читатели все-таки не склонны воспринимать ее как вымысел; напротив, на имя мистера По поступило несколько писем, определенно высказывающих убежденность в обратном. Отсюда я заключил, что факты моего повествования сами по себе содержат достаточно свидетельств их подлинности и мне, следовательно, нечего особенно опасаться недоверия публики.
После этого expose [156]Изложение, отчет (фр.). всякий увидит, сколь велика та доля нижеизложенного, которая принадлежит мне; необходимо также еще раз оговорить, что ни единый факт не подвергся искажению на нескольких первых страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, кому не попался на глаза «Вестник», нет необходимости указывать, где кончается его часть и начинается моя: они без труда почувствуют разницу в стиле.
А. Г. Пим
Нью-Йорк, июль, 1838 г.
ГЛАВА I
Меня зовут Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Мой дед по материнской линии был стряпчим и имел хорошую практику. Ему всегда везло, и он успешно вкладывал деньги в акции Эдгартаунского нового банка, как он тогда назывался. На этих и других делах ему удалось отложить немалую сумму. Думаю, что он был привязан ко мне больше, чем к кому бы то ни было, так что я рассчитывал после его смерти унаследовать большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он послал меня в школу старого мистера Рикетса, однорукого джентльмена с эксцентрическими манерами — его хорошо знает почти всякий, кто бывал в Нью-Бедфорде. Я проучился в его школе до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда, расположенную на холме. Здесь я сблизился с сыном капитана Барнарда, который обычно плавал на судах Ллойда и Реденбэрга, — мистер Барнард также очень хорошо известен в Нью-Бедфорде, и я уверен, что в Эдгартауне у него множество родственников. Сына его звали Август, он был почти на два года старше меня. Он уже ходил с отцом за китами на «Джоне Дональдсоне» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него дома, оставаясь там на целый день, а то и на ночь. Мы забирались в кровать, и я не спал почти до рассвета, слушая его истории о дикарях с Тиниана и других островов, где он побывал во время своих путешествий. Меня поневоле увлекали его рассказы, и я постепенно начал ощущать жгучее желание самому пуститься в море. У меня была парусная лодка «Ариэль» стоимостью примерно семьдесят пять долларов, с небольшой каютой, оснащенная как шлюп. Я забыл ее грузоподъемность, но десятерых она держала без труда. Мы имели обыкновение совершать на этой посудине безрассуднейшие вылазки, и, когда я сейчас вспоминаю о них, мне кажется неслыханным чудом, что я остался жив.
Прежде чем приступить к основной части повествования, я и расскажу об одном из этих приключений. Как-то у Барнардов собрались гости, и к исходу дня мы с Августом изрядно захмелели. Как обычно в таких случаях, я предпочел занять часть его кровати, а не тащиться домой. Я полагал, что он мирно заснул, не обронив ни полслова на свою излюбленную тему (было уже около часу ночи, когда гости разошлись). Прошло, должно быть, полчаса, как мы улеглись, и я начал было засыпать, как вдруг он поднялся и, разразившись страшными проклятиями, заявил, что лично он не собирается дрыхнуть, когда с юго-запада дует такой славный бриз, — что бы ни думали на этот счет все Гордоны Пимы в христианском мире, вместе взятые. Я был поражен, как никогда в жизни, ибо не знал, что он затеял, и решил, что Август просто не в себе от поглощенного вина и прочих напитков. Изъяснялся он, однако, вполне здраво и заявил, что я, конечно, считаю его пьяным, но на самом деле он трезв как стеклышко. Ему просто надоело, добавил он, валяться, словно ленивому псу, в постели в такую ночь, и сейчас он встанет, оденется и отправится покататься на лодке. Я не знаю, что на меня нашло, но едва он сказал это, как я почувствовал глубочайшее волнение и восторг, и его безрассудная затея показалась мне чуть ли не самой великолепной и остроумной на свете. Поднялся почти штормовой ветер, было очень холодно: дело происходило в конце октября. Тем не менее я спрыгнул в каком-то экстазе с кровати и заявил, что я тоже не робкого десятка, что мне тоже надоело валяться, словно ленивому псу, в постели и что я тоже готов, чтобы развлечься, на любую выходку, как и какой-то там Август Барнард из Нантакета.
Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старого полусгнившего причала на лесном складе «Пэнки и Компания», почти стукаясь бортом о разбитые бревна. Август прыгнул в лодку, которая была наполовину полна воды, и принялся вычерпывать воду. Покончив с этим, мы подняли стаксель и грот и смело пустились в открытое море.
С юго-запада, как я уже сказал, дул сильный ветер. Ночь была ясная и холодная. Август сел у руля, а я расположился на палубе около мачты. Мы неслись на огромной скорости, причем ни один из нас не проронил ни слова с того момента, как мы отошли от причала. Я спросил моего товарища, куда он держит курс и когда, по его мнению, нам стоит возвращаться. Несколько минут он насвистывал, потом язвительно заметил: «Я иду в море, а ты можешь отправляться домой, если угодно». Повернувшись к нему, я сразу понял, что, несмотря на кажущееся безразличие, он сильно возбужден. При свете луны мне было хорошо видно, что лицо его белее мрамора, а руки дрожат так, что он едва удерживает румпель. Я понял, что с ним что-то стряслось, и не на шутку встревожился. В ту пору я не умел как следует управлять лодкой и полностью зависел от мореходного искусства моего друга.
Ветер внезапно стал крепчать, мы быстро отдалялись от берега, и все-таки мне было стыдно выдать свою боязнь, и почти полчаса я решительно хранил молчание. Потом я не выдержал и спросил Августа, не лучше ли нам повернуть назад. Как и в тот раз, он чуть ли не с минуту молчал и вообще, казалось, не слышал меня. «Потихоньку, полегоньку, — пробормотал он наконец. — Время еще есть… Домой потихоньку, полегоньку». Другого ответа я не ожидал, но в тоне, каким были произнесены эти слова, было что-то такое, что наполнило меня неописуемым страхом. Я еще раз внимательно посмотрел на спутника. Губы его были мертвенно-бледны, и колени тряслись так, что он, казалось, не может двинуться с места. «Ради Бога, Август! — вскричал я, напуганный до глубины души. — Что случилось?.. Тебе плохо?.. Что ты задумал?» «Что случилось?.. — выдавил он в полнейшем как будто удивлении и в тот же миг, выпустив из рук румпель, осел на дно лодки. — Н-ничего… ничего не случилось… поворачиваю назад… разве не видишь?» Только теперь меня осенило и я понял, в чем дело.
Бросившись вперед, я приподнял друга. Он был пьян, пьян до бесчувствия, так что не мог держаться на ногах, ничего не слышал и не видел вокруг. Глаза его совсем остекленели; в крайнем отчаянии я выпустил его из рук, и он, как бревно, скатился обратно в воду на дно лодки. Было ясно, что во время пирушки он выпил гораздо больше, чем я думал, и его странное поведение в постели было результатом последней степени опьянения, — в таком состоянии, как и в припадке безумия, жертва часто способна сохранять вид человека, вполне владеющего собой. Однако холодный ночной воздух сделал свое дело, нервное возбуждение под его воздействием начало спадать, и то обстоятельство, что Август, несомненно, весьма смутно сознавал опасность положения, в каком мы находились, приблизило катастрофу. Сейчас мой друг совсем лишился чувств, и никакой надежды на то, что в ближайшие часы он придет в себя, решительно не было.
Трудно представить меру моего ужаса. Винные пары успели улетучиться, я чувствовал себя вдвойне нерешительным и беспомощным. Я понимал, что не справлюсь с лодкой, что яростный ветер и сильный отлив гонят нас навстречу гибели. Где-то позади собирался шторм, у нас не было ни компаса, ни пищи, и я знал, что если не изменить курс, то еще до рассвета мы потеряем землю из виду. Эти мысли наряду с массой других, столь же пугающих, с поразительной быстротой промелькнули у меня в сознании и на несколько мгновений парализовали мою волю к действию.
Наша лодка, то и дело зарываясь носом в кипящую пену, летела с чудовищной скоростью, полным ветром — ни на стакселе, ни на гроте рифы не были взяты. Чудо из чудес, что волны не проломили борта, — ведь Август, как уже говорилось, бросил румпель, а я сам был настолько взволнован, что мне не пришло в голову сесть к рулю. К счастью, лодка продолжала идти прямо, и постепенно я в какой-то мере обрел присутствие духа. Ветер угрожающе крепчал, и всякий раз, когда нас возносило на гребень, волны разбивались о подзор кормы и обдавали нас водой. Но я почти ничего не ощущал: все члены моего тела словно одеревенели. Наконец я собрал последние силы и, с отчаянной решимостью кинувшись вперед, сорвал грот. Как и следовало ожидать, парус перекинуло ветром через нос, он намок в воде и потащил за собой мачту, которая, сломавшись, обрушилась в воду, едва не повредив борт. Только благодаря этому происшествию я избежал неминуемой гибели. Оставшись под одним стакселем, лодка продолжала нестись по ветру, то и дело захлестываемая тяжелыми волнами, но непосредственная угроза все-таки миновала. Я взял руль и вздохнул свободнее, видя, что у нас еще есть какая-то возможность в конце концов спастись. Август по-прежнему лежал без чувств на дне лодки, и я начал опасаться, что он захлебнется (в том месте, где он упал, воды набралось почти на целый фут). Я ухитрился приподнять товарища и, обвязав вокруг его пояса веревку, которую прикрепил к рым-болту на палубе, оставил в сидячем положении. Сделав, таким образом, все, что мог, дрожа от волнения, я целиком вверил себя Всевышнему и, собравшись с силами, решил достойно встретить любую опасность.
Едва я пришел к этому решению, как вдруг неистовый протяжный вопль, словно взревела тьма демонов, наполнил воздух. Никогда, покуда я жив, мне не забыть сильнейшего приступа ужаса, что овладел мною в тот миг. Волосы у меня встали дыбом, кровь застыла в жилах. Сердце остановилось, и, не поднимая глаз, так и не узнав причины катастрофы, я покачнулся и упал без сознания на тело моего неподвижного спутника.
Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в каюте большого китобойного судна «Пингвин», держащего курс на Нантакет. Около меня стояло несколько человек, а бледный как смерть Август усердно растирал мне руки. Возгласы благодарения и радости, которые он издал, увидя, что я открыл глаза, вызвали улыбки облегчения и слезы на суровых лицах присутствующих. Вскоре разъяснилась и загадка того, как мы остались живы. На нас наскочило китобойное судно, которое, держась круто к ветру, направлялось к Нантакету на всех парусах, какие только рискнули поднять, и, следовательно, шло почти под прямым углом к нашему курсу. На вахте было несколько впередсмотрящих, но они не замечали нашу лодку до того мгновения, когда избежать столкновения было уже невозможно, — крики, которыми они пытались предупредить нас, завидев лодку, и повергли меня в ужас. Огромный корабль, как мне рассказывали, подмял нас с такой же легкостью, с какой наше утлое суденышко переехало бы соломинку, и без малейшего хоть сколько-нибудь заметного замедления хода. Ни единого возгласа не донеслось с лодки, терпевшей крушение, был слышен лишь слабый, заглушаемый ревом ветра и волн, скребущий звук, пока нашу хрупкую скорлупу, которую уже поглотила вода, не протащило вдоль киля наскочившего на нас китобоя, и это все.
Приняв нашу лодку за какую-то брошенную за бесполезностью посудину (напомню, что у нас сорвало мачту), командир корабля (капитан Э.-Т.-В. Блок из Нью-Лондона) решил не обращать внимания на происшествие и следовать своим курсом. К счастью, двое из стоявших на вахте побожились, что у руля определенно кто-то находился и что человека можно еще спасти. Вспыхнул спор, Блок вышел из себя и заявил, что «только у него и дел, чтобы заботиться о какой-то яичной скорлупе, что он не станет поворачивать корабль из-за всякой чепухи, что если там человек, то в этом нет ничьей вины, кроме его собственной, — он может идти ко дну и будь он проклят» или что-то в этом роде. В спор вступил Хендерсон, первый помощник капитана, справедливо возмущенный, как и вся остальная команда, его словами, выдающими крайнее бессердечие и жестокость. Видя поддержку матросов, он решительно сказал капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не подчинится его распоряжениям, даже если его повесят, едва он ступит на сушу. Оттолкнув Блока в сторону (который побледнел, но не сказал ни слова), он зашагал к корме и, схватившись за штурвал, твердым голосом крикнул: «К повороту!» Матросы кинулись по своим местам, и судно совершило искусный поворот. Маневр занял почти пять минут, и трудно было предположить, что можно успеть прийти кому-то на выручку, если вообще в лодке кто-то был. И все-таки, как уже знает читатель, Август и я были спасены; мы избавились от смерти благодаря почти непостижимой двойной удаче, которую мудрые и благочестивые люди приписывают особому вмешательству Провидения.
Пока судно еще не забрало ветер, помощник капитана приказал спустить ял и спрыгнул в него с двумя матросами, теми самыми, как я понимаю, которые утверждали, что видели меня у руля. Едва они отгребли от кормы, — луна сияла по-прежнему ярко, — как судно сильно накренило под ветер, и в тот же миг Хендерсон, привстав с кормового сиденья, закричал гребцам, чтобы те табанили. Он ничего не объяснял, только нетерпеливо повторял: «Табань! Табань!» Люди принялись грести изо всех сил в обратную сторону, но к этому времени судно уже завершило поворот и устремилось вперед, хотя команда на борту прилагала все усилия, чтобы убрать паруса.
Как только ял поравнялся с грот-мачтой, помощник капитана, презирая опасность, ухватился за ван-путенсы на борту судна. Тут судно опять резко накренилось, обнажив правый борт почти до киля, тогда-то и стала очевидной причина его беспокойства. На гладком блестящем днище («Пингвин» ниже ватерлинии был обшит медью, и его набор крепился медными болтами) каким-то необыкновеннейшим образом повисло человеческое тело, которое колотилось об обшивку при малейшем движении корабля. После нескольких безуспешных попыток, когда каждый толчок судна грозил потопить шлюпку, меня — ибо это было мое тело — наконец вызволили из опасности и подняли на борт. Оказалось, что какой-то болт сдвинулся с места, пропорол обшивку, и, когда нас протаскивало под днищем, я зацепился за него и повис там в совершенно невообразимом колошении. Конец болта прошел через воротник надетой на мне зеленой суконной куртки, сквозь заднюю часть шеи и вышел наружу между двумя мышцами чуть ниже правого уха. Меня немедленно уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. Хирурга на борту не было. Правда, капитан старался помочь мне, как мог, чтобы оправдать, как мне кажется, в глазах команды свое чудовищное поведение в начале происшествия.
Тем временем Хендерсон на шлюпке снова отошел от судна, хотя ветер уже достигал почти ураганной силы. Не прошло и нескольких минут, как ему стали попадаться обломки нашей лодки, и вскоре один из матросов, которые были с ним, стал уверять, что сквозь рев бури он слышит крики о помощи. Это заставило отважных моряков упорно продолжать поиски, несмотря на то, что капитан Блок то и дело подавал им сигналы вернуться и каждый миг пребывания на воде в такой хрупкой шлюпке был чреват смертельной опасностью. В самом деле, почти невозможно себе представить, как крохотная шлюпка избежала крушения в первую же секунду. Шлюпка, однако, была сработана на славу, специально для китобойного промысла, и была снабжена воздушными ящиками, в чем я потом имел возможность убедиться, — на манер некоторых спасательных ботов, которыми пользуются у побережья Уэльса.
После тщетных поисков в течение упомянутого времени было решено вернуться на судно. Едва они пришли к этому заключению, как с какого-то темного предмета, быстро проплывавшего неподалеку, послышался слабый крик. Они пустились вдогонку и скоро настигли неизвестный предмет. Это был палубный настил «Ариэля». Около него из последних сил боролся с волнами Август. Когда его поднимали на борт шлюпки, оказалось, что он привязан веревкой к плавающему дереву. Напомню, что это была та самая веревка, которой я обвязал Августа вокруг пояса, а конец прикрепил к рым-болту, чтобы удержать его в сидячем положении; вышло так, что эта моя предосторожность в конечном счете сохранила ему жизнь. «Ариэль» был сколочен без особого тщания, и, когда на нас наскочил «Пингвин», остов его развалился на куски, а палубный настил оторвало от корпуса водой, хлынувшей в лодку, и он, вместе с другими обломками, выплыл на поверхность; благодаря этому Август удержался на поверхности и избежал таким образом ужасной гибели.
Прошло более часа с того момента, как Августа подняли да борт, прежде чем он мог уяснить, что же, собственно, произошло с нашей лодкой, и рассказать о себе. Наконец он полностью очнулся от беспамятства и подробно рассказал о том, что он испытал, оказавшись за бортом. Едва придя в себя, он обнаружил, что его с немыслимой быстротой крутит под водою, а вокруг его шеи туго, в три-четыре раза обвязана веревка. В следующее мгновение он почувствовал, что быстро поднимается на поверхность и, сильно стукнувшись головой обо что-то твердое, опять теряет сознание. Когда он снова пришел в себя, он мог уже кое-что соображать, хотя рассудок его был еще затемнен и мысли путались. Он понял, что лодка потерпела крушение, он в воде, хотя и на поверхности, и может более или менее свободно дышать. Вероятно, в это время лодка быстро неслась по ветру и тащила его, лежащего на спине, за собой. Само собой разумеется, он мог не опасаться, что пойдет ко дну, пока сумеет удержаться в том же положении. Вскоре волна кинула его на самый настил, и он судорожно вцепился в доски, время от времени призывая на помощь. Как раз перед тем, как его услышали со шлюпки мистера Хендерсона, он, обессилев, разжал пальцы, соскользнул в воду и решил, что погиб. Пока он боролся за свою жизнь, ему ни разу не пришла в голову мысль ни об «Ариэле», ни о том, что же, собственно, с ним случилось. Им целиком завладело смутное ощущение ужаса и отчаяния. Когда его наконец подобрали, он был без памяти и, как уже говорилось, прошел добрый час, прежде чем он вполне осознал, в какую попал переделку. Что до меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничащего со смертью (после того как в течение трех с половиной часов перепробовали всевозможные средства), в результате энергичного растирания фланелью, смоченной в горячем масле, — эта мера была предложена Августом. Рана в шее, хотя и имела отвратительный вид, оказалась неопасной, и я скоро от нее оправился.
Выдержав один из самых жестоких штормов, какие случались у берегов Нантакета, «Пингвин» около девяти часов утра вошел в порт. Мы с Августом успели появиться у него дома как раз к завтраку, который, по счастью, запоздал из-за вчерашней попойки. За столом никто не обратил внимания на наш измученный вид, думаю — потому, что все были чересчур утомлены, хотя, разумеется, это не ускользнуло бы от более пристального взгляда. Когда школьники хотят обмануть старших, они способны творить чудеса, и я убежден, что ни у кого из наших друзей в Нантакете не закралось подозрение, что потрясающая история, рассказанная матросами в городе, о том, как они пустили ко дну какое-то судно с тридцатью или сорока беднягами на борту, имела касательство к «Ариэлю», моему товарищу или ко мне. Мы с Августом неоднократно обсуждали происшествие и всякий раз содрогались от ужаса.
Во время одного такого разговора Август честно признался, что ни разу в жизни не испытывал столь мучительного смятения, как в тот момент, когда на борту нашего утлого суденышка вдруг осознал, до какой степени он пьян, и почувствовал, как под воздействием винных паров погружается куда-то в небытие.
ГЛАВА II
В силу наших пристрастий или предубеждений мы не способны извлекать урок даже из самых очевидных вещей. Можно было бы предположить, что происшествие, подобное тому, о котором я рассказал, значительно охладит мою зарождающуюся страсть к морю. Но, напротив, я никогда не испытывал более жгучей жажды безумных приключений, сопутствующих жизни мореплавателя, чем по прошествии недели с момента нашего чудесного избавления. Этого короткого промежутка времени оказалось вполне достаточно, чтобы из моей памяти изгладились мрачные краски недавнего опасного происшествия и в ярком свете предстали все его волнующие мазки, вся его живописность. Наши беседы с Августом день ото дня становились все более частыми и захватывающими. Его манера рассказывать о своих приключениях в океане (более половины которых, как я теперь подозреваю, были просто-напросто выдуманы) вполне отвечала моему экзальтированному характеру, и они находили отклик в моем пылком, хотя несколько болезненном воображении. Странно также, что мое влечение к морской жизни более всего подогревалось тогда, когда он рисовал случаи самых невероятных страданий и отчаяния.
Меня не пленяли светлые тона в его картинах. Мне виделись кораблекрушения и голод, смерть и плен у варварских орд, жизнь в терзаниях и слезах на какой-нибудь седой необитаемой скале, посреди недоступного и непостижимого океана. Впоследствии меня уверяли, что подобные видения или вожделения — ибо они действительно превращались в таковые — обычны среди всего людского племени меланхоликов; в то же время, о котором идет речь, я усматривал в них пророческие проблески высшего предначертания, которому я в какой-то мере обязан следовать. Август целиком проникся моим умонастроением. Не исключено даже, что наш сокровенный союз имел следствием частичное взаимопроникновение характеров.
Спустя около полутора лет после гибели «Ариэля» компания «Ллойд и Реденбэрг» (каким-то образом связанная, как я предполагаю, с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой брига «Дельфин» и снаряжением его для охоты на китов. Это была старая посудина, которая даже после того, как с ней сделали все, что можно было сделать, едва ли стала мореходной. Мне трудно сказать, почему «Дельфин» предпочли другим, хорошим судам, принадлежащим тем же владельцам, но дело обстояло именно так. Мистера Барнарда назначили капитаном, и Август собирался отправиться с ним. Пока бриг готовили к плаванию, он постоянно распространялся о том, какие отличные сейчас представляются возможности для осуществления моей мечты пуститься в путешествие. Он нашел во мне вполне благосклонного слушателя. Но устроить все оказалось не так-то просто. Если мой отец отнюдь не противодействовал мне, то с матерью случалась истерика при одном упоминании о моей затее; однако неприятнее всего было то, что мой дед, от которого я многого ожидал, поклялся лишить меня наследства, если я еще хоть раз заведу разговор на эту тему. Эти препятствия, однако, не только не погасили мое желание, но даже подлили масла в огонь. Я решил идти в море во что бы то ни стало и, сообщив свое решение Августу, вместе с ним принялся разрабатывать план действий. Все это время я ни с кем из своих родственников не заговаривал о плавании, и поскольку был поглощен по видимости обычными занятиями, то все предположили, что я отказался от своих намерений. Впоследствии я не раз вспоминал мое поведение в те дни, испытывая смешанное чувство неудовольствия и удивления. Отъявленное лицемерие, с помощью которого я добивался достижения своего замысла и которым было отмечено каждое мое слово и каждый поступок на протяжении столь длительного срока, оказалось мне по плечу лишь благодаря пылким и необузданным надеждам, с какими я ожидал исполнения моей давно лелеемой мечты о путешествиях.
Дабы не навлечь на нас подозрений, я по необходимости вынужден был много дел оставить на попечение Августа, который каждый день большую часть времени был занят на борту «Дельфина», присматривая за кое-какими работами в каюте отца и трюме. Вечерами, однако, мы непременно встречались и обменивались новостями.
Так пролетел без малого месяц, а мы не сумели остановиться на каком-нибудь определенном плане, который обеспечил бы нам успех, пока наконец Август не придумал, что необходимо предпринять. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, мистер Росс, и время от времени я гостил у него в доме по две-три недели. Бриг должен был выйти в море около середины июня (1827 г.), и было решено, что за день или два до отплытия «Дельфина» мой отец получит, как повелось, письмо от мистера Росса с приглашением для меня приехать и провести две недели с его сыновьями Робертом и Эмметом. Август взялся сочинить письмо и доставить его по назначению. Отправившись как будто в Нью-Бедфорд, я должен был встретиться с моим товарищем, который обеспечит мне убежище на борту «Дельфина». Он уверил меня, что устроит это убежище достаточно удобным для длительного пребывания, в течение которого я не должен обнаруживать себя. Когда бриг, следуя своим курсом, уйдет далеко в море, так что никто не решится поворачивать его назад, меня, по словам Августа, как положено, водворят со всеми удобствами в каюту; что до его отца, то он лишь от души посмеется над нашей проделкой. По пути, разумеется, попадутся суда, с которыми можно будет отправить домой письмо и объяснить моим родителям случившееся.
Наконец наступила середина июня, все было готово. Август написал письмо, вручил его моему отцу, и в понедельник утром я поспешил, как считали дома, на пакетбот, отправляющийся в Нью-Бедфорд. Вместо этого я отправился прямо к Августу, который ждал меня за углом. Согласно первоначальному плану, я должен был дождаться в укромном месте темноты, а затем проникнуть на судно, но поскольку, на счастье, стоял густой туман, то было решено не терять времени. Август направился к пристани, а на отдалении последовал за ним я, закутанный, дабы меня не узнали, в толстый морской плащ, который он прихватил с собой. Едва мы прошли мимо колодца мистера Эдмунда и еще раз свернули за угол, как прямо передо мной собственной персоной предстал, глядя мне в лицо, не кто иной, как мой дед мистер Петерсон. «Гордон, да ты ли это? — воскликнул он, оправившись от удивления. — Что с тобой?.. Зачем ты напялил на себя это старое тряпье?» «Сэр! — отвечал я что ни на есть хриплым голосом и стараясь изо всех сил, как того требовала чрезвычайность момента, напустить на себя оскорбленный недоумевающий вид. — Сэр! Вы ошибаетесь. Во-первых, мое имя вовсе не какой-то там Гордон, а во-вторых, я не позволю всякому проходимцу называть мой новый плащ тряпьем». Ей-ей, я едва мог удержаться от хохота, видя, как повел себя почтенный джентльмен, получив этот достойный отпор. Он отступил на два-три шага, побледнел, затем побагровел, сдвинул на лоб очки, потом снова опустил их на переносицу и в бешенстве кинулся на меня, подняв зонтик. Однако он тут же остановился как вкопанный, словно что-то внезапно сообразил, и, повернув, заковылял, прихрамывая, по улице, трясясь от ярости и бормоча сквозь зубы: « Никуда не годится… нужны новые очки… принял чужого человека за Гордона… Будь он неладен, этот долговязый Том, бездельник, ржавая селедка!»
После этой рискованной встречи мы продвигались с большей осторожностью и без приключений добрались до пристани. На борту «Дельфина» находилось два или три матроса, да и те что-то делали у комингса люка на баке. Что до капитана Барнарда, то он, как мы знали, был занят в конторе «Ллойд и Реденбэрг» и останется там допоздна, так что мы могли не опасаться его появления. Август первый подошел к трапу, и вскоре, не замеченный работающими матросами, за ним последовал и я. Мы быстро пробрались в кают-компанию. Там никого не было. Кают-компания оказалась оборудованной с большим комфортом и вкусом, что весьма редко на китобойных судах. В нее выходили четыре отличные отдельные каюты с широкими удобными койками. Я обратил внимание на большую печь и на удивительно толстый дорогой ковер, который был постлан на пол в салоне и каютах. Высота подволока достигала добрых семи футов, словом, здесь сверх ожидания было просторно и уютно. Мне удалось лишь бегло осмотреть обстановку, так как Август торопил меня, считая, что я должен как можно скорее укрыться в моем убежище. Он провел меня в свою каюту, которая помещалась по правому борту, сразу за переборкой. Когда мы вошли, он закрыл дверь на засов. Я подумал, что никогда не видел более приятной комнатки, чем та, где мы оказались. Она имела в длину около десяти футов и только одну широкую, удобную койку, как и те, о которых я уже упомянул. В той части каюты, что примыкала к переборке, было свободное пространство площадью фута четыре, где стоял стол со стулом, а над ним были навешены полки, полные книг, главным образом о плаваниях и путешествиях. Тут были и другие небольшие предметы, придающие комнате уют, и среди них некое устройство, вроде ледника или рефрижератора, где, как показал мне Август, находилось множество вкусных вещей — в продуктовом и в винном отделении.
Затем он надавил пальцами на одно место в углу и сказал, что часть настила, размером около шестнадцати квадратных дюймов, здесь аккуратно вырезана и снова прилажена по месту. Когда он нажал рукой на край выпиленной части, тот чуть приподнялся, и он подсунул под него пальцы. Таким образом он поднял крышку люка (ковер держался на ней благодаря мебельным гвоздям), и я увидел, что он ведет в кормовой трюм. Затем Август фосфорной спичкой зажег маленькую свечу, и поместив ее в потайной фонарь, спустился в люк, позвав меня за собой. После того как я последовал его указанию, он с помощью гвоздя, вбитого с внутренней стороны, опустил крышку, причем ковер, как легко догадаться, занял прежнее положение, скрыв какие бы то ни было следы отверстия.
Фонарь со свечой бросал такой слабый свет, что каждый шаг посреди наваленной кое-как кладки давался нам с величайшим трудом, мы шли чуть ли не ощупью. Постепенно, однако, глаза мои привыкли к мраку, и, держась за товарища, я продвигался вперед более уверенно. Бесчисленное множество раз нам приходилось пригибаться, пролезать через какие-то узкие проходы, но наконец он привел меня к окованному листовым железом ящику, наподобие тех, в каких иногда перевозят фаянс. В высоту он имел почти четыре фута, в длину полных шесть, но был очень узок. На ящике стояли две больших порожних бочки из-под масла, а сверху, поднимаясь до палубы каюты, было уложено огромное количество соломенных циновок. Кругом, куда ни ступи, в полнейшем беспорядке теснились, громоздясь до самого верха, всевозможнейшие предметы корабельного хозяйства и груды различных ящиков, корзин, бочонков, тюков, так что казалось чуть ли не чудом, что мы вообще сумели пробраться к ящику. Впоследствии я узнал, что Август намеренно набил трюм до отказа, чтобы наилучшим образом скрыть мое местопребывание, причем работал он с помощью только одного человека, не идущего в плавание.
Мой спутник сказал, что при желании одну торцовую стенку ящика можно снять. Он отодвинул ее в сторону и показал мне внутренность ящика. Я был приятно поражен: на дне ящика во всю длину был постелен матрац, снятый с каютной койки, тут же находились почти все предметы первой необходимости, какие только можно было разместить в таком малом пространстве, оставив в то же время достаточно места, чтобы я мог расположиться — сидя или вытянувшись во весь рост. Среди вещей было несколько книг, перо, чернила и бумага, три одеяла, большой кувшин, наполненный водой, бочонок морских сухарей, три или четыре болонские колбасы, громадный окорок, зажаренная баранья нога и полдюжины бутылок горячительных напитков и ликера. Я немедленно вступил во владение своим крохотным жилищем, причем убежден, что испытал при этом удовольствие большее, нежели то, какое когда-либо доводилось испытывать монарху, вступающему во дворец. Август научил меня, как закреплять открывающуюся стенку ящика, а затем, опустив свечу к настилу, показал мне кусок темной бечевки на полу. Эта бечевка, объяснил он, протянута от моего убежища через все необходимые повороты и проходы между грузом к люку, ведущему в его каюту, и привязана к гвоздю, вколоченному в трюмную палубу как раз под ним. Следуя вдоль веревки, я могу легко выбраться отсюда без его помощи, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство вызовет такую необходимость. Затем он попрощался со мной, оставив мне фонарь с обильным запасом свечей и спичек, и обещал наведываться всякий раз, когда удастся проскользнуть сюда незамеченным. Это произошло семнадцатого июня.
Насколько можно судить, я провел в своем убежище три дня и три ночи, почти не вылезая из ящика, и лишь дважды, чтобы размять мускулы, выпрямился во весь рост между ящиками, как раз напротив открывающейся стенки. Все это время Август не показывался, но это не сильно беспокоило меня, поскольку я знал, что бриг должен вот-вот выйти в море и что в предотъездной суете ему нелегко выбрать случай спуститься ко мне. Наконец я услышал, как поднялась, а затем опустилась крышка люка, и вскорости тихим голосом Август спросил, все ли у меня в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. «Нет, — сказал я. — Удобнее не устроишься. Когда отплываем?» «Судно снимается с якоря меньше чем через полчаса, — ответил он. — Я пришел сказать тебе об этом, чтобы ты не волновался из-за моего отсутствия. Я не смогу снова спуститься сюда какое-то время, может быть, дня три-четыре. Наверху все в порядке. Когда я вылезу и закрою крышку, пожалуйста, пройди вдоль бечевки сюда, где торчит гвоздь. Я оставляю здесь часы — они могут тебе пригодиться, чтобы узнавать время, ведь дневного света здесь нет. Ты, наверное, не знаешь, сколько ты тут просидел… всего три дня… сегодня двадцатое. Я принес бы часы сам, да боюсь, что меня хватятся». С этими словами он исчез.
Приблизительно через час после того, как Август ушел, я отчетливо почувствовал наконец, что судно движется, и поздравил себя с благополучным началом плавания. Вполне довольный, я решил по возможности ни о чем больше не думать и спокойно ожидать естественной развязки событий,, когда мне разрешат сменить мой ящик на более просторное, хотя вряд ли намного более удобное каютное помещение. Первым делом надо было достать часы. Оставив свечу зажженной, я стал пробираться в полумраке вдоль бечевки, через бесконечный лабиринт переходов, так что иногда, одолев довольно большое расстояние, я снова оказывался в футе или двух от исходной точки. В конце концов я добрался до гвоздя и, взяв часы, целым и невредимым вернулся назад.
Затем я просмотрел книги, которые заботливо подобрал для меня Август, и остановился на экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Некоторое время я с интересом читал, потом почувствовал, что меня одолевает дремота, осторожно погасил свечу и вскоре уснул здоровым сном.
Проснувшись, я почувствовал, что никак не могу собраться с мыслями, и прошел какой-то срок, прежде чем мне удалось припомнить все обстоятельства моего положения. Постепенно я припомнил все. Я зажег свечу и посмотрел на часы, но они остановились, и я, следовательно, был лишен возможности узнать, как долго я спал. Члены мои совсем онемели, и я был вынужден размять мускулы, выпрямившись между ящиками. Почувствовав вскоре волчий аппетит, я вспомнил о холодной баранине, которой отведал перед тем, как уснуть, и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что она совершенно испортилась! Это обстоятельство вызвало у меня сильное беспокойство, ибо, связав его с беспорядочным состоянием ума после пробуждения, я подумал, что спал, должно быть, необыкновенно долго. Одной из причин тому мог быть спертый воздух в трюме, что имело бы в конечном счете пренеприятные последствия. Сильно болела голова, казалось, что трудно дышать, и вообще меня обуревали самые мрачные предчувствия. И все же я не осмеливался дать о себе знать, открыв люк или как-нибудь иначе, а потому, заведя часы, решил, насколько возможно, запастись терпением.
На протяжении следующих двадцати четырех тягостных часов никто не явился избавить меня, и я не мог не винить Августа в явном невнимании к другу.
Но больше всего меня беспокоило то, что воды в моем кувшине поубавилось до полупинты, а я мучился жаждой, изрядно поев копченой колбасы, когда обнаружил, что моя баранина пропала. Мне было явно не по себе, читать решительно не хотелось. Кроме того, меня постоянно клонило ко сну, но я трепетал при мысли, что, поддавшись искушению, окажусь в удушливой атмосфере трюма под каким-нибудь гибельным воздействием, например, угарного газа. Между тем бортовая качка подсказывала мне, что мы вышли в океан, а непрерывное гудение, доносившееся словно бы с огромного расстояния, убеждало, что разыгралась исключительной силы буря.
Августа все не было, и я терялся в догадках. Мы наверняка отошли достаточно далеко, и я мог бы уже подняться наверх. Конечно, с ним могло что-нибудь стрястись, но мне не приходило в голову ничего такого, что объяснило бы, почему он не вызволит меня из моего плена, — разве что он скоропостижно скончался или упал за борт. Но думать об этом было нестерпимо. Возможно, что нас задержал противный ветер и мы все еще находились в непосредственной близости от Нантакета. Это предположение, однако, тоже отпадало, ибо в таком случае судну пришлось бы часто делать поворот оверштаг, но оно постоянно кренилось на левый борт, из чего я с удовлетворением заключил, что благодаря устойчивому бризу с кормы справа мы не сходили с курса. Кроме того, если мы по-прежнему были поблизости от нашего острова, то почему бы Августу не спуститься и не сообщить мне об этом?
Размышляя таким образом о тягостях моего беспросветного одиночества, я решил выждать еще сутки, и если не придет помощь, то пробраться к люку и либо поговорить с другом, либо на худой конец глотнуть свежего воздуха через отверстие и запастись водой в его каюте. Так, занятый этими мыслями, я забылся глубоким сном, вернее впал в состояние какого-то оцепенения, хотя всячески противился этому. Мои сновидения поистине были страшны. Какие только бедствия и ужасы не обрушивались на меня! То какие-то демоны свирепого обличья душили меня огромными подушками. То громадные змеи заключали меня в свои объятия, впиваясь в лицо своими зловеще поблескивающими глазами. То передо мной возникали бескрайние, пугающие своей безжизненностью, пустыни. Бесконечно, насколько хватал глаз, вздымались гигантские стволы серых голых деревьев. Корнями они уходили в обширные зыбучие болота с густо-черной мертвой отвратительной водой. Казалось, в этих невиданных деревьях было что-то человеческое, и, раскачивая свои костистые ветви, они резкими, пронзительными голосами, полными нестерпимых мук и безнадежности, взывали к молчаливым водам о милосердии. Затем картина переменилась: я стоял один, обнаженный, посреди жгучих песков Сахары. У самых моих ног распластался на земле свирепый лев. Внезапно глаза его открылись, и на меня упал бешеный взгляд. Изогнувшись всем туловищем, он вскочил и оскалил свои страшные клыки. В следующее мгновение его кроваво-красный зев исторг рыкание, подобное грому с небесного свода. Я стремительно бросился на землю. Задыхаясь от страха, я наконец понял, что очнулся ото сна. Нет, мой сон был вовсе не сном. Теперь я уже был в состоянии что-то соображать. У меня на груди тяжело лежали лапы какого-то огромного живого чудовища… Я слышал его горячее дыхание на своем лице… его страшные белые клыки сверкали в полумраке.
Даже если бы мне даровали тысячу жизней за то, что я пошевелю пальцем, выдавлю хоть единый звук, то и тогда я не смог бы ни двинуться, ни заговорить. Неизвестный зверь оставался в том же положении, не предпринимая пока попытки растерзать меня, а я лежал под ним совершенно беспомощный и, как мне казалось, умирающий. Я чувствовал, как быстро покидают меня душевные и физические силы, я кончался, кончался единственно от страха. В голове у меня закружилось… я почувствовал отвратительную тошноту… глаза перестали видеть… даже сверкающие зрачки надо мной словно бы затуманились. Собрав остатки сил, я почти одними губами помянул имя Господне и покорился неизбежному. Звук моего голоса, видимо, пробудил у зверя затаенную ярость. Он бросился на меня всей своей тушей; но каково же было мое удивление, когда он тихо, протяжно заскулил и начал лизать мне лицо и руки со всей пылкостью и самыми неожиданными проявлениями привязанности и восторга! Я был поражен, совершенно сбит с толку, разве я мог забыть, как по-особому подвывал мой ньюфаундленд Тигр, его странную манеру ласкаться. Да, это был он! Кровь застучала у меня в висках, то была внезапная, до головокружения острая радость спасения и возврата к жизни. Я поспешно поднялся с матраца, на котором лежал, и, кинувшись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил мою отчаявшуюся душу бурными горячими рыданиями.
Поднявшись с матраца, я обнаружил, что мысли мои, как и в тот раз, находятся в полном помрачении и сумятице.
Долгое время я был почти не в силах сообразить, что к чему; лишь мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать трезво, и я припомнил кое-какие обстоятельства, связанные с моим состоянием. Правда, я тщетно пытался объяснить появление Тигра, строил сотни догадок на этот счет, но в конце концов был вынужден довольствоваться утешительной мыслью, что он здесь и будет делить со мной тягостное одиночество и утешать своими ласками. Большинство людей любит собак, но к Тигру я питал пристрастие более пылкое, чем обыкновенно, и, конечно же, ни одно животное так не заслуживало этого, как он. Семь лет он был моим неразлучным спутником и неоднократно имел случай показать всевозможные благородные качества, за которые мы так ценим собак. Когда он был еще щенком, я выручил его из лап какого-то зловредного мальчишки, тащившего его на веревке в воду, а три года спустя, будучи взрослым псом, он отплатил мне тем же, — спас от дубинки уличного грабителя.
Нащупав часы и приложив их к уху, я обнаружил, что они снова остановились. Но меня это ничуть не удивило, потому что по своему болезненному состоянию я знал, что, как и прежде, проспал очень долго, правда, узнать, сколько именно, было невозможно. У меня начался жар, нестерпимо хотелось пить. Я стал шарить, ища кувшин, где оставался еще небольшой запас воды, — света у меня не было, так как свеча догорела до самого гнезда в фонаре, а коробка со спичками не попадалась под руку. Наконец я наткнулся на кувшин, но он был пуст; Тигр, очевидно, не удержался и вылакал воду и сожрал остатки баранины: у самого отверстия ящика валялась хорошо обглоданная кость. Испорченное мясо мне было ни к чему, но при мысли о том, что я лишился воды, я совсем пал духом. Я испытывал такую слабость, что меня трясло, как в лихорадке, при малейшем движении.
Вдобавок к моим бедам, бриг бешено кидало из стороны в сторону, и бочки из-под масла, которые стояли на ящике, грозили ежеминутно свалиться и загородить доступ в мое убежище. Кроме того, я ужасно страдал от приступов морской болезни. Эти соображения заставляли меня рискнуть во что бы то ни стало добраться до люка и просить помощи до того, как я окажусь не в силах вообще что-либо сделать. Утвердившись в этом решении, я принялся ощупью искать коробку со спичками и свечи. Коробку я нашел без особого труда, но свечей не оказалось там, где я думал (хотя я хорошо запомнил место, куда я их положил), и посему, отказавшись пока от поисков, я приказал Тигру лежать тихо и немедленно двинулся в путь к люку.
Во время этого путешествия моя слабость стала очевидной, как никогда. Каких трудов мне стоило ползти, руки и колени у меня то и дело подгибались, и тогда, в полном изнеможении упав лицом на пол, я лежал по нескольку минут почти без чувств. И все-таки я продвигался мало-помалу, думая лишь о том, как бы не потерять сознания в этих узких, запутанных проходах между грудами клади, в результате чего меня неминуемо ждала смерть. Собрав все силы, я рванулся вперед и больно стукнулся головой об острый угол обитой железом клети. Удар лишь оглушил меня на несколько мгновений, но, к своему невыразимому огорчению, я увидел, что сильная порывистая качка сбросила клеть поперек прохода и она совершенно загородила мне дорогу. Как я ни старался, я не мог сдвинуть ее ни на дюйм, поскольку она оказалась зажата среди всяких ящиков и предметов корабельного хозяйства. Поэтому, несмотря на слабость, мне оставалось либо, отойдя от бечевки, искать новый проход, либо перелезть через препятствие и возобновить путь по другую сторону клети. Первая возможность таила такое множество опасностей и трудностей, что о ней нельзя было даже помыслить без содрогания. Ослабевший телом и духом, я неизбежно заблужусь, если сделаю такую попытку, и обреку себя на гибель в мрачных лабиринтах трюма. Поэтому я без колебаний решил призвать на помощь остатки сил и воли и попробовать по мере возможности перелезть через клеть.
Я встал, чтобы осуществить свой план, но тут же увидел, что он потребует еще больших трудов, чем подсказывали мои опасения. В проходе по обе стороны клети громоздилась целая стена разной клади, и при малейшей моей оплошности она могла обрушиться мне на голову; если это и не случится сейчас, не исключено, что она завалит проход потом, когда я буду возвращаться, и образует такую же преграду, перед которой я стоял. Что до клети, то она была высокой, неудобной и решительно некуда было даже поставить ногу. Тщетно, чего-чего не пробуя, старался я достать до верха, в надежде затем подтянуться на руках. Впрочем, и к лучшему, ибо, дотянись я до верха, у меня все равно не хватило бы никаких сил перебраться через клеть. Наконец, отчаянно пытаясь хоть немного сдвинуть ее с места, я услышал, как на боковой ее стороне что-то дребезжит. Я нетерпеливо ощупал рукой края досок и почувствовал, что одна из них, весьма широкая, оторвалась от стойки. Орудуя перочинным ножом, который, к счастью, был при мне, я ухитрился после немалых трудов оторвать ее совсем; протиснувшись сквозь отверстие, я, к чрезвычайной своей радости, не обнаружил на противоположной стороне досок — другими словами, клеть была открыта, и я, следовательно, пролез через днище. Затем я без особых задержек прошел вдоль бечевки и достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и легонько нажал на крышку люка. Она, против ожидания, не поддавалась, тогда я нажал более решительно, все еще опасаясь, что в каюте Августа находится кто-нибудь посторонний. Крышка, однако, оставалась неподвижной, и я встревожился, помня, как легко она открывалась раньше. Тогда я толкнул крышку посильнее — она сидела так же плотно, затем надавил со всей силой — она не сдвинулась с места, наконец, налег на нее в гневе, ярости, отчаянии — она не поддавалась никак. Крышка сидела совершенно неподвижно, значит, люк либо обнаружили и забили гвоздями, либо завалили каким-то тяжелым грузом, сдвинуть который я не мог.
Крайний ужас и смятение овладели мною. Напрасно пытался я рассуждать о вероятной причине моего заточения. Я не мог придумать сколько-нибудь связного объяснения и безвольно опустился на пол: мое мрачное воображение начало рисовать множество бедствий, ожидающих меня, и наиболее отчетливо — смерть от жажды, голода, удушья и погребение заживо.
В конце концов присутствие духа отчасти возвратилось ко мне. Я встал и ощупью стал искать щель или трещину в крышке люка. Таковые обнаружились, и я тщательно обследовал, не пропускают ли они свет из каюты, но света не было видно. Я просунул лезвие ножа в одну щель, в другую, и всюду оно натыкалось на что-то твердое. Я поцарапал кончиком ножа — похоже на массивный кусок железа, причем с особой, неровной поверхностью, из чего я заключил, что это якорная цепь. Единственное, что мне оставалось, — это вернуться к себе в ящик и либо смириться с моим печальным уделом, либо успокоиться и самому разработать план спасения. Я немедленно отправился в обратный путь и после неимоверных трудностей добрался до места. Когда я в изнеможении упал на матрац, Тигр растянулся подле меня и стал ласкаться — казалось, он хочет утешить меня в моих бедах и страданиях и убеждает крепиться.
Необыкновенное его поведение в конце концов заставило обратить на себя внимание. Он то несколько минут подряд лизал мне лицо и руки, то вдруг переставал и тихонько взвизгивал. Протягивая к нему руку, я каждый раз находил, что он лежит на спине, с поднятыми кверху лапами. Это повторялось неоднократно и потому показалось мне странным, хотя я никак не мог понять, в чем дело. Собаку, видимо, что-то мучило, и я решил, что Тигр получил какое-нибудь повреждение; беря его лапы в руки, я внимательно осмотрел их одну за другой, но не нашел ни единой царапины. Я подумал, что он голоден, и дал ему большой кусок окорока, который он с жадностью проглотил, но потом возобновил свои непонятные действия. Тогда я предположил, что он, как и я сам, страдает от жажды, и посчитал было, что так оно и есть, но тут мне привдло в голову, что осмотрел-то я лишь его лапы, а рана могла быть где-нибудь на теле или на голове. Я осторожно ощупал его голову, но ничего не нашел. Зато когда я провел рукой по спине, то почувствовал, что в одном месте шерсть слегка взъерошена на всем полукружье. Потом я дотронулся до какого-то шнурка и, проведя по нему пальцами, убедился, что им обвязано все туловище собаки.
Осторожно ощупывая шнурок, я наткнулся, судя по всему, на листок почтовой бумаги, сквозь который он и был продернут, причем таким образом, что записка находилась как раз под левым плечом животного.
ГЛАВА III
Да, у меня тут же промелькнула мысль, что листок бумаги — записка от Августа, что случилось что-то непредвиденное, помешавшее ему вызволить меня из заточения, и он прибегнул к этому способу, чтобы уведомить меня об истинном положении дел. Дрожа от нетерпения, я возобновил поиски фосфорных спичек и свечей. Я смутно помнил, что тщательно припрятал их перед тем, как заснуть, да и до последней моей вылазки к люку я в точности знал, куда я их положил. Однако сейчас я тщетно пытался припомнить место и убил целый час на бесплодные и нервные поиски пропажи — наверное, никогда я так не мучился от тревожного нетерпения. Но вот, высунувшись из ящика и принявшись шарить подле балласта, я вдруг заметил слабое свечение в той стороне, где находится руль. Я был поражен: оно казалось всего лишь в нескольких футах от меня, и я решительно двинулся вперед. Едва я тронулся с места, как свет пропал из виду, и мне пришлось возвращаться, ощупывая ящик, обратно, пока я не принял прежнее положение и не увидел свет снова. Осторожно наклоняя голову из стороны в сторону, я понял, что, если медленно, тщательно следя за светом, пробираться в направлении, противоположном тому, куда я было направился, можно приблизиться к нему, не теряя из виду. Протиснувшись сквозь множество узких поворотов, я вскоре достиг источника света — на опрокинутом бочонке валялись обломки моих спичек. Я удивился, как они сюда попали, и в ту же секунду моя рука нащупала два-три куска воска, побывавших, очевидно, в пасти Тигра. Я сразу понял, что он сожрал все мои свечи и теперь я вообще не сумею прочитать записку. Несколько мелких комков воска смешались с мусором в бочонке, так что я отчаялся извлечь из них пользу. Однако я как можно бережнее собрал крупицы фосфора и с большим трудом вернулся к своему ящику, где меня все это время ждал Тигр.
Я решительно не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не видел собственной руки, даже поднося ее к самым глазам. Клочок белой бумаги был едва различим, да и то лишь тогда, когда я смотрел на него не прямо, а немного скосив глаза. Можно представить, какой мрак царил в моей темнице и как записка, написанная моим другом, если это в самом деле была записка, лишь причинила мне еще больше огорчений, бесцельно обеспокоив мой и без того ослабленный и смятенный ум. Тщетно перебирал я в воспаленном мозгу самые нелепые средства раздобыть огонь, — такие в точности привиделись бы в лихорадочном сне курильщику опиума, — каждое из которых само по себе и все вместе казались то необыкновенно резонными, то ни с чем не сообразными, равно как попеременно брала верх склонность к фантазии или способность рассуждать здраво. Наконец мне пришла в голову мысль, которая представлялась вполне разумной, и я справедливо удивился, почему не напал на нее раньше. Я положил листок бумаги на переплет книги и бережно ссыпал остатки фосфорных спичек, которые я собрал с бочонка, на записку. Затем я принялся быстро, с нажимом растирать их ладонью. Немедленно по всей поверхности бумаги распространилось ясное свечение, и, если бы на ней было что-нибудь написано, я наверняка без малейшего труда прочитал бы это. Однако на листке не было ни слова — я видел только мучительную, пугающую белизну: через несколько секунд свечение померкло, наступила тьма, и сердце у меня замерло.
Я уже не раз говорил о том, что последнее время мой разум находился в состоянии, близком к помешательству. Были, разумеется, недолгие периоды абсолютного здравомыслия, иногда даже подъема, но не часто. Не нужно забывать, что на протяжении многих дней я дышал затхлым воздухом трюма на китобойном судне и большую часть этого времени испытывал недостаток воды. Последние четырнадцать или пятнадцать часов во рту у меня не было ни капли и я ни на минуту не сомкнул глаз. Если не считать галет, то мои запасы пищи состояли преимущественно — а после пропажи баранины единственно — из копченостей, вызывающих нестерпимую жажду, что до галет, я никак не мог их есть, ибо они были как камень и не лезли в пересохшее и распухшее горло. Сейчас меня трясло, как в лихорадке, и вообще я был совершенно разбит. Это объяснит то обстоятельство, что после неудачи со спичками я провел несколько часов в полнейшей безнадежности, прежде чем сообразил, что осмотрел-то я лишь одну сторону листка! Не берусь описывать свою ярость (именно это чувство владело мной более всего), когда меня внезапно осенило, какой дурацкий промах я совершил.
Сама по себе неудача не имела бы особого значения, если бы я по глупости не поддался первому побуждению: увидев, что на листке ничего не написано, я с досады по-ребячьи порвал его в клочки и бросил неизвестно куда.
Наиболее трудную часть этой задачи решила сообразительность моего Тигра. Разыскав после долгих поисков какой-то клочок записки, я дал понюхать бумагу псу, пытаясь заставить его понять, что он должен принести остальные куски. К моему удивлению (ибо я не обучал его разным штукам, какими славится его порода), Тигр как будто бы сразу же постиг, чего я добиваюсь от него, кинулся искать и через несколько секунд притащил другую, немалую часть записки. Затем он принялся тереться носом о мою руку, очевидно ожидая похвалы за выполнение приказа. Я ласково похлопал его по шее, и он бросился искать снова. На этот раз прошло несколько минут, зато, вернувшись, он притащил в зубах большой клочок бумаги, благодаря которому записка составлялась целиком: как оказалось, я порвал ее всего лишь на три части. К счастью, мне не доставило труда найти оставшиеся обломки фосфора, поскольку две-три крупицы испускали тусклый свет. Неудачи научили меня быть в высшей степени осторожным, и поэтому я медлил, еще раз обдумывая то, что собирался предпринять. Весьма вероятно, рассуждал я, на той стороне бумаги, которую я не видал, что-то написано, — но которая это сторона? Да, я сложил клочки вместе, но это не давало ответа, хотя и убеждало, что слова (если таковые имеются) находятся все на одной стороне, представляя собой связный текст, как он и был написан. На этот счет не должно быть ни тени сомнения, поскольку оставшегося фосфора явно не хватит для третьей попытки, если та, которую я собирался предпринять, тоже окончится неудачей. Как и в прошлый раз, я сложил вместе клочки записки на переплете книги и сидел несколько минут, еще и еще взвешивая свой план. Не исключено, подумал я наконец, что исписанная сторона бумаги имеет на поверхности некоторую неровность, которую, по-видимому, можно ощутить, обладая тонким осязанием. Я решил попробовать и осторожно провел пальцем по записке, но ничего не почувствовал. Тогда я перевернул клочки другой стороной, сложил их на переплете и снова стал вести указательным пальцем вдоль записки. И здесь я различил тусклое мерцание, которое двигалось за моим пальцем. Я понял, что оно исходит от мельчайших частиц фосфора, которые остались на бумаге. Значит, надпись, если в конце концов окажется, что она все-таки существует, находится на другой, то есть нижней, стороне бумаги. Я опять перевернул записку и проделал ту же операцию, что и при первой попытке. Я быстро растер крупицы фосфора, появилось свечение, и на этот раз я отчетливо увидел несколько строчек, написанных крупным почерком и, очевидно, красными чернилами. Свет был достаточно яркий, но тут же погас. И все же, уйми я свое чрезмерное волнение, я успел бы прочитать все три фразы — а их было именно три, это я заметил. Однако горячее желание схватить весь текст сразу помешало мне, и я сумел прочитать лишь семь последних слов: «…кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».
Знай я даже полное содержание записки, сообщающей о каких-то неслыханных несчастьях, уясни я весь смысл увещания, переданного моим другом, то и тогда — я твердо убежден в этом — я не испытал бы и десятой доли того мучительного и непонятного ужаса, какой вселило в меня это отрывочное предупреждение. И это слово — «кровь»… сколько тайн, страданий, страха несло оно во все времена… какая утроенная сила заключалась сейчас в нем (хотя и оторванном от предыдущих слов и потому неясном и неопределенном)… как холодно и тяжело, посреди глухого мрака моей темницы, падали его звуки в отдаленнейшие уголки моей души!
У Августа, без сомнения, были веские причины предупредить, чтобы я оставался в убежище, и я строил тысячи предположений на этот счет, но ни одно не давало удовлетворительного объяснения тайне. Сразу же после последней вылазки к люку и до того, как мое внимание переключилось на странное поведение Тигра, я пришел к решению сделать так, чтобы меня во что бы то ни стало услышали наверху, или, если это не удастся, попытаться прорезать ход наверх через нижнюю палубу. Доля уверенности в том, что в случае крайней необходимости я сумею осуществить одно из этих намерений, придавала мне мужество вынести все беды (в противном случае оно покинуло бы меня). Однако несколько слов, которые я успел прочитать, окончательно отрезали мне оба пути к отступлению, и сейчас я в первый раз вполне постиг безвыходность моего положения. В припадке отчаяния я упал на матрац и пролежал пластом около суток в каком-то оцепенении, лишь на короткие промежутки приходя в себя.
В конце концов я снова очнулся и задумался над своим ужасным положением. Ближайшие двадцать четыре часа я еще смогу кое-как продержаться без воды, но дольше меня не хватит. В первые дни моего заключения я довольно часто потреблял горячительные напитки, которыми снабдил меня Август, но они только возбуждали нервы и ни в какой мере не утоляли жажду. Теперь у меня оставалось всего лишь с четверть пинты крепкого персикового ликера, которого решительно не принимал мой желудок. Колбасы я все съел, от окорока сохранился только небольшой кусок кожи, а сухари сожрал Тигр, за исключением одного-единственного, да и от того осталось только несколько крошечных кусочков. В довершение к моим бедам с каждым часом усиливалась головная боль и повышался лихорадочный жар, который мучил меня в большей или меньшей мере с того момента, когда я в первый раз забылся сном. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и сейчас каждый вдох сопровождался болезненными спазмами в груди. Но было еще одно обстоятельство, причинявшее мне беспокойство, обстоятельство особого рода, и именно его тревожные последствия и заставили меня побороть оцепенение и подняться с матраца. Я имею в виду поведение моего Тигра.
Какую-то перемену в нем я заметил еще тогда, когда в последний раз растирал крупицы фосфора на бумаге. Он сунул морду к моей движущейся руке и негромко зарычал, но я был слишком взволнован в тот момент, чтобы обращать на него внимание. Напомню, что вскоре после этого я бросился на матрац и впал в своего рода летаргический сон. Через некоторое время, однако, я услышал у себя над ухом свистящий звук — это был Тигр. Он весь дергался в каком-то крайнем возбуждении, дыхание со свистом вырывалось у него из пасти, зрачки яростно сверкали во тьме. Я что-то сказал ему, он тихонько заскулил и затих. Я снова забылся и снова был разбужен таким же манером. Это повторялось раза три или четыре, пока наконец поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно проснулся. Он лежал у выхода ящика, угрожающе, хотя и негромко рыча и щелкая зубами, как будто его били судороги. У меня не оставалось сомнения, что он взбесился из-за недостатка воды и спертого воздуха трюма, и я положительно не знал, как мне быть. Мысль о том, чтобы убить его, была нестерпима, и все же это казалось абсолютно необходимым для собственной безопасности. Я отчетливо различал его глаза, устремленные на меня с выражением смертельной враждебности, и каждое мгновение ожидал, что он кинется на меня. В конце концов я не выдержал чудовищного напряжения и решил выйти из ящика во что бы то ни стало; если же Тигр воспрепятствует мне, я буду вынужден покончить с ним. Для того чтобы выбраться наружу, я должен был перешагнуть через него, а он как будто уже разгадал мои намерения: поднялся, опираясь на передние лапы (я заметил это по тому, как изменилось положение его глаз), и оскалил белые клыки, которые легко можно было разглядеть во тьме. Я сунул в карманы остаток кожи от окорока, бутылку с ликером, взял большой охотничий нож, который оставил мне Август, и, как можно плотнее запахнувшись в плащ, шагнул было к выходу. Едва я двинулся с места, как собака с громким рычанием кинулась вперед, чтобы вцепиться мне в горло. Всем весом своего тела она ударила мне в правое плечо, я опрокинулся на левый бок, и разъяренное животное перескочило через меня. Я упал на колени и зарылся головой в одеяла — это и спасло меня. Последовало второе бешеное нападение, я чувствовал, как плотно сжимались челюсти на шерстяном одеяле, которое окутывало мою шею, и все же, к счастью, его острые клыки не прокусили складки насквозь. Пес навалился на меня, — через несколько секунд я буду в его власти. Отчаяние придало мне энергии, и, собрав последние силы, я скинул с себя собаку и поднялся на ноги. Одновременно я быстро стянул с матраца одеяла, накинул их на пса, и, прежде чем он успел выпутаться, я выскочил из ящика и плотно захлопнул за собой дверцу, избежав таким образом преследования. В момент схватки я выронил кожу от окорока, и теперь все мои запасы свелись к четверти пинты ликера. Как только эта мысль промелькнула у меня в сознании, на меня вдруг что-то нашло; как избалованному ребенку, мне захотелось во что бы то ни стало осуществить свою вздорную затею, и, поднеся бутылку ко рту, я осушил ее до капли и со злостью швырнул на пол.
Едва замер треск разбившейся бутылки, как я услышал свое имя, произнесенное со стороны помещения для команды настойчивым, но приглушенным голосом. Настолько неожиданно было что-либо подобное, так напряглись все мои чувства при этом звуке, что я не смог отозваться. Я лишился дара речи, и в мучительном опасении, что мой друг уверится в моей смерти и вернется на палубу, бросив поиски, я выпрямился между клетями близ входа в мой ящик, содрогаясь всем телом, ловя ртом воздух и силясь выдавить хоть слово. Даже если бы мне обещали тысячу жизней за один звук, то и тогда я не смог бы произнести его. Где-то впереди между досками послышалось движение. Вскоре звук стал слабее, потом еще слабее и еще. Разве можно когда-нибудь забыть, что я почувствовал в тот миг? Он уходил… мой друг… мой спутник, от которого я вправе ожидать помощи… он уходил… неужели он покинет меня?.. Ушел!.. Ушел, оставив меня умирать медленной смертью, оставил угасать в этой ужасной и отвратительной темнице… а ведь одно-единственное слово… едва слышимый шепот спас бы меня… но я не мог произнести ни звука! Я испытывал муки в тысячу раз страшнее самой смерти. Сознание у меня помутилось, мне стало дурно, и я упал на край ящика.
Когда я падал, из-за пояса у меня выскользнул нож и со звоном стукнулся об пол. Самая волшебная мелодия не показалась бы столь сладостной! Весь сжавшись от напряжения, я ждал, услышал ли Август шум. Поначалу все было тихо. Потом раздался негромкий неуверенный шепот: «Артур?.. Это ты?..» Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал во всю силу моих легких: «Август! Август!» «Тише! Молчи ты, ради Бога, — ответил он дрожащим от волнения голосом. — Сейчас я приду… Вот только проберусь здесь». Я слышал, как он медленно двигался между грудами клади, и каждая секунда казалась мне вечностью. Наконец я почувствовал у себя на плече его руку, и он тотчас поднес к моим губам бутылку с водой. Лишь тот, кто стоял на краю могилы или познал нестерпимые муки жажды, усугублявшиеся такими обстоятельствами, в каких находился я в этой мрачной темнице, — лишь тот способен представить себе неземное блаженство, которое я испытал от одного большого глотка самой чудесной жидкости на свете.
Когда я отчасти утолил жажду, Август вытащил из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой также летучий фонарь, и его теплый свет доставил мне, пожалуй, не меньшее наслаждение, чем еда и вода. Однако же мне не терпелось узнать причину затянувшегося отсутствия моего друга, и он приступил к рассказу о том, что произошло на судне во время моего заточения.
ГЛАВА IV
Как я и думал, бриг снялся с якоря приблизительно через час после того, как Август принес мне часы. Это было 20 июня. Напомню, что к тому моменту я находился в трюме уже три дня; все это время на борту царила суматоха, люди бегали взад и вперед, особенно в салоне и каютах, так что Август не имел никакой возможности навестить меня, не рискуя раскрыть тайну нашего люка. А когда мой друг наконец спустился в трюм, я заверил его, что все обстоит наилучшим образом, и потому следующие два дня он почти не беспокоился за меня, ища тем не менее случай заглянуть в убежище. Такой случай выпал лишь на четвертый день. Все это время он неоднократно порывался рассказать отцу о нашем предприятии и вызволить меня, но мы сравнительно недалеко отошли от Нантакета, и по некоторым замечаниям, оброненным капитаном Барнардом, вряд ли можно было заключить, что он не повернет судно, как только обнаружит меня на борту. Кроме того, у Августа — как он говорил — не возникло предположения, что я в чем-нибудь нуждаюсь, и он знал, что в случае крайней необходимости я тут же дам о себе знать. Поэтому по зрелом размышлении он заключил, что мне лучше остаться здесь до тех пор, пока у него не появится возможность навестить меня незамеченным. Я уже сообщил, что такая возможность появилась только на четвертый день после того, как он оставил мне часы, или на седьмой — после того, как я укрылся в трюме. Он не взял ни воды, ни провизии, намереваясь просто позвать меня к люку, а уж затем передать мне из каюты запасы. Когда он сошел вниз, то по громкому храпу понял, что я сплю. Из соответствующих сопоставлений я пришел к выводу, что как раз в это время я забылся тяжелым сном после моей вылазки к люку за часами и что, следовательно, мой сон длился по меньшей мере целых три дня и три ночи. Из собственного недавнего опыта и рассказов других я имел основания убедиться в том, какое сильное усыпляющее действие оказывает зловоние, распространяемое рыбьим жиром в закрытом помещении; и когда я думаю о жутких условиях, в которых я пребывал, и длительности срока, в течение которого бриг использовался в качестве китобойного судна, я склонен скорее удивляться тому, что, однажды заснув, я вообще проснулся, нежели тому, что проспал без перерыва указанное выше время.
Сперва Август позвал меня шепотом, не закрывая люк, однако я не ответил. Тогда он опустил крышку и позвал меня громче, потом полным голосом — но я продолжал храпеть. Он не знал, что ему делать. Пробираться к моему ящику сквозь завалы в трюме отняло бы довольно много времени, а между тем его отсутствие могло быть замечено капитаном Барнардом, который имел обыкновение поминутно пользоваться услугами сына для сортировки и переписывания деловых бумаг, связанных с рейсом. Поэтому он подумал, что лучше вернуться и подождать другого случая. Он шел на это с тем более легким сердцем, что спал я, по видимости, как нельзя более безмятежно, и он не мог предположить, что я испытываю особые неудобства от заключения. Как только он принял это решение, внимание его привлекло какое-то движение и шум, доносившийся, очевидно, из салона. Он быстро выскользнул из люка, закрыл крышку и распахнул дверь своей каюты. Едва он переступил порог, как чуть ли не в лицо ему грянул выстрел, и в то же мгновение его свалил с ног удар вымбовкой.
Чья-то сильная рука прижала его к полу, крепко стиснув ему горло, и все же он мог разглядеть, что происходит вокруг. Связанный по рукам и ногам, на ступеньках трапа лежал вниз головой его отец, и из глубокой раны на лбу непрерывной струей лилась кровь. Из груди его не вырывалось ни звука, он, очевидно, кончался. Над капитаном со злорадной усмешкой наклонился первый помощник и, хладнокровно вывернув ему карманы, достал большой бумажник и хронометр. Семь человек экипажа (среди них был кок-негр) рыскали по каютам вдоль левого борта и скоро вооружились ружьями и патронами. Кроме Августа и капитана Барнарда, в салоне находилось всего девять человек, причем из числа самых отъявленных головорезов на судне. Затем негодяи стали подниматься на палубу и повели с собой моего друга, предварительно связав ему за спиной руки. Они направились прямо на бак, который был захвачен бунтовщиками: у закрытого входа стояли двое с топорами, и еще двое дежурили у главного люка. Помощник капитана крикнул: «Эй, вы, там, внизу! Слышите?.. А ну, вылезайте поодиночке… И чтоб никаких штучек!» Прошло несколько минут, затем показался англичанин, который записался на корабль необученным матросом, — он хныкал и униженно умолял помощника капитана пощадить его. В ответ последовал удар топором по голове. Бедняга без единого стона упал на палубу, а кок-негр легко, точно ребенка, поднял его на руки и рассчитанным движением выбросил за борт. Матросы, оставшиеся внизу, услышали удар и всплеск воды; теперь ни угрозами, ни посулами невозможно было заставить их подняться на палубу, и кто-то предложил выкурить их оттуда. Тогда несколько человек разом выскочили наверх, и в какой-то момент казалось, что они одолевают бунтовщиков. Последним, однако, удалось плотно закрыть дверь кубрика, так что оттуда успели выбежать только шесть матросов. Поскольку у этих шестерых не было оружия и противник превосходил их числом, то после короткой схватки они вынуждены были уступить силе. Помощник капитана обещал их помиловать, рассчитывая, разумеется, побудить оставшихся внизу тоже сдаться, ибо они слышали каждое слово, сказанное на палубе. Результат подтвердил его хитрость, равно как и дьявольскую жестокость. Вскоре все, находившиеся в кубрике, изъявили готовность сдаться и стали один за другим подниматься наверх; их тут же связывали и опрокидывали на пол рядом с первыми шестью матросами — оказалось, что двадцать семь человек в бунте не замешаны.
Затем началась поистине чудовищная бойня. Связанных матросов волочили к трапу. Здесь кок топором методически ударял каждого по голове, а другие бунтовщики скидывали несчастную жертву за борт. Таким образом было убито двадцать два человека, и Август уже считал себя погибшим, каждую минуту ожидая своей очереди. Но негодяи то ли устали, то ли пресытились кровавым зрелищем, во всяком случае, расправа над четырьмя пленниками и моим другом, которые тоже лежали связанными на палубе, была временно отложена, а помощник капитана послал вниз за ромом, и вся эта компания убийц начала попойку, которая длилась до захода солнца. Между ними разгорелся спор о том, что делать с оставшимися в живых, которые находились тут же, шагах в пяти, и слышали каждое слово. Изрядно выпив, некоторые бунтовщики, казалось, подобрели. Стали даже раздаваться голоса о том, чтобы освободить пленников при условии, если они примкнут к ним и будут участвовать в дележе добычи. Однако чернокожий кок (который во всех отношениях был сущим дьяволом и который, очевидно, имел такое же влияние на других, как и сам помощник капитана, если даже не большее) не желал ничего слышать и неоднократно порывался возобновить побоище у трапа. По счастью, он был настолько пьян, что его без труда удерживали менее кровожадные собутыльники, среди которых был и лотовой, известный под именем Дирка Петерса. Этот человек был сыном индианки из племени упшароков, которое обитает среди недоступных Скалистых гор, неподалеку от верховий Миссури. Отец его, кажется, торговал пушниной или, во всяком случае, каким-то образом был связан с индейскими факториями на реке Льюиса. Сам Петерс имел такую свирепую внешность, какой я, пожалуй, никогда не видел. Он был невысокого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но сложен как Геркулес. Бросались в глаза кисти его рук, такие громадные, что совсем не походили на человеческие руки. Его конечности были как-то странно искривлены и, казалось, совеем не сгибались. Голова тоже выглядела какой-то несообразной: огромная, со вдавленным теменем (как у большинства негров) и совершенно плешивая. Чтобы скрыть этот недостаток, вызванный отнюдь не старческим возрастом, он обычно носил парик, сделанный из любой шкуры, какая попадалась под руку, — будь то шкура спаниеля или американского медведя-гризли. В то время, о котором идет речь, на голове у него был кусок медвежьей шкуры, который сообщал еще большую свирепость его облику, выдававшему его происхождение от упшароков. Рот у Петерса растянулся от уха до уха, губы были узкие и казались, как и другие части физиономии, неподвижными, так что лицо его совершенно независимо от владеющих им чувств сохраняло постоянное выражение. Чтобы представить себе это выражение, надо вдобавок принять во внимание необыкновенно длинные, торчащие зубы, никогда, даже частично, не прикрываемые губами. При мимолетном взгляде на этого человека можно было подумать, что он содрогается от хохота, но если вглядеться более пристально, то с ужасом обнаружишь, что если это и веселье, то какое-то бесовское. Об этом необыкновеннейшем существе среди моряков Нантакета ходило множество историй. Некоторые касались его удивительной силы, которую он проявлял, будучи в раздраженном состоянии, а иные вообще сомневались, в здравом ли он уме. Но на борту «Дельфина» в момент бунта он, по-видимому, был всего лишь предметом всеобщего зубоскальства. Я так подробно остановился на Дирке Петерсе потому, что, несмотря на кажущуюся свирепость, именно он помог Августу спастись от смерти, а также и потому, что я буду часто упоминать о нем в ходе моего повествования, которое — позволю себе заметить — в последних своих частях будет содержать происшествия, настолько несовместимые с областью человеческого опыта и в силу этого настолько выходящие за границы достоверности, что я продолжаю свой рассказ без малейшей надежды на то, что мне поверят, однако в стойком убеждении, что время и развивающиеся науки подтвердят наиболее важные и наименее вероятные из моих наблюдений.
После долгих колебаний и двух-трех яростных ссор было решено усадить всех пленников (за исключением Августа, которого Петерс словно бы в шутку настоятельно пожелал иметь при себе в качестве клерка) в какой-нибудь малый вельбот и пустить по воле волн. Помощник капитана сошел в салон посмотреть, жив ли капитан Барнард: его, как вы помните, бунтовщики бросили там, когда поднялись на палубу. Вскоре появились оба, капитан бледный как смерть, но немного оправившийся от раны. Едва слышным голосом он обратился к матросам, убеждая их не бросать его в море и вернуться к исполнению своих обязанностей, а также обещая высадить их на сушу, где пожелают, и не передавать дело в руки правосудия. Но то был глас вопиющего в пустыне. Двое негодяев подхватили его под руки и столкнули через борт в лодку, которую успели опустить на воду, пока помощник капитана ходил в кают-компанию. Четырем матросам, лежавшим на палубе, развязали руки и приказали следовать за капитаном, что они и сделали без малейшей попытки к сопротивлению, но Августа по-прежнему оставили крепко связанным, хотя он бился и молил только об одном — чтобы ему разрешили попрощаться с отцом. В лодку передали горсть морских сухарей и кувшин с водой, но пленники не получили ни мачты, ни паруса, ни весел, ни компаса. Несколько минут, пока бунтовщики о чем-то совещались, лодка шла за кормой на буксире, затем веревку обрубили. Тем временем спустилась ночь, на небе не было ни луны, ни звезд, шла опасная короткая волна, хотя ветер был умеренный. Лодка мгновенно пропала из виду, и вряд ли можно было питать надежду на спасение несчастных, находившихся в ней.
Это произошло на 35°30´ северной широты и 61°20´ западной долготы, то есть сравнительно недалеко от Бермудских островов. Поэтому Август старался утешить себя мыслью, что лодке удастся достичь суши или подойти достаточно близко к островам и встретить какое-нибудь судно.
Затем на бриге поставили все паруса, и он лег на прежний курс на юго-запад: бунтовщики, очевидно, задумали разбойничью экспедицию, намереваясь, наверное, захватить какое-то судно, идущее с островов Зеленого Мыса в Порто-Рико. Никто не обращал никакого внимания на Августа — ему развязали руки и разрешили находиться на передней части корабля, но не подходить, однако, близко к салону. Дирк Петерс обращался с ним довольно мягко, а однажды даже спас его от жестокого кока. И все же положение Августа было отнюдь не безопасным, ибо бунтовщики пребывали в состоянии постоянного опьянения и полагаться на их хорошее настроение или безразличие было нельзя. Однако более всего Августа, как он сам рассказывал, мучило беспокойство обо мне, и я не имею оснований сомневаться в его дружеской верности. Он не раз порывался раскрыть смутьянам тайну моего пребывания на борту, но его удерживала отчасти мысль о зверствах, свидетелем которых он имел несчастье быть, а отчасти надежда на то, что ему как-нибудь удастся в скором времени облегчить мое положение. Он был ежеминутно начеку, но, несмотря на постоянное бдение, минуло целых три дня, как бунтовщики бросили в. открытом море вельбот, прежде чем выпал удобный случай. В ночь на четвертый день с востока налетел жестокий шторм, и все матросы были вызваны наверх убирать паруса. Воспользовавшись замешательством, Август незаметно спустился вниз и проник в свою каюту. Каково же было его горе и смятение, когда он обнаружил, что ее превратили в склад съестных припасов и корабельного хозяйства и что огромную, в несколько саженей якорную цепь, которая была сложена под сходным трапом в кают-компанию, перетащили сюда, чтобы освободить место для какого-то сундука, и теперь она лежала как раз на крышке люка! Сдвинуть ее, не обнаружив себя, было решительно невозможно, и он поспешил вернуться на палубу. Когда он появился наверху, помощник капитана схватил его за горло, потребовав отвечать, что он делал в каюте, и хотел перекинуть его через поручни, но вмешательство Дирка Петерса снова спасло Августу жизнь. Ему надели наручники (каковых на судне было несколько пар) и крепко связали ноги. Затем моего друга отвели на нижнюю палубу и заперли в каюту для команды, примыкающую к переборке бака, со словами, что нога его не ступит на палубу, «пока бриг называется бригом». Так выразился кок, швырнув его на койку, — трудно угадать, что именно он хотел сказать. Однако это происшествие, как вскоре станет очевидным, в конечном счете способствовало моему освобождению.
ГЛАВА V
Какое-то время после ухода кока Август предавался отчаянию, окончательно оставив надежду выйти из этой дыры живым. Он пришел к решению, что первому человеку, который спустится сюда, он скажет, где я нахожусь, считая, что мне лучше пойти на риск и оказаться пленником у бунтовщиков, нежели погибнуть от жажды в трюме, ибо со дня моего заключения прошло уже десять дней, а запас воды в моем кувшине был рассчитан от силы на четыре. Покуда он размышлял, его внезапно осенила мысль, нельзя ли попробовать снестись со мной через главный трюм. В других обстоятельствах трудности и риск, связанные с этим предприятием, заставили бы его отступиться, но сейчас — что бы ни случилось — у него у самого было немного шансов выжить, следовательно, терять было нечего, и он твердо решил осуществить свой замысел.
Первой заботой были наручники. Сперва ему показалось, что их не снять, и он расстроился, что с самого начала возникло непреодолимое препятствие, однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что с некоторым усилием протискивая сложенные ладони сквозь браслеты, последние можно безболезненно снять с руки и надеть при желании снова, — очевидно, этот вид наручников был не приспособлен для подростков, ввиду тонкости и гибкости их костяка. Затем он ослабил веревку на ногах, оставив на ней петлю, чтобы быстро затянуть ее снова в случае чьего-либо появления, и принялся осматривать переборку, у которой находилась койка. В этом месте она была составлена из мягких сосновых досок толщиною в дюйм, и он убедился, что без особого труда проделает в ней отверстие. В этот момент с трапа, ведущего на бак, раздался голос, и едва он успел протиснуть правую руку в браслет (левый он не снимал) и затянуть веревку скользящим узлом вокруг лодыжек, как спустился Дирк Петерс в сопровождении Тигра, который тут же вспрыгнул на койку и улегся на ней. Собаку привел на судно Август, который знал мою привязанность к животному и решил, что мне будет приятно иметь его при себе во время путешествия. Он пошел ко мне домой за собакой сразу же после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сказать мне об этом, когда принес часы. С того момента, как вспыхнул бунт, Август не видел Тигра и решил, что его вышвырнул за борт какой-нибудь негодяй из числа дружков помощника капитана. Впоследствии выяснилось, что собака забилась под вельбот, но не могла вылезти назад без посторонней помощи. Петерс выпустил его и с каким-то доброжелательством, которое мой друг вполне оценил, привел к нему в кубрик для компании; оставив, кроме того, кусок солонины, несколько картофелин и кружку с водой, он поднялся наверх, обещав прийти на следующий день и принести что-нибудь поесть.
Когда тот ушел, Август стянул с рук браслеты и освободил от веревки ноги. Затем он откинул изголовье матраца, на котором лежал, и перочинным ножом (негодяи не сочли нужным обыскать моего друга) принялся усиленно резать поперек одну из досок в переборке как можно ближе к настилу. Он выбрал именно это место потому, что в случае внезапной помехи он мог быстро скрыть свою работу, опустив матрац на прежнее место. Остаток дня его, однако, никто не тревожил, и к вечеру он полностью перерезал доску. Здесь следует заметить, что никто из команды не использовал кубрик для сна, ибо с момента мятежа все постоянно находились в кают-компании, попивая вина и пируя за счет запасов капитана Барнарда и не заботясь, более чем это было абсолютно необходимо, о том, чтобы вести корабль. Это обстоятельство оказалось исключительно благоприятным как для меня, так и для Августа: в противном случае он не смог бы до меня добраться. Но дело обстояло именно так, и Август с рвением продолжал работу. Однако лишь незадолго до рассвета он закончил вторую прорезь в доске (находившуюся выше первой примерно на фут), проделав, таким образом, отверстие, которое было достаточно велико, чтобы с легкостью пролезть на нижнюю палубу. Он прополз сквозь отверстие и без особого труда добрался до главного нижнего люка, хотя для этого ему пришлось карабкаться на бочки для ворвани, которые ярусами возвышались чуть ли не до верхней палубы, так что там едва оставалось пространство, чтобы двигаться вперед. Он достиг люка и увидел, что Тигр следовал за ним понизу, протискиваясь между двумя рядами бочек. Было, однако, уже слишком поздно, он не успел бы пройти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась в том, чтобы пробраться сквозь тесно уложенную кладь в нижнем трюме. Он решил поэтому вернуться и дождаться следующей ночи, но предварительно попробовал приоткрыть люк, чтобы не терять времени, когда он придет сюда. Едва он приподнял крышку, как Тигр бросился к щели, принялся нюхать и протяжно заскулил, одновременно скребя лапами и как бы пытаясь сдвинуть доски. Собака, без сомнения, почувствовала мое присутствие в трюме, и Август подумал, что она наверняка разыщет меня, если спустится вниз. Тогда-то Августу и пришла мысль послать мне записку с предупреждением, чтобы я не пытался выбраться наверх, во всяком случае, при нынешних обстоятельствах, а полной уверенности, что сумеет повидать меня завтра, как он предполагал, у него не было. Последующие события показали, какой счастливой была эта мысль: не получи я записки, я неизбежно выискал бы какое-нибудь, пусть самое отчаянное, средство поднять на ноги всю команду, в результате чего и его и моя жизнь оказались бы, вероятнее всего, под угрозой.
Решение о записке было принято, но чем и на чем писать? Старая зубочистка была тотчас переделана в перо, причем на ощупь, потому что между палубами царил кромешный мрак. Бумага тоже нашлась — вторая страница письма мистера Росса, вернее дубликат подделки. Это был первоначальный вариант, не удовлетворивший Августа из-за недостаточного сходства почерков, и он написал другой, а первый по счастливой случайности сунул в карман, где он сейчас весьма кстати и обнаружился. Теперь недоставало только чернил, но и здесь нашлась замена: Август перочинным ножом уколол палец как раз над ногтем, и из пореза, как это обычно и бывает от повреждений в этом месте, обильно выступила кровь. Итак, записка была написана, насколько это вообще можно было сделать в темноте и в этих условиях. В ней коротко говорилось, что на бриге вспыхнул мятеж, что капитан Барнард оставлен в море, что я могу рассчитывать на помощь по части съестного, но никоим образом не должен обнаруживать свое присутствие. Записка заканчивалась словами:
«Пишу кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».
Привязав листок бумаги к собаке и спустив ее по ступенькам в трюм, Август поспешил обратно в кубрик и никаких признаков того, что кто-нибудь из экипажа заходил сюда в его отсутствие, там не обнаружил. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он вогнал в доску над ним нож и повесил куртку, валявшуюся в каюте. Затем он надел наручники и обвязал веревкой ноги.
Едва он успел закончить эти приготовления, как в кубрик спустился Дирк Петерс, совершенно пьяный, но в отличнейшем настроении, и принес моему другу дневной паек. Он состоял из дюжины больших печеных картофелин и кувшина воды. Он уселся на ящик возле койки и принялся разглагольствовать о помощнике капитана и вообще о делах на судне. Держался он как-то неровно и непонятно. Один раз Августа даже смутило его странное поведение. Наконец он ушел, пробормотав, что завтра принесет пленнику хороший обед. Днем пришли еще два члена команды — гарпунщики — в сопровождении кока, причем все трое в состоянии совершенного опьянения. Как и Петерс, они, не таясь, говорили о своих намерениях. Оказалось, что среди бунтовщиков возникли серьезные разногласия относительно конечной цели путешествия и что они пришли к единодушному мнению лишь в одном пункте — напасть на судно, идущее с островов Зеленого Мыса, которое они ожидали встретить с часу на час. Насколько можно было понять, бунт вспыхнул не только из-за добычи — главным подстрекателем был первый помощник капитана, затаивший личную обиду на капитана Барнарда. Теперь, как явствовало, команда разделилась на две основные группы: одну возглавлял помощник капитана, другую кок. Те, что были с помощником капитана, предлагали захватить первый подходящий корабль и, снарядив его где-нибудь на островах Вест-Индии, пуститься в разбойничье плавание. Вторая группа, более многочисленная и включавшая Дирка Петерса, стояла на том, чтобы следовать первоначальному маршруту в южную часть Тихого океана, а там либо заняться китобойным промыслом, либо предпринять что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам. Рассказы Петерса, который часто ходил в эти широты, очевидно, имели успех у бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и жаждой развлечений. Он распространялся о том, какой новый и увлекательный мир откроется перед ними на бесчисленных островах Тихого океана, как они будут наслаждаться полной безопасностью и свободой от всех ограничений, и особенно восхвалял благодатную природу, богатую и легкую жизнь и чудную красоту женщин. И все же к согласному решению на судне пока не пришли, хотя картины, нарисованные полукровкой, завладели разгоряченным воображением моряков, и, по всей вероятности, его рассказы в конце концов могли возыметь действие.
Троица убралась примерно через час, и больше в тот день на баке никто не появлялся. Август лежал без звука почти до самой ночи. Потом он освободился от наручников и веревки на ногах и начал приготовления к вылазке. Около какой-то койки он нашел бутылку и наполнил ее из кувшина, оставленного Петерсом, в карманы засунул холодные картофелины. К его величайшей радости, ему попался также фонарь с сальным огарком. Фонарь он мог зажечь в любую минуту, поскольку в его распоряжении была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он из предосторожности так сложил одеяло, что создавалось впечатление, будто на койке лежит укрывшийся им человек, и пролез сквозь отверстие. Оказавшись по ту сторону переборки, он, как и прежде, повесил куртку на нож, чтобы скрыть отверстие, а затем вставил выпиленный кусок доски на место. Теперь он находился на нижней палубе и стал пробираться, как и в первый раз, между настилом верхней палубы и бочками для китового жира к главному люку. Там он зажег фонарь и спустился в трюм, осторожно нащупывая путь среди плотно установленного груза. Через несколько секунд он почувствовал невыносимую духоту и зловоние. Он не представлял себе, как я мог так долго дышать таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал меня, но никто не отвечал; казалось, что самые худшие его предположения подтвердились. Бриг бешено швыряло из стороны в сторону, и стоял такой шум, что различить в нем дыхание или храп было совершенно немыслимо.
Он открыл крышку фонаря и, когда была возможность, поднимал его как можно выше, чтобы я — если я еще был жив — заметил свет и знал, что мне идут на выручку. Однако я не издавал ни звука, и предположение, что я погиб, постепенно превращалось в уверенность. Тем не менее он решил пройти, если удастся, к ящику и хотя бы убедиться в истинности своих подозрений. Какое-то время, совершенно подавленный, он еще продвигался вперед, пока не увидел, что проход совершенно загроможден и он не сможет сделать дальше ни шага тем путем, каким шел. Будучи не в силах сдержаться, он в отчаянии бросился на бревна и зарыдал, как ребенок. Как раз в этот момент он услышал треск бутылки, которую я швырнул на пол. Поистине счастливой оказалась эта случайность, ибо при всей незначительности от нее зависела моя висевшая на волоске жизнь. Врожденная застенчивость и сожаление о своей слабости и нерешительности помешали Августу сразу признаться в том, в чем более тесное и откровенное общение побудило его поделиться со мной впоследствии.
Видя, что он не может пробраться вперед из-за непреодолимых препятствий, Август решил отказаться от намерения повидать меня и немедленно вернуться в кубрик. Прежде чем порицать его за это, необходимо принять во внимание чрезвычайные обстоятельства, которые крайне осложняли его положение. Приближалось утро, и его отсутствие могло быть обнаружено — вернее, так оно и должно было случиться, если он не успеет до рассвета вернуться в кубрик. В фонаре догорала свеча, а возвращаться к люку в темноте было необыкновенно трудно. Нужно учитывать также, что у него имелись все основания считать меня погибшим, и в этом случае он уже ничем не мог мне помочь, даже если бы достиг ящика, а по пути ему пришлось бы встретиться с множеством опасностей. Он несколько раз звал меня, но я не отвечал. На протяжении одиннадцати дней и ночей у меня было ровно столько воды, сколько помещалось в оставленном им кувшине, причем маловероятно, что я экономил ее в начале заключения, поскольку имел веские резоны ожидать благополучного разрешения дела. Кроме того, для него, дышавшего сравнительно свежим воздухом жилых помещений, атмосфера в трюме была отвратительна и куда более невыносима, чем показалось мне, когда я впервые устраивался в ящике, — ведь к тому времени люки оставались открытыми в течение многих месяцев. Добавьте к этим соображениям сцену страшного кровопролития, свидетелем которой совсем недавно был мой друг, его собственный плен, лишения, добавьте, что он сам едва избежал смерти и сейчас еще находился в каком-то двусмысленном и опасном положении, добавьте, словом, все так несчастливо сложившиеся обстоятельства, способные вконец истощить духовные силы, и тогда вы, читатель, вслед за мной отнесетесь к его очевидной неустойчивости в дружбе и вере скорее с чувством глубокой печали, нежели гнева.
Итак, Август отчетливо слышал треск разбившейся бутылки, но он не был уверен, что звук донесся из трюма. Однако и искры надежды было достаточно, чтобы продолжать поиски. Он вскарабкался по грузу почти до средней палубы, а затем, выждав момент, когда качка стихла, стал изо всех сил звать меня, пренебрегая на этот раз опасностью быть услышанным членами команды. Напомню, что как раз в это время я услышал его голос, но не смог превозмочь волнения и отозваться. Убежденный, что сбылись худшие его предположения, он спустился на палубу, чтобы, не теряя времени, вернуться в кубрик. В спешке он столкнул несколько небольших ящиков, и я слышал, если помните, шум от падения. Он уже проделал значительный путь назад, когда стук ножа снова заставил его заколебаться. Он немедленно возвратился и, вторично забравшись на грузы и дождавшись затишья, так же громко стал звать меня. На этот раз я обрел дар речи. Вне себя от радости, что я жив, он решил пройти ко мне, невзирая ни на что. Кое-как выбравшись из лабиринта, образованного наваленным грузом, он наткнулся на подходящую как будто щель и после неимоверных усилий, вконец изнемогая, очутился у ящика.
ГЛАВА VI
Этот рассказ в общих чертах Август успел сообщить в момент нашей встречи подле ящика, и лишь позднее он поведал свои приключения во всех подробностях. Он опасался, что его хватятся, да и я сгорал от нетерпения избавиться от ненавистного плена. Мы решили немедленно добраться до его отсека, где я должен был выждать за перегородкой, пока он разведает, что творится наверху. Ни он, ни я положительно не знали, что делать с Тигром, хотя и помыслить не могли о том, чтобы оставить его здесь. Пес совсем затих, и, даже приложив ухо к стенке ящика, мы не различали его дыхания. Я уже подумал, что он околел, и открыл дверцу ящика. Тигр лежал совершенно неподвижно, вытянувшись во всю длину, но еще дышал. Нельзя было терять ни минуты, и все-таки я не мог заставить себя бросить на верную смерть животное, которое дважды спасло мне жизнь. С огромным трудом, изнемогая от усталости, мы кое-как потащили его с собой, причем Августу неоднократно приходилось брать собаку на руки и перелезать с ней через всевозможные препятствия — подвиг, на который я из-за крайней слабости был совершенно неспособен. Наконец мы достигли отверстия в перегородке, Август пролез внутрь, туда же мы протолкнули и Тигра. Все было в порядке, и мы не преминули вознести благодарственные молитвы Господу за избавление от неминуемой гибели. Мы условились, что я пока останусь подле отверстия, чтобы мой друг имел возможность делиться со мной своим дневным пайком, а я — дышать сравнительно свежим воздухом.
Некоторые части моего рассказа, те, где я касался корабельного груза, могут показаться сомнительными иным читателям, которым доводилось наблюдать, как обычно загружают судно, и поэтому я должен определенно заметить, что в этом важнейшем деле капитан Барнард допустил позорную небрежность и не показал себя ни предусмотрительным, ни многоопытным моряком, как того, очевидно, требовал опасный служебный долг. Погрузку нельзя вести кое-как, и даже на собственном небольшом опыте я убедился, что небрежение или невежество в этой части ведет к гибельным последствиям. Чаще других терпят кораблекрушение каботажные суда, на которых из-за обычной суматохи во время погрузочных и разгрузочных работ плохо следят за правильным размещением грузов. Самое главное состоит в том, чтобы исключить возможность малейшего перемещения груза или балласта даже в моменты наисильнейшей качки. Для этого надо принимать в расчет не только количество груза, но и характер его, а также степень заполненности трюма. В большинстве случаев правильная укладка груза достигается уплотнением. Так, при перевозке табака или муки тюки и мешки настолько уплотняют в трюме, что при разгрузке они оказываются совершенно сплющенными и лишь через некоторое время приобретают свою первоначальную форму. К уплотнению, однако, прибегают преимущественно в тех случаях, когда необходимо выгадать место в трюме, ибо при полной его загрузке такими товарами, как мука или табак, опасности перемещения нет вовсе или оно таково, что не причинит вреда. Бывало даже, что чрезмерное уплотнение приводило к весьма печальным последствиям, но по причинам, совершенно отличным от опасности, возникающей из-за сдвига груза. Известен, например, случай, когда плотно уложенная при определенных атмосферных условиях партия хлопка затем раздалась в объеме и разорвала в море корпус корабля. Нет сомнения, что то же самое могло бы произойти с табаком, в котором происходит обычный процесс ферментации, если бы не промежутки между тюками из-за их округлой формы.
Когда же трюм загружен не полностью, тогда и может возникнуть опасность сдвига груза, против чего и требуется принять соответствующие меры предосторожности. Только те, кто встречался со штормом, вернее, кто испытал бортовую качку в момент внезапно наступившего затем штиля, могут представить себе, с какой мощью накреняется судно и какая чудовищная движущая сила сообщается, в результате всем свободным предметам на борту. Тогда-то и становится очевидной необходимость самой тщательной укладки груза в неполном трюме. Когда судно с неудачной конструкцией носа лежит в дрейфе (особенно с небольшим числом парусов на носу), его часто кренит набок; это случается в среднем каждые пятнадцать-двадцать минут и при условии правильной укладки груза не влечет за собой никаких серьезных последствий. Если же за нею не следили самым строжайшим образом, то при первом же сильном броске весь груз перекатывается на один борт, и, поскольку судно не может выпрямиться, вода за несколько секунд проникает в трюм, и оно идет ко дну. Не будет преувеличением сказать, что по крайней мере половина кораблекрушений во время тяжелых штормов объясняется перемещением груза или балласта.
При перевозке на судне штучного товара груз размещается как можно плотнее и покрывается слоем толстых досок длиной от борта до борта. На эти доски устанавливают прочные временные стойки, упирающиеся в бимсы, и таким образом достигается надежное крепление. При погрузке зерна и других подобных материалов требуются особые предохранительные меры. Трюм, при отплытии загруженный зерном доверху, в пункте назначения окажется заполненным лишь на три четверти, хотя если грузополучатель замерит зерно бушель за бушелем, то количество его — несмотря на то, что судно зафрахтовано специально для данной партии, — значительно увеличится из-за разбухания. Эта мнимая убыль вызвана утряской зерна за время плавания, и она тем более ощутима, чем хуже была погода. Сколь хорошо ни закреплять досками и стойками свободно засыпанное в трюм зерно, все равно во время долгого перехода оно сдвинется, и это приведет к губительнейшим последствиям. Чтобы избежать их, перед отплытием следует как можно лучше утрясти груз; для этого существует множество способов, среди которых можно упомянуть вколачивание в зерно клиньев. Но и после всех этих приготовлений, после необыкновенно тяжелой работы по закреплению досок ни один моряк, даже знающий свое дело, не будет чувствовать себя в безопасности при сколько-нибудь сильном шторме, имея на борту груз зерна и тем паче неполный трюм со штучным товаром. Несмотря на это, сотни наших каботажных судов и еще больше европейских каждодневно уходят в плавание со штучным грузом, причем самым опасным, без каких-либо предосторожностей. Удивительно, что кораблекрушения не бывают еще чаще. Печальным примером такой беззаботности в моей памяти остался случай с Джоелем Райсом, капитаном шхуны «Светляк», который шел с партией кукурузы из Ричмонда, штат Виргиния, на остров Мадейра в 1825 году. Капитан совершил много плаваний без значительных происшествий; и обычно он не обращал внимания на укладку груза, разве что следил, чтобы он был закреплен как следует. До того ему не приходилось ходить с зерном, и на этот раз кукурузу просто ссыпали в трюм, загрузив его едва больше половины. Первую часть пути дул лишь свежий бриз, но когда до Мадейры оставался день ходу, налетел сильный норд-норд-ост, который заставил его лечь в дрейф. Капитан развернул шхуну в бейдевинд, оставив только фок, взятый на второй риф, и она шла, как и положено, не зачерпнув ни капли воды. К ночи шторм поутих, и хотя качка была порядочная, все же шхуна держалась хорошо до тех пор, пока тяжелый вал не опрокинул ее на правый борт. В тот же миг зерно всей своей массой с шумом сдвинулось с места и прорвало крышку главного люка. Судно тут же пошло ко дну. Это произошло на расстоянии слышимости голоса от небольшого шлюпа с Мадейры, который подобрал одного-единственного спасшегося члена команды и вышел из шторма невредимым, как вышла бы при умелом управлении и любая шлюпка-четверка.
Что до «Дельфина», то груз у него на борту был уложен кое-как, если вообще можно считать укладкой, когда чуть ли не без разбора сваливают в одну груду бочки для жира [157]Китобойные суда обычно снабжены металлическими баками для жира, и я до сих пор не знаю, почему их не было на «Дельфине». — Примеч. автора. и предметы корабельного хозяйства. Я уже говорил о том, в каком беспорядке был навален груз в трюме. Между бочками для жира, установленными на нижней палубе, и верхней палубой оставался просвет, где я мог проползти; много свободного пространства было у главного люка; и кое-где еще имелись большие промежутки между грузами. А возле самого отверстия, которое проделал в перегородке Август, я нашел место, где вполне поместилась бы бочка и где я пока с удобством расположился.
Когда мой друг благополучно пролез в свой отсек, снова натянул наручники и обвязал веревкой ноги, уже совсем рассвело. Мы успели как раз вовремя: едва он покончил с этим, как в кубрик спустился первый помощник капитана с Дирком Петерсом и коком. Разговор их касался судна с островов Мыса Верде, появления которого они ждали с часу на час. Потом кок зашел в отсек, где лежал Август, и присел у его изголовья. Я слышал каждое слово и видел каждое движение из своего убежища, ибо мой друг не вставил назад выпиленную часть доски, и я ожидал, что вот-вот негра качнет, он зацепит повешенную куртку, скрывавшую отверстие, все обнаружится, и нам, конечно, несдобровать. Фортуна, однако, была благосклонна к нам, и хотя он то и дело задевал куртку, но не настолько сильно, чтобы обнаружить лаз. Сама же куртка не качалась и не могла открыть отверстие, так как полы ее были тщательно прикреплены к перегородке. Все это время Тигр лежал в ногах у Августа и, казалось, постепенно приходил в себя; я заметил, что иногда он открывал глаза и тяжело, вздыхал.
Через несколько минут помощник капитана и кок поднялись наверх, а Дирк Петерс тотчас же подошел к Августу и сел там, где только что сидел кок. Он начал весьма дружески разговаривать с Августом, и мы заметили, что он совсем не так пьян, каким прикидывался в присутствии тех двоих. Он, не таясь, отвечал на вопросы моего друга, высказал уверенность, что его отца подобрали в море, потому что как раз перед заходом солнца в тот день, когда капитана бросили в лодке, он видел на горизонте никак не меньше пяти парусников, и вообще всячески утешал Августа, что столь же удивило меня, сколь и обрадовало. Я даже начал лелеять надежду, что с помощью Петерса мы в конце концов сумеем захватить бриг в свои руки, о чем я и сказал Августу, как только выпала возможность. Он счел это вполне вероятным, но оговорил, что в любой попытке такого рода необходимо соблюдать строжайшую осторожность, поскольку поведение полукровки могло быть следствием единственно причуды или случайного порыва, да и вообще никто не знал, действовал ли он когда-нибудь по трезвом размышлении. Через час Петерс поднялся на палубу и вернулся лишь после полудня с порядочным куском солонины и пудингом. Когда мы остались одни, я, не возвращаясь за перегородку, с удовольствием отведал того и другого. До конца дня на баке никто больше не появлялся, и под вечер я забрался к Августу в койку, где мирно проспал почти до рассвета, когда он поднял меня, услышав на палубе какое-то движение, и я как можно быстрее вернулся в свое убежище. Когда совсем рассвело, мы увидели, что Тигр почти окончательно оправился и, не обнаруживая никаких признаков водобоязни, жадно вылакал миску воды. В течение дня к нему вернулись силы и аппетит. Его странное поведение было вызвано, конечно же, тлетворной атмосферой трюма и не имело никакого отношения к бешенству. Я не мог нарадоваться тому, что решил во что бы то ни стало взять его с собой, когда мы покидали трюм. Это было 30 июня, на тринадцатый день с момента нашего отплытия из Нантакета.
Второго июля в кубрик спустился помощник капитана, по обыкновению пьяный и в чрезвычайно хорошем настроении. Он подошел к Августу и, фамильярно хлопнув его по плечу, спросил, будет ли он послушным, если ему предоставят свободу, и обещает ли он не заходить в кают-компанию. Мой друг, разумеется, сказал «да», и тогда негодяй, вытащив из кармана флягу, угостил его ромом, снял наручники и веревку. Они поднялись на палубу, и часа три Август не возвращался. Затем он вернулся с хорошими новостями: ему разрешили свободно ходить по всей передней части судна вплоть до грот-мачты, а спать приказали, как и прежде, в кубрике. Кроме того, он принес хороший обед и изрядный запас воды. Бриг держался прежнего курса, ожидая судна с островов Зеленого Мыса, и, когда вдали показался парус, все сошлись на том, что это оно и есть. Поскольку события последующих восьми дней ничем особо не примечательны и не имеют прямого отношения к моему повествованию, я изложу их в форме дневника, так как опускать их вовсе мне не хочется.
Июль, третьего дня . Август раздобыл для меня три одеяла, и я соорудил себе отличную постель в моем убежище. В течение всего дня никто, за исключением моего друга, не спускался в кубрик. Тигр расположился у переборки и все время спал, словно не вполне оправившись от последствий своей болезни. На исходе дня налетел шквал, и так неожиданно, что не успели убрать паруса и судно чуть было не опрокинулось. Ветер, однако же, сразу стих, не причинив нам никакого вреда, кроме того, что сорвал парус на фок-мачте. Весь день Дирк Петерс был чрезвычайно добр с Августом, завел с ним долгий разговор о Тихом океане и, островах, где он бывал. Он спросил, не хотел ли бы Август вместе с ними отправиться в увлекательное путешествие по тем широтам, и сообщил, что команда все больше склоняется на сторону помощника капитана. Август благоразумно ответил, что будет рад участвовать в плавании, поскольку ничего другого не оставалось и любое предложение было предпочтительнее пиратской жизни.
Июль, четвертого дня . Судно, увиденное на горизонте, оказалось небольшим бригом из Ливерпуля, и ему дали возможность беспрепятственно проследовать своим курсом. Большую часть времени Август проводил на палубе, по мере сил стараясь разузнать планы бунтовщиков. Среди них то и дело вспыхивали бурные ссоры, и во время одной из них сбросили за борт гарпунщика Джима Боннера. Число сторонников помощника капитана растет. Джим Боннер принадлежал к партии кока, к которой примыкает и Петерс.
Июль, пятого дня . На рассвете с запада подул сильный бриз, который после полудня перешел в штормовой ветер, так что пришлось убрать все паруса, кроме триселя и фока. Во время маневра сорвался с мачты матрос Симмс, входивший в группу кока, и, будучи сильно пьяным, утонул, причем никто даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Теперь на борту, вместе с Августом и мною, насчитывается тринадцать человек, а именно: в числе сторонников чернокожего кока Сеймура, кроме него самого, — Дирк Петерс, Джонс, Грили, Хартман Роджерс и Уильям Аллеи; в группу помощника капитана — я так и не узнал его имени — входит он сам, Авессалом Хикс, Уилсон, Джон Хант и Ричард Паркер.
Июль, шестого дня . Весь день штормило, то и дело налетали шквалы с дождем. Сквозь пазы в трюм набралось порядочно воды, которую безостановочно откачивали одним насосом, причем Августа тоже заставили работать у рукоятки. Как только спустились сумерки, совсем близко от нас прошел большой корабль, — его увидели лишь тогда, когда он был на расстоянии слышимости голоса. Очевидно, это было то самое судно, которое поджидали бунтовщики. Помощник капитана окликнул проходящих мимо, но ответ потонул в реве ветра. В одиннадцать часов волна накрыла среднюю часть судна, смыла большую часть левого фальшборта и нанесла кое-какие мелкие повреждения. К утру распогодилось, и на рассвете ветер почти стих.
Июль, седьмого дня . Весь день на море было сильное волнение, наш легкий бриг изрядно качало, и я слышал из своего убежища, что многие предметы в трюме сорвались со своих мест. Меня мучила морская болезнь. Петерс долго беседовал с Августом, сообщив, что двое из его группы, Грили и Аллен, переметнулись на сторону помощника капитана и решили сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, смысл которых мой друг в тот момент не вполне уловил. Вечером судно дало течь, с которой мы никак не могли справиться, так как она была вызвана большими напряжениями в корпусе и просачиванием воды сквозь швы. Пришлось отрезать кусок парусины и подвести его под нос; в какой-то мере это помогло, и течь уменьшилась.
Июль, восьмого дня . На восходе солнца, когда с востока поднялся легкий бриз, помощник капитана, осуществляя свои пиратские планы, взял курс на юго-запад, намереваясь достичь какого-нибудь острова в Вест-Индии. Ни Петерс, ни кок, насколько удалось узнать Августу, не стали противиться. От мысли захватить корабль, идущий с островов Зеленого Мыса, отказались. Насос свободно откачивал воду, проникавшую в щели, если мы, работая поочередно, отдыхали пятнадцать минут каждый час. Парус из-под носовой части за ненадобностью подняли.
На протяжении дня обменялись приветствиями с двумя небольшими встречными шхунами.
Июль, девятого дня . Погода чудесная. Матросы заняты починкой фальшборта. У Петерса снова был обстоятельный разговор с Августом, причем высказывался полукровка с большей прямотой, чем прежде. Он заявил, что ни под каким видом не разделяет намерений помощника капитана, и даже намекнул, что собирается взять у него власть. Он спросил, может ли он при таком обороте дел рассчитывать на помощь моего друга, на что тот без малейших колебаний ответствовал «да!». Пообещав осторожно выспросить мнение своих сторонников на этот счет, Петерс ушел. В тот день Августу больше не выпал случай поговорить с ним наедине.
ГЛАВА VII
Июль, десятого дня . Окликнули бриг, идущий из Рио-де-Жанейро в Норфолк. На море небольшой туман, с востока дует легкий встречный ветер. Сегодня умер Хартман Роджерс, которого восьмого числа после стакана грога схватили судороги. Роджерс был сторонником кока, причем именно на него Петерс полагался более всего. Он поделился с Августом подозрением, что помощник капитана отравил беднягу и что вскорости придет и его черед, если он не будет настороже. Теперь в его группе оставались только он, Джонс и кок, тогда как в другой группе было пятеро. Он заговорил было с Джонсоном о возможности отстранить помощника от командования судном, но, поскольку план был встречен холодно, не стал распространяться на эту тему и, уж конечно, не обратился к коку. Хорошо, что он был так благоразумен, ибо после полудня кок объявил о решении примкнуть к группе помощника и окончательно взял его сторону, а Джонс, поссорившись из-за чего-то с Петерсом, в пылу пригрозил, что расскажет о его намерениях помощнику. Теперь мы не могли терять ни часа, и Петерс решительно предложил во что бы то ни стало попытаться захватить судно, если, конечно, Август поддержит его. Мой друг тут же заверил его, что ради этого готов участвовать в любом предприятии, и, посчитав, что настал удобный момент, сообщил о моем пребывании на судне. Полукровка скорее был обрадован, нежели удивлен этим открытием, потому что совершенно не полагался на Джонса, которого считал уже сторонником помощника капитана. Они сразу сошли вниз. Август позвал меня и познакомил с Петерсом. Мы решили, что, не посвящая Джонса в наши замыслы, попытаемся при первой возможности захватить судно. В случае успеха мы направимся в ближайший порт и сдадим бриг властям. Измена сторонников Петерса нарушила его планы отправиться в Тихий океан, поскольку это путешествие невозможно предпринять без команды, и он рассчитывал либо на оправдание в суде по причине невменяемости (которое, как клятвенно утверждал, и побудило его примкнуть к бунтовщикам), либо, если его все-таки сочтут виновным, на прощение, надеясь на наше с Августом ходатайство. Наши переговоры были прерваны командой: «Все наверх, паруса убрать!» — и Август с Петерсом выскочили на палубу.
Команда, по обыкновению, была почти вся пьяна, и прежде чем успели как следует убрать паруса, бешеный шквал опрокинул бриг набок. Затем, однако, судно выпрямилось, хотя и зачерпнув немало воды. Едва на борту привели все в порядок, как обрушился еще один шквал и за ним тут же еще, не причинив, правда, никакого вреда. Похоже было, что надвигается буря, которая и в самом деле скоро налетела с яростной силой с севера и запада. Паруса были прилажены наилучшим образом, и судно легло, как положено, в дрейф под глухо зарифленным фоком. По мере приближения ночи ветер еще более усилился, вызвав огромную волну. Петерс с Августом пришли на бак, и мы возобновили наши переговоры.
Мы решили, что настал самый удобный момент осуществить наши планы, потому что сейчас никому не придет в голову ожидать нападения. Бриг уверенно лежал в дрейфе, и до наступления хорошей погоды не возникнет необходимости маневрирования, а затем, если наша попытка увенчается успехом, мы могли бы освободить одного-двух матросов и с их помощью добраться до суши. Главное затруднение заключалось в большой несоразмерности сил. Нас было только трое, тогда как в кают-компании — девять человек. Все оружие на судне также находилось в их расположении, за исключением пары небольших пистолетов, которые Петерс спрятал на себе, да огромного морского тесака, который он носил на поясе. Кроме того, судя по некоторым признакам, таким, например, как отсутствие на обычных местах топора или гандшпуга, мы имели основание опасаться, что помощник капитана питал кое-какие подозрения, по крайней мере по отношению к Петерсу, и он не упустит возможности так или иначе отделаться от него. Словом, наше решение не должно быть чересчур поспешным. Шансы были слишком неравны, так что мы не могли приступить к осуществлению наших планов, не соблюдая величайшей осторожности.
Петерс предложил следующее: он выйдет на палубу, вступит в разговор с вахтенным, Алленом, и, улучив момент, без особого труда и не вызывая переполоха, сбросит его за борт; после наверх поднимаемся мы, чтобы раздобыть на палубе какое-нибудь оружие, а затем мы все трое блокируем дверь кают-компании, прежде чем нам окажут сопротивление. Я возражал против этого предложения, ибо не допускал мысли, что помощник, человек весьма хитроумный во всем, что касалось его нелепых суеверий, так легко попадется в ловушку. То обстоятельство, что на палубе вообще был вахтенный, само по себе убедительно свидетельствовало, что он настороже, поскольку обычно во время штормового дрейфа вахтенного на палубе не ставят, если, конечно, не иметь в виду суда, где соблюдается поистине железная дисциплина. Так как мой рассказ адресован преимущественно, если не полностью, людям, которые никогда не ходили в море, очевидно, полезно описать, что происходит с судном при таких условиях. Ложатся в дрейф — или, как говорят моряки, «дрейфуют» — для разных надобностей, и осуществляется это разными способами. В умеренную погоду в дрейф ложатся часто только для того, чтобы остановить судно или дождаться другого судна или чего-нибудь в этом роде. Если при этом судно несет все паруса, то часть их поворачивают другой стороной, то есть обстенивают, и судно останавливается. Но сейчас речь идет о необходимости лечь в дрейф во время шторма. Это делается при сильном противном ветре, когда нельзя поднять паруса без риска опрокинуться, а иногда даже при нормальном ветре, когда волнение слишком велико, чтобы идти по ветру. Если идти по ветру при тяжелой волне, то на судне неизбежны повреждения из-за того, что валы захлестывают корму, а нос глубоко зарывается в воду. К этому маневру прибегают лишь в случаях крайней необходимости. Когда судно дало течь, то его, напротив, часто пускают по ветру, даже при большой волне, ибо при дрейфе корпус испытывает такое давление, что пазы расходятся еще больше. Кроме того, необходимость поставить судно на фордевинд нередко возникает в тех случаях, когда порывы ветра настолько сильны, что рвут в клочья парус, поставленный для поворота против ветра, или когда нельзя совершить этот важнейший маневр из-за огрехов при постройке судна и по каким-нибудь иным причинам.
Суда ложатся в дрейф по-разному, в зависимости от конструкции. Некоторые лучше всего осуществляют этот маневр под фоком, и, на мой взгляд, этим парусом чаще всего и пользуются. Большие суда с прямым парусным вооружением имеют для этой цели особые паруса — штормовые стаксели. В зависимости от обстоятельств ставят только кливер, иногда кливер и фок или фок, взятый на два рифа, а нередко и кормовые паруса. Иные считают, что наилучшим образом подходят для дрейфа фор-марселя. «Дельфин» обычно ложился в дрейф под глухо зарифленным фоком.
Когда судно ложится в дрейф, то нос его приводят к ветру лишь настолько, чтобы парус, под которым совершается маневр, забрал ветер, затем его обстенивают, то есть ставят диагонально к ветру. После этого нос ставится в нескольких градусах от направления, откуда дует ветер, и наветренная скула судна принимает на себя главный напор волн. В таком положении хорошее судно благополучно выдержит любой шторм, не зачерпнув ни капли воды и не требуя дальнейших усилий команды. Руль в таких случаях обычно закрепляют, хотя это не обязательно (если не обращать внимания на шум, который он производит в свободном состоянии), ибо никакого влияния на судно, лежащее в дрейфе, он не оказывает. Лучше даже вообще не крепить штурвал, дабы руль имел возможность «играть», и тогда его не сорвет под ударами сильных волн. И пока парус держит, хорошо рассчитанное судно, как живое разумное существо, сохранит устойчивость при любом шторме. Опасность возникает лишь в том случае, если ветер все же разорвет парус на куски (что в нормальных условиях может произойти при настоящем урагане). Тогда судно отваливает от ветра и, встав бортом к волнам, оказывается во власти стихии, и единственный выход — потихоньку развернуть судно на фордевинд и тем временем поставить дополнительный парус. Некоторые суда могут лежать в дрейфе вообще без парусов, но полагаться на такие суда в море не следует.
Вернемся, однако, к нашему рассказу.
Итак, помощник капитана не имел обыкновения ставить на палубу вахтенного во время штормового дрейфа, и отступление от этого правила, в совокупности с фактом исчезновения топоров и гандшпугов, убеждало, что бунтовщики были настороже и нам не удастся захватить их врасплох, как предлагал Петерс. И все же что-то надо было предпринимать, причем не откладывая: коль скоро, против Петерса возникло подозрение, то с ним не замедлят расправиться при первом же удобном случае, а такой наверняка найдут, как только стихнет шторм.
Август высказал предположение, что если бы Петерсу удалось под каким-нибудь благовидным предлогом сдвинуть якорную цепь с крышки люка в кают-компании, то мы могли бы через трюм проникнуть внутрь и неожиданно напасть на противника; однако, подумав, мы пришли к убеждению, что при сильной качке попытка такого рода обречена на неудачу.
Наконец, мне по счастью пришла в голову мысль сыграть на предрассудках и нечистой совести помощника капитана. Напомню, что два дня назад одного из матросов, Хартмана Роджерса, схватили судороги — это случилось после того, как он выпил стакан грога, — и нынче утром он умер. Петерс уверял, что Роджерса отравил помощник капитана и что у него есть на этот счет неопровержимые доказательства, которые он, однако, несмотря на уговоры, отказался сообщить нам; впрочем, этот своенравный отказ вполне соответствовал особенностям его характера. Трудно сказать, имел он действительно основания подозревать помощника капитана или нет, но мы с готовностью присоединились к его мнению и решили действовать соответствующим образом.
Роджерс скончался в страшных мучениях около одиннадцати часов утра, и через несколько минут после смерти труп его являл такое ужасное и отвратительное зрелище, какого я, пожалуй, вообще никогда не видел. Живот у него вздулся, как у утопленника, несколько недель пробывшего в воде. На руки тоже было страшно смотреть, а уменьшившееся в размерах, сморщившееся лицо было бело, как мел, и поэтому особенно выделялись на нем два или три багрово-красных пятна, подобные тем, какие бывают при рожистом воспалении; одно из них тянулось наискось по всему лицу, полностью прикрыв глаз точно повязкой из темно-красного бархата. В таком состоянии в полдень труп вынесли на палубу, чтобы выбросить за борт, однако тут он попался на глаза помощнику капитана (он увидел мертвого Роджерса в первый раз), и тот, либо почувствовав угрызения совести, либо подавленный ужасом от такого страшного зрелища, приказал зашить тело в парусиновую койку и совершить обычный ритуал погребения в море. Отдав распоряжения, он спустился вниз, словно желая избежать вида своей жертвы. Пока матросы делали то, что им было приказано, налетел яростный шторм, и они отложили погребение. Брошенный труп смыло к шпигатам у левого борта, где он и провалялся до того времени, о котором я говорю, перекатываясь с места на место при каждом сильном крене.
Договорившись, как действовать, мы, не теряя времени, принялись за осуществление нашего плана. Петерс вышел на палубу, где его, как мы и ожидали, остановил Аллен, которого, по всей очевидности, и поставили здесь, единственно, чтобы следить за тем, что происходит на полубаке. Судьба негодяя решилась мгновенно и безо всякого шума: беспечно, словно бы в намерении поболтать, приблизившись к Аллену, Петерс схватил его за горло и, прежде чем тот успел вымолвить хоть слово, перекинул за борт. Потом Петерс позвал нас с Августом, и мы присоединились к нему. Первейшей нашей заботой было чем-нибудь вооружиться, хотя действовать приходилось с величайшей осмотрительностью, ибо, не ухватившись за что-нибудь, на палубе нельзя было находиться и секунды, а всякий раз, когда нос судна зарывался в воду, по палубе перекатывались огромные волны. Кроме того, мы должны были спешить, ибо каждую минуту сюда мог подняться помощник капитана и поставить людей к помпам, поскольку бриг, должно быть, быстро набирал воду. После тщательных поисков мы, однако, не смогли обнаружить ничего более подходящего, чем две рукоятки от помпы. Одной рукояткой вооружился Август, другой — я, после чего мы сорвали с Роджерса рубашку, а труп столкнули в воду. Затем мы с Петерсом сошли вниз, а Август встал на страже на том самом месте, где находился Аллен, повернувшись спиной к трапу, ведущему в кают-компанию, и, если кто-нибудь из бандитов поднялся бы на палубу, он легко принял бы его за вахтенного.
Оказавшись в каюте, я стал преображаться в мертвого Роджерса. Весьма помогла в этом рубашка, снятая с трупа, так как это была какого-то особого покроя, ни на что не похожая блуза из синей трикотажной ткани с широкими поперечными белыми полосами, которую погибший носил поверх другой одежды. Облачившись в нее, я засунул под низ простыню и таким образом соорудил себе фальшивый живот, вполне смахивающий на отвратительное вздутие трупа. Распухшие конечности я сделал, натянув на руки пару белых шерстяных перчаток и набив их случайно валявшимся здесь тряпьем. Затем Петерс натер мне лицо мелом и намазал кровью, взятой из пореза на пальце. Кровавая полоса, закрывавшая глаз, довершала грим и придавала мне ужасающий вид.
ГЛАВА VIII
При тусклом свете переносного фонаря я посмотрел на себя в осколок зеркала, висевший в каюте, и почувствовал такой страх при виде своей внешности и воспоминании об ужасном покойнике, которого я изображал, что меня стала бить дрожь, в голове помутилось, и я едва мог собраться с силами, чтобы сыграть свою роль. Обстоятельства, однако, требовали решительных действий, и мы с Петерсом вышли на палубу.
Наверху все было спокойно, и, держась ближе к борту, мы втроем прокрались к кают-компании. Дверь была чуть приоткрыта, и на ступеньке под нее были подложены деревянные чурбаки, которые не позволяли закрыть ее плотно. Сквозь щели у дверных петель мы имели полную возможность увидеть все, что делается внутри. Какое счастье, что мы отказались от мысли напасть на бунтовщиков врасплох, ибо они были, по всей видимости, настороже. Лишь один спал внизу у сходного трапа, держа подле себя ружье. Остальные же, сидя на матрацах, принесенных из других кают и разбросанных по палубе, о чем-то серьезно совещались. Пара пустых кувшинов и оловянные кружки, раскиданные то тут, то там, свидетельствовали о том, что негодяи только что отпировали, хотя и не были пьяны, как обычно. Все были вооружены ножами, кое у кого торчали за поясом пистолеты, а совсем рядом в парусиновой койке лежало множество ружей.
Мы напряженно вслушивались в их разговор, прежде чем окончательно решить, как действовать, договорившись заранее лишь о том, что при нападении на бунтовщиков попытаемся напугать их призраком Роджерса. Они обсуждали сейчас свои разбойничьи планы, и мы отчетливо услышали лишь то, что они намереваются соединиться с командой какой-то шхуны «Шершень», а если удастся, то захватить и шхуну, дабы впоследствии предпринять какую-то крупную авантюру, подробности которой никто из нас не разобрал.
Кто-то заговорил о Петерсе, помощник капитана ответил ему, но мы не расслышали, что именно, а потом он добавил громче, что «никак не возьмет в толк, зачем Петерс нянчится с этим капитановым отродьем на баке, и чем скорее оба окажутся за бортом, тем лучше». Слова эти были встречены молчанием, но нетрудно было понять, что их выслушали с готовностью все присутствующие, и особенно Джонс. Я был взволнован до крайности, тем более что ни Август, ни Петерс, насколько я мог заметить, не знали, что делать. Что до меня, то я решил не поддаваться минутной слабости и отдать свою жизнь как можно дороже.
Вой ветра в снастях и грохот волн, перекатывающихся через палубу, заглушал голоса, и мы слышали, о чем шла речь в салоне, лишь в моменты кратковременного затишья. Один раз нам удалось разобрать, как помощник капитана приказал кому-то пойти на бак и приказать «этим паршивым салагам пожаловать сюда, где за ними можно приглядывать, ибо он не потерпит никаких темных дел на борту». К нашей удаче, яростная качка помешала выполнить распоряжение в ту же минуту. Едва кок поднялся с места, чтобы пойти за нами, как судно внезапно накренилось, причем так резко, что я подумал, выдержат ли мачты, и его швырнуло и стукнуло прямо головой в какую-то дверь напротив, так что та распахнулась, и вообще поднялась суматоха. К счастью, нам троим удалось удержаться на месте, и у нас оставалось еще время, чтобы стремительно отступить к баку и поспешно разработать план дальнейших действий до того, как кок появился наверху, или, точнее, высунулся из люка, поскольку на палубу он так и не вышел. Со своего места он не мог заметить отсутствия Аллена и потому крикнул ему о приказе помощника капитана. «Есть!» — ответил Петерс, изменив голос, и кок тут же спустился вниз, не заподозрив неладное.
Оба моих товарища смело отправились вперед и сошли по трапу в кают-компанию, причем Петерс прикрыл за собой дверь точно так же, как она была. Помощник капитана встретил их с наигранным равнодушием и разрешил Августу, ввиду его хорошего поведения последнее время, располагаться в салоне и вообще считать себя в будущем членом экипажа. Он налил ему полкружки рому и заставил выпить. Все это я преотлично видел и слышал, так как проследовал за своими друзьями, едва за ними закрылась дверь, и снова занял свой прежний наблюдательный пункт. Я захватил с собой обе рукоятки от помп и одну из них спрятал у сходного трапа, чтобы пустить в дело при первой же надобности.
Сохраняя, поелику возможно, равновесие, чтобы хорошо видеть все, что происходит внутри, я старался собраться с духом, готовясь появиться перед бунтовщиками, как только Петерс подаст условленный знак. Вскоре ему удалось перевести разговор на кровопролитие во время мятежа, и постепенно речь зашла о всяческих суевериях, которые повсеместно бытуют среди матросов. Я не слышал всего, что говорилось, но хорошо видел, как действует эта тема на присутствующих. Помощнику капитана было явно не по себе, и, когда кто-то сказал, как ужасно выглядел труп Роджерса, я подумал, что с ним вот-вот случится обморок. Петерс спросил его, не лучше ли было бы сбросить труп в море, потому что страшно смотреть, как он перекатывается с места на место. При этих словах у негодяя перехватило дыхание, и он медленно обвел взглядом своих сообщников, словно умоляя, чтобы кто-нибудь вызвался сделать это. Никто, однако, не шевельнулся, и было очевидно, что вся банда доведена до крайней степени нервного возбуждения. И вот тут-то Петерс подал мне знак. Я распахнул настежь дверь в кают-компанию, без единого звука сошел вниз и, выпрямившись, застыл посреди сборища.
Если принять во внимание совокупность многочисленных обстоятельств, не удивителен тот необыкновенный эффект, какой был вызван этим неожиданным появлением. Обычно в случаях подобного рода в воображении зрителя остается какое-то сомнение в реальности возникшего перед ним видения, какая-то, пусть самая слабая, надежда на то, что он — жертва обмана и призрак отнюдь не пришелец из мира теней. Не будет преувеличением сказать, что такие крупицы сомнения и служат причиной всяческих наваждений, что возникающий при этом страх, даже в случаях наиболее очевидных и вызывающих наибольшие терзания, должно отнести скорее за счет ужасного опасения, как бы видение и в самом деле не оказалось реальностью, нежели непоколебимой веры в его реальность. Однако в данном случае в воспаленных умах бунтовщиков не было и тени сомнения в том, что явившаяся фигура — это действительно оживший омерзительный труп Роджерса или по крайней мере его бесплотный образ. Совершенно обособленное местоположение брига и абсолютная его недоступность в такой шторм ограничили возможности обмана до таких узких и определенных пределов, что они могли мгновенно окинуть их мысленным взглядом. Двадцать четыре дня они находились в открытом море, не поддерживая ни с кем никакой связи, и лишь перекликались со встречными судами. Команда в полном составе, точнее все те, кто, по их твердому убеждению, находился на борту, была собрана в салоне — за исключением Аллена, стоявшего на вахте, однако он там выделялся своим гигантским ростом (шесть футов и шесть дюймов), что они ни на секунду не могли предположить, будто он и есть явившийся им призрак. Добавьте к этим соображениям бурю, вызывающую благоговейный трепет, разговоры, начатые Петерсом, отвратительный труп, который произвел утром такое отталкивающее впечатление, отлично сыгранную мною роль призрака, тусклый, неверный свет от раскачивающегося взад и вперед фонаря, который то освещал меня, то оставлял во мраке, добавьте все это, и тогда не придется удивляться, что наша хитрость возымела даже большее действие, нежели мы рассчитывали. Помощник капитана вскочил было с матраца, на котором лежал, но тут же, не проронив ни звука, упал замертво на ходившую ходуном палубу, и тело его, точно бревно, откатилось к левой переборке. Из оставшихся семи человек только трое в какой-то степени сохранили присутствие духа. Другие четверо на время точно приросли к полу — я ни разу не видел таких жалких жертв безрассудного страха. И лишь со стороны кока, Джона Ханта и Ричарда Паркера мы встретили сопротивление, да и они из-за растерянности могли только кое-как защищаться. Первых двух Петерс застрелил на месте, а я свалил Паркера, ударив его по голове прихваченной с собой рукояткой. Тем временем Август схватил с пола ружье и выстрелил другому бунтовщику (по фамилии Уилсон) прямо в грудь. Теперь их оставалось только трое, но к этому моменту они очнулись и, наверное, догадывались, какую злую шутку с ними сыграли, ибо сражались с такой отчаянной решимостью, что в конце концов могли бы и одолеть нас, если бы не огромная физическая сила Петерса. Эти трое были Джонс, Грили и Авессалом Хикс. Джонс опрокинул Августа на пол, ударив несколько раз ножом в правую руку и наверняка скоро прикончил бы его (поскольку ни я, ни Петерс не могли в эту минуту освободиться от своих собственных противников), если бы не своевременная помощь друга, на которого мы, разумеется, никак не рассчитывали. Этим другом оказался не кто иной как Тигр. В самый критический для Августа момент он с глухим ворчаньем ворвался в кают-компанию и, кинувшись на Джонса, в один миг свалил его на пол. Август, однако, не мог снова вступить в схватку из-за ранений, а мне так мешало мое одеяние, что я едва поворачивался. Тигр вцепился Джонсу в горло и не отпускал. Впрочем, Петерс был гораздо сильнее тех двоих и давно покончил бы с ними, если бы не теснота помещения и мощные толчки от качки. Вскоре ему удалось схватить тяжелый табурет — из тех, что валялись в каюте, — и он размозжил Грили голову как раз в тот момент, когда тот собирался выстрелить в меня из ружья, после чего судно резко накренилось — и его швырнуло на Хикса, которого он тут же задушил голыми руками. Итак, мы завладели бригом, и нам потребовалось меньше времени, чем мне сейчас рассказывать об этом.
Из наших соперников остался в живых только Ричард Паркер, тот самый, которого в самом начале боя я свалил ударом рукоятки от насоса. Он лежал неподвижно у двери каюты, но, когда Петерс толкнул его ногой, очнулся и запросил пощады. Его просто оглушило ударом, и, если не считать небольшой раны на голове, он был цел и невредим. Мы заставили Паркера встать и на всякий случай связали ему за спиной руки. Тигр по-прежнему глухо ворчал над лежащим Джонсом, но, присмотревшись, мы увидели струящуюся кровь и глубокую рану на горле от острых клыков животного, — он был мертв.
Было около часу ночи, ветер не стихал. Шторм изрядно потрепал наш бриг, и надо было что-то предпринять, чтобы облегчить ему борьбу со стихией. Всякий раз, когда судно кренилось в подветренную сторону, волны захлестывали палубу, и вода проникла даже в салон, потому что, спускаясь, я не задраил люк. Весь фальшборт с левой стороны снесло начисто, равно как и камбуз, и рабочую шлюпку с кормового подзора. Грот-мачта так скрипела и ходила, что, казалось, вот-вот даст трещину. Чтобы выгадать в трюме место под груз (что иногда практикуется невежественными и своекорыстными корабельщиками), шпор грот-мачты на «Дельфине» был укреплен между палубами, и теперь возникла опасность, что сильным шквалом его вырвет из степса. Однако верхом наших бед оказались семь футов воды в трюме.
Мы оставили трупы как есть в кают-компании и принялись усиленно откачивать помпами воду, предварительно развязав, разумеется, руки Паркеру, чтобы он принял участие в работе. Хотя рана у Августа была тщательнейшим образом перевязана и он делал, что мог, помощь от него была небольшая. Тем не менее мы убедились, что, если постоянно качать хоть одну помпу, то вода не пребывает. Поскольку нас осталось только четверо, это было нелегким делом, но мы не падали духом и считали минуты, когда рассветет и мы облегчим бриг, срубив грот-мачту.
Так прошла ночь, полная тревоги и изнурительного труда, но и на рассвете шторм не стих и вообще ничто не предвещало перемены погоды к лучшему. Мы вытащили трупы из кают-компании и сбросили их в море. Теперь надо было избавиться от грот-мачты. Сделав все необходимое, Петерс стал рубить мачту (топоры мы нашли в кают-компании), а мы стояли наготове у штагов и вант. В нужный момент, когда бриг сильно накренился в подветренную сторону, он крикнул, чтобы мы рубили наветренные ванты, и вся эта масса дерева и такелажа рухнула в воду, почти не задев бриг. Судно приобрело большую устойчивость, хотя наше положение оставалось весьма ненадежным, так как, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать прибывающую воду одной помпой. Август же не мог работать в полную силу. На нашу беду, в наветренный борт ударил тяжелый вал, сдвинув судно на несколько румбов, и, прежде чем оно вернулось в прежнее положение, другая волна повалила его набок. Балласт всей своей массой переместился к подветренному борту (груз еще раньше сорвало с места), и мы уже ждали, что «Дельфин» вот-вот опрокинется. Вскоре мы немного выровнялись, но, поскольку балласт оставался у левого борта, все же крен был довольно значительный, так что откачивать воду не имело никакого смысла, да мы и не смогли бы это делать, потому что выбились из сил и так натрудили руки, что они буквально кровоточили.
Хотя Паркер пытался отговорить нас, мы принялись рубить фок-мачту. Из-за большого крена дело подвигалось медленно. Падая в воду, она снесла бушприт, и от нашего «Дельфина» остался только корпус.
До сих пор мы тешили себя надеждой, что на худой конец спасемся на баркасе, который чудом не получил никаких повреждений. Наша успокоенность, однако, была преждевременной, ибо, как только мы лишились фок-мачты и фока, который удерживал бриг в относительной устойчивости, волны, не перекатываясь, начали разбиваться прямо на корабле, и через пять минут они гуляли по всей палубе от носа до кормы, сорвав и баркас, и правый фальшборт, и даже разбив вдребезги брашпиль. Более критическое положение трудно было себе представить.
В полдень шторм начал как будто понемногу стихать, но, к величайшему нашему разочарованию, затишье длилось всего несколько минут, после чего ветер подул с удвоенной силой. Около четырех часов пополудни его яростные порывы уже валили с ног, а когда спустилась ночь, у меня не оставалось ни проблеска надежды на то, что мы продержимся до утра.
К полночи «Дельфин» погрузился настолько, что вода доходила до нижней палубы. Потом мы потеряли руль, причем сорвавшая его волна необыкновенно высоко вскинула корму, и она опустилась на воду с таким ударом, какой бывает, когда судно выкидывает на берег. Мы рассчитывали, что руль выдержит любой шторм, потому что ни до, ни после мне не приходилось видеть такой прочной конструкции. Сверху вниз вдоль его главного бруса шел ряд массивных металлических скоб; таким же манером подобные скобы были установлены на ахтерштевне. Сквозь оба ряда скоб был продет толстый кованый стержень, на котором поворачивался руль. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить по тому, что скобы, концы которых были прошиты сквозь тело ахтерштевня и загнуты изнутри, все как одна оказались вырванными из твердой древесины.
Едва мы перевели дух от этого удара, как нас накрыл гигантский, невиданный мною до того вал — он начисто снес сходный трап, сорвал крышки от люков, заполнил водой каждую щель.
ГЛАВА IX
К счастью, как раз перед наступлением темноты мы крепко привязали себя к разбитому брашпилю и лежали на палубе плашмя. Только это и спасло нас от неминуемой гибели. Как бы то ни было, каждый из нас был в той или иной степени оглушен чудовищной волной, которая всем своим весом обрушилась на нас, так что мы едва не захлебнулись. Переведя дух, я окликнул моих товарищей. Отозвался один Август. «Все кончено, да пощадит Господь наши души!» — пробормотал он. Потом очнулись Петерс и Паркер; оба призывали мужаться и не терять надежды: груз наш был такого рода, что бриг ни за что не затонет, а буря к утру, возможно, стихнет. Услышав это, я воодушевился: будучи в крайнем смятении, я, как ни странно, совершенно упустил из виду, что судно, загруженное пустыми бочками для китового жира, не может пойти ко дну, а именно этого я более всего опасался последние часы. Во мне снова ожила надежда, и я использовал каждый удобный момент, чтобы еще крепче привязать себя веревками к брашпилю — тем же самым вскоре занялись и мои товарищи. Кромешная тьма и адский грохот вокруг не поддаются описанию. Палуба находилась вровень с поверхностью моря, вернее, с вздымающимися гребнями пены, то и дело захлестывающей нас. Без всякого преувеличения скажу, что едва ли одну секунду из трех мы не были погружены с головой в воду. Хотя мы лежали совсем рядом, ни один из нас не видел другого, как не видел вообще ничего на судне, которое швыряло, как скорлупку. По временам мы перекликались, чтобы поддержать друг друга, утешить и приободрить того, кто в этом более всего нуждался.
Предметом особой нашей заботы был ослабевший Август; мы опасались, как бы его не смыло за борт, потому что из-за раненой руки он, конечно, не мог привязать себя как следует, однако помочь ему было решительно невозможно. К счастью, он лежал в самом безопасном месте: его голова и плечи были скрыты за обломками брашпиля, и набегающие волны, разбиваясь о него, значительно теряли в силе. Не будь Август под прикрытием брашпиля (куда его прибило водой после того, как он привязался на открытом месте), ему не избежать бы гибели. Вообще благодаря тому, что судно лежало на боку, мы сейчас были менее достижимы для волн, нежели при любом другом его положении. Крен, как я уже сказал, был на левый борт, так что добрая половина палубы постоянно находилась под водой. Поэтому волны, набегавшие справа, разбивались о корпус судна и накрывали нас, прижавшихся веем телом к палубе, лишь частично, а те, которые докатывались с левого борта, уже не могли причинить нам особого вреда.
Так мы провели ночь, а когда настало утро, мы воочию убедились, в каком ужасном положении находимся. Бриг превратился в обыкновенное бревно, словно пущенное по воле волн, шторм усиливался, переходя в настоящий ураган, и вообще ничто не обещало перемен к лучшему. Мы молча держались еще несколько часов, безучастно ожидая, что вот-вот лопнут наши веревки, или вконец разобьет брашпиль, или один из тех гигантских валов, что с ревом вздымались отовсюду, так глубоко погрузит судно под воду, что мы захлебнемся, прежде чем оно всплывет на поверхность. Но милость Господня избавила нас от этой участи, и около полудня нас приободрили робкие лучи благодатного солнца. Потом заметно стал стихать ветер, и Август, не подававший всю ночь никаких признаков жизни, вдруг спросил у Петерса, находившегося ближе других, есть ли, по его мнению, какая-нибудь возможность спастись. Ответа не последовало, и мы уже решили было, что полукровка захлебнулся, но затем, к великому нашему облегчению, он заговорил слабым голосом, жалуясь на невыносимую боль от веревок, врезавшихся ему в живот: надо найти способ ослабить их, либо он погибнет, ибо не в силах вынести эту адскую боль. Мы слушали его с сокрушением, но решительно ничем не могли помочь: волны окатывали нас с головы до ног. Мы убеждали его крепиться, обещая при первой же возможности облегчить его страдания. Он сказал, что будет поздно, что, пока мы сумеем оказать ему помощь, с ним будет все кончено, затем застонал и затих, из чего мы заключили, что он скончался.
Ближе к вечеру волнение улеглось, так что за целых пять минут, может быть, одна-единственная волна с наветренной стороны захлестнула палубу; отчасти ослаб и ветер, хотя несся по-прежнему с огромной скоростью. Вот уже несколько часов никто из моих товарищей по несчастью не проронил ни слова. Я решил позвать Августа. Он ответил едва слышным голосом, но я не смог ничего разобрать. Потом я обратился к Петерсу и Паркеру, однако оба молчали.
Именно вскоре после этого я впал в какое-то бесчувствие, и в моем воспаленном мозгу стали возникать удивительно приятные видения: зеленеющая роща, золотистая колыхающаяся нива, хороводы девушек, скачущие кавалькады и другие картины. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что во всех этих образах, которые проходили перед моим мысленным взором, было нечто общее, а именно — идея движения. Я не припомню, чтобы мне привиделся хоть один неподвижный предмет, такой, как дом, гора или что-нибудь в этом же роде; напротив, бесконечной чередой проносились мельницы, корабли, какие-то огромные птицы, воздушные шары, всадники, бешено мчавшиеся эклпажи и многое-многое другое, что движется. Когда я очнулся, было, судя по положению солнца, около часу дня. С огромнейшим трудом я соображал, где я и что со мной; какое-то время мне казалось, что я все еще нахожусь в трюме, около своего ящика, и что рядом со мной Тигр, а никак не Паркер.
Когда я окончательно пришел в себя, дул умеренный бриз и море было сравнительно спокойно — лишь редкая волна лениво перекатывалась через середину брига. С левой руки у меня веревка соскочила, оставив порядочную ссадину у локтя, а правая была так натерта тугой перевязью, что совершенно онемела и распухла книзу от предплечья. Другая веревка, та, которой я привязал себя у пояса, причиняла нестерпимую боль, ибо натянулась до предела. Я посмотрел на своих товарищей. Август лежал скорчившись у обломков брашпиля и не подавал признаков жизни. Петерс был жив, несмотря на то, что толстый линь поперек поясницы, казалось, перерезал его надвое, и, увидев, что я задвигался, шевельнул рукой, показывая на веревку, и спросил, хватит ли у меня сил помочь ему развязаться, и тогда мы, может быть, спасемся, а в противном случае погибнем. Я посоветовал ему мужаться, пообещав помочь ему. Нащупав в кармане своих панталон перочинный нож, я после нескольких безуспешных попыток открыл наконец лезвие. Затем левой рукой мне удалось освободить правую руку и перерезать остальные веревки. Я попытался встать, но ноги совершенно не слушались меня, правая рука тоже не действовала. Я сказал об этом Паркеру, и тот посоветовал несколько минут полежать спокойно, держась левой рукой за брашпиль, чтобы кровь снова начала циркулировать. Онемение постепенно проходило, я пошевелил одной ногой, потом другой; скоро стала частично действовать и правая рука. Не вставая на ноги, я осторожно подполз к Паркеру, перерезал веревки, и через несколько минут он тоже смог двигать конечностями. Теперь мы, не теряя времени, принялись освобождать бедного Петерса. Веревка прорвала пояс шерстяных панталон, две рубашки и так глубоко врезалась ему в поясницу, что, как только мы сняли веревку, из раны обильно потекла кровь. Несмотря на это, Петерсу тут же стало легче, он заговорил и двигался даже с меньшим трудом, чем мы с Паркером, — бесспорно, благодаря вынужденному кровопусканию.
Что до Августа, то он не подавал никаких признаков жизни, и мы почти не надеялись на благополучный исход, однако, приблизившись, убедились, что он без сознания из-за большой потери крови (повязку, которую мы сделали на раненой руке, давно сорвало водой), а веревки, которыми он привязался к брашпилю, ослабились и никак не могли быть причиной смерти. Сняв с Августа веревки и освободив от деревянных обломков брашпиля, мы перенесли его на сухое, продуваемое ветром место, опустив голову чуть пониже туловища, и принялись усиленно растирать ему конечности. Через полчаса он пришел в себя, но лишь на следующее утро стал узнавать нас и мог говорить. Пока мы возились с нашими веревками, совсем стемнело, стали собираться тучи, и нас снова взяло тревожное опасение, что разыграется шторм, и тогда уже ничто не спасет нас, выбившихся из сил, от верной гибели. К счастью, погода всю ночь держалась умеренная, и волнение заметно спадало, что опять вселило в нас надежды на спасение. Ветер по-прежнему дул с северо-запада, но было совсем не холодно. Ввиду крайней слабости Август не мог держаться сам, и мы осторожно привязали его у наветренного борта, чтобы он не скатился в воду. Что касается нас, то мы ограничились тем, что уселись поближе друг к другу и, держась за обрывки троса на брашпиле, принялись обсуждать, как бы нам выбраться из нынешнего ужасного положения. Кому-то пришла счастливая мысль снять одежду и выжать ее. Обсохнувшая одежда казалась теплой, приятной и придала нам бодрости. Помогли мы раздеться и Августу, сами выжали ему одежду, и он тоже почувствовал облегчение.
Теперь нас более всего мучили голод и жажда; мы боялись подумать о том, что ожидает нас в этом смысле, и даже сожалели, что избежали менее ужасной смерти в морской пучине. Правда, мы утешались мыслью, что нас подберет какое-нибудь судно, и призывали друг друга мужественно встретить испытания, которые могли еще выпасть на нашу долю.
Наконец настало утро четырнадцатого числа; погода была все такая же ясная и теплая, с северо-запада дул устойчивый, но легкий бриз. Море совсем успокоилось, бриг непонятно почему немного выровнялся, на палубе было сравнительно сухо, и мы могли свободно по ней передвигаться. Чувствовали мы себя лучше, чем минувшие три дня и три ночи, которые провели без пищи и воды, и сейчас надо было во что бы то ни стало раздобыть съестного. Поскольку трюмы и каюты были затоплены, мы принимались за дело без особой охоты, почти не рассчитывая достать что-нибудь снизу. Надергав гвоздей из обломков крышки от люка и вколотив их в две доски, связанные крест-накрест, мы соорудили нечто вроде драги и спустили ее на веревке через люк в кают-компанию. Волоча доски взад и вперед, мы пытались зацепить что-нибудь съедобное или какой-нибудь предмет, с помощью которого мы могли бы добыть пищу. Мы занимались этим почти все утро, выудив лишь кое-какое постельное белье, которое легко цеплялось за гвозди. Нет, наше приспособление было слишком примитивно, чтобы всерьез рассчитывать на успех.
Потом мы попробовали нашу драгу в люке на баке, но тоже напрасно, и совсем уже было отчаялись, когда Петерс сказал, что если мы будем держать его за веревку, он попытается достать что-нибудь из кают-компании, нырнув в воду. Предложение было встречено с таким восторгом, какой могла вызвать только ожившая надежда. Он немедленно разделся, оставив на себе лишь панталоны, а мы тщательно закрепили у него на поясе прочную веревку, обвязав его через плечо, чтобы она не соскочила. Затея эта была крайне трудной и опасной: поскольку в самой кают-компании вряд ли чем существенным можно было разжиться, Петерсу нужно было нырнуть вниз, взять вправо, проплыть под водой десять-двенадцать футов, попасть в узкий проход, ведущий в кладовую, а затем вернуться назад.
Когда все было готово, Петерс спустился по сходному трапу, так что вода доходила ему до подбородка, и нырнул головой вперед, стараясь брать вправо, к кладовой. Первая попытка оказалась неудачной. Не прошло и полминуты, как веревка дернулась (мы условились, что этим он даст знать, когда его вытаскивать). Мы тут же стали выбирать веревку, по неосторожности сильно ударив Петерса о трап. Как бы то ни было, вернулся он с пустыми руками, не сумев проникнуть в проход и до половины, так как все его силы ушли на то, чтобы держаться на глубине, не дав воде вытолкнуть его на поверхность, к палубному настилу. Выбрался он весь измученный и вынужден был с четверть часа отдыхать, прежде чем отважился нырнуть снова.
Вторая попытка была еще более неудачной. Он так долго оставался под водой, не подавая знака, что, вконец встревоженные, мы стали вытаскивать его, успев в самый последний момент, — оказалось, что он несколько раз дергал веревку, а она, очевидно, запуталась за поручни в нижней части трапа, и мы ничего не чувствовали. Эти поручни на самом деле так мешали, что прежде чем продолжать нашу работу, мы решили сломать их. Нам не на что было рассчитывать, кроме собственных мускулов, и потому, спустившись как можно глубже по трапу в воду, мы все вчетвером налегли на них разом и обрушили вниз.
Третья попытка, как и первые две, также не принесла успеха, и мы поняли, что ничего не добьемся, если не раздобудем какой-нибудь груз, который удерживал бы ныряльщика у самой палубы, пока тот занят поисками. Мы долго не могли найти ничего такого, что могло бы служить грузом, пока наконец не наткнулись, к счастью, на обрывок цепи. Прочно прикрепив ее к лодыжке, Петерс четвертый раз спустился в кают-компанию и даже добрался до двери в помещение стюарда. На беду, дверь была заперта, и он снова вернулся ни с чем, потому что при крайнем напряжении мог пробыть под водой не больше минуты. Теперь наши дела действительно были плохи, и при мысли о неисчислимых бедах, подстерегавших нас на каждом шагу, и о малой вероятности нашего спасения мы с Августом не могли удержаться от рыданий. Но то была минутная слабость. Упав на колени, мы вознесли молитву Господу, прося не оставить нас своей помощью посреди окружавших опасностей, а поднялись уже с новой надеждой и новой решимостью искать, что еще может сделать смертный для своего избавления.
ГЛАВА X
Вскоре после этого случилось происшествие, которое, на мой взгляд, сопровождалось такими глубокими переживаниями, вызвало такие противоположные чувства — от безграничной радости до крайнего ужаса, — какие я не испытал впоследствии ни разу, хотя за девять долгих лет на мою долю выпало немало приключений, насыщенных поразительными, а нередко и вообще непостижимыми событиями.
Мы лежали на палубе подле сходного трапа в кают-компанию и рассуждали о возможности проникнуть в кладовую. Я случайно посмотрел на Августа, обращенного ко мне лицом, и увидел, что он смертельно побледнел, а губы его задрожали самым неестественным образом. Безмерно встревоженный, я спросил, что случилось. Но он не отвечал, и я подумал было, что мой друг внезапно почувствовал себя дурно, однако в тот же момент заметил его горящий взгляд, устремленный на что-то позади меня. Я обернулся. Как мне забыть исступленный восторг, который пронизал каждую клеточку моего существа, когда я увидел милях в двух от «Дельфина» большой бриг, идущий прямо на нас. Я подпрыгнул, точно в грудь мне ударила пуля, и, простирая руки к судну, замер, не в силах проронить ни слова. Петерс и Паркер были равно возбуждены, хотя каждый по-своему. Первый пустился в какую-то сумасшедшую пляску, издавая немыслимые восклицания вперемешку со стонами и проклятиями, а другой заплакал от радости, как дитя.
Показавшийся корабль был большой бригантиной голландской постройки, выкрашен в черное, с какой-то аляповатой позолоченной носовой фигурой. Он, очевидно, немало пострадал от непогоды, а шторм, который оказался гибельным для нас самих, нанес ему изрядные повреждения: фор-стеньга была сорвана, равно как и часть правого фальшборта. Когда мы в первый раз заметили бриг, он находился, как я уже сказал, на расстоянии двух миль с наветренной стороны и шел прямо на нас. Бриз был очень слабый, однако, на удивление, на бриге стояли только фок и грот с летучим кливером, так что двигался он очень медленно, а мы буквально обезумели от нетерпения. Несмотря ца наше возбуждение, мы, кроме того, заметили, что бриг идет как-то странно. Два или три раза он так значительно отклонялся от курса, что можно было подумать, что на незнакомце вообще не заметили «Дельфина» или, не видя на борту людей, решили повернуть на другой галс и уйти. Тогда мы начинали вопить что есть силы, и корабль снова менял курс и снова направлялся к нам. Так повторялось несколько раз, мы не могли понять, в чем дело, и в конце концов решили, что рулевой просто пьян.
На палубе корабля поначалу не было ни души, но, когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде — голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужчина с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением, радостно, хотя и несколько странно, кивая нам, и улыбался, обнажая ряд ослепительно-белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но — следует напомнить — именно так, как нам это казалось.
Медленно, но более уверенно, чем прежде, бриг приближался к нам — нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях Всевышнему за полное, неожиданное чудесное избавление, которое вот-вот должно было свершиться. И вдруг с этого таинственного корабля (он был совсем близко) потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти названия, ни подобия… что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задыхался, мои товарищи побледнели, как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось: незнакомец был футах в пятидесяти и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернуло от курса на пять-шесть румбов, и он прошел перед самым нашим носом, футах в двадцати, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих не изгладится из памяти невыразимейший ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отталкивающие, окончательно разложившиеся, двадцать пять или тридцать, среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом Богом корабле не оставалось ни единого живого существа. И все же… и все же мы взывали к мертвым о помощи! Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг! Горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие, мы неистовствовали от страха и отчаяния.
Едва мы испустили первый крик ужаса, как, словно бы в ответ, раздался звук, который человек даже с самым тонким слухом принял бы за вопль себе подобного. В эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и так же кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вывернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и крамболом. К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею, взгромоздилась огромная чайка; глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперение ее было забрызгано кровью. Когда судно, медленно поворачиваясь, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит меня Бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль, — впрочем, предпочту умолчать о ней, — и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отвращением выбросил безобразный комок в море.
Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело; это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь, когда чайка взлетела в воздух, тело изогнулось и немного сползло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел! На нас смотрели пустые глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она, та улыбка, что вселила в нас радостные надежды! Так вот… впрочем, воздержусь от рассуждений.
Бриг, как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантасмагорическим экипажем уходили наши светлые надежды на спасение. Когда судно неспешно проходило мимо нас, мы, наверное, могли бы каким-нибудь образом перебраться к нему на борт, если б горькое разочарование и ужасающее открытие не лишили бы нас всех мыслительных и телесных способностей. Мы все видели и чувствовали, но не могли ни думать, ни действовать, пока — увы! — не стало слишком поздно. Насколько помрачился наш рассудок от этой встречи, можно судить по тому факту, что кто-то всерьез предложил пуститься вплавь вдогонку за бригом, когда тот был уже едва различим.
С тех пор я не раз пытался приоткрыть завесу неизвестности, которая покрывала судьбу незнакомого брига. Постройка и внешний вид, как я уже сказал, наводили на предположение, что то было голландское торговое судно; о том же говорила одежда команды. Мы с легкостью могли бы прочитать название на борту и вообще заметить что-нибудь характерное, что помогло бы проникнуть в причины катастрофы, но из-за чрезмерного возбуждения решительно ничего не соображали. По шафрановому оттенку кожи на тех трупах, которые не успели окончательно разложиться, мы заключили, что команда погибла от желтой лихорадки или иной, столь же заразной болезни. Если это так (ничего другого я не могу себе представить), то, судя по положению трупов, смерть настигла несчастных внезапно, причем всех сразу, то есть все произошло совершенно иначе, нежели вообще имет место даже при самых широких эпидемиях, какие известны человечеству. Причиной бедствия, возможно, стал яд, случайно попавший в провиант, или употребление в пищу какой-нибудь неизвестной разновидности ядовитой рыбы, или морского животного, или птицы. Впрочем, бессмысленно строить предположения относительно того, что навсегда окутано ужасающей и непостижимой тайной.
ГЛАВА XI
Остаток дня мы провели в каком-то оцепенении, тупо глядя вслед удаляющемуся судну, пока темнота, скрывшая его из глаз, не вернула нас к действительности. Нас снова стали мучить голод и жажда, заглушив все остальные горести и заботы. До утра, однако, ничего нельзя было сделать, и, привязавшись поплотнее, мы постарались хоть немного уснуть. Сверх всякого ожидания, мне это удалось, и я проспал до рассвета, когда мои менее удачливые спутники разбудили меня, чтобы возобновить поиски съестного.
Стоял мертвый штиль, поверхность воды казалась удивительно гладкой, было тепло и ясно. Бриг давно скрылся из глаз. Мы начали с того, что выдернули из гнезда, правда не без труда, еще один кусок цепи и прикрепили оба к ногам Петерсу. Он снова хотел донырнуть до двери кладовой в надежде открыть ее, если у него будет достаточно времени, на что он рассчитывал, поскольку бриг держался более устойчиво, чем прежде.
Ему удалось довольно быстро добраться до двери, и, сняв одну цепь с ноги, он изо всех сил старался с ее помощью открыть ход, однако дверная рама оказалась гораздо крепче, чем он ожидал. Долгое пребывание под водой абсолютно вымотало его, и вместо него должен был спуститься кто-то другой. Немедленно вызвался Паркер, но, нырнув три раза, он не сумел даже приблизиться к злосчастной двери. Августу из-за раненой руки вообще было бесполезно предпринимать такую попытку, потому что он не смог бы открыть дверь, даже если доплыл бы до нее, и соответственно настала моя очередь попытать счастья.
Как на грех, Петерс где-то у входа в кают-компанию обронил цепь, и, нырнув, я почувствовал, что не могу устойчиво находиться под водой из-за недостаточного груза. Поэтому на первый раз я решил ограничиться тем, что достану цепь. Шаря по полу коридора, я наткнулся на какой-то твердый предмет, схватил его, не успев даже ощупать, и тут же поднялся на поверхность. Моей добычей оказалась бутылка, и можно представить нашу радость, если я скажу, что это была бутылка портвейна. Возблагодарив небо за этот своевременный и приятный дар, мы вытащили моим перочинным ножом пробку и, сделав по умеренному глотку, почувствовали невыразимое облегчение: алкоголь согрел нас и придал нам силы. Затем мы тщательно закупорили бутылку и подвесили на носовом платке, чтобы она никоим образом не разбилась.
Немного отдохнув после этой счастливой находки, я снова нырнул и достал цепь. Привязав ее, я погрузился в воду третий раз, но лишь затем, чтобы полностью убедиться, что никакой силой дверь под водой не открыть. Отчаявшись, я вернулся.
Все наши надежды, казалось, рухнули, и по лицам моих спутников я понял, что они решили безучастно ждать гибели. Очевидно, вино все-таки вызвало опьянение, которого я избежал благодаря тому, что несколько раз погружался в воду. Они же бессвязно говорили о чем-то совершенно невообразимом. Петерс несколько раз спросил меня о Нантакете. Август, как сейчас помню, с серьезным видом приблизился ко мне и попросил одолжить расческу: в волосы ему набилась рыбья чешуя, и он хотел счесать ее перед тем, как сойти на берег. На Паркера вино подействовало меньше, и он убеждал меня нырнуть в кают-компанию еще раз и достать, что попадется под руку. Я согласился и с первого же раза, пробыв под водой целую минуту, вытащил небольшой кожаный саквояж, принадлежавший капитану Барнарду. Мы немедленно раскрыли саквояж в надежде найти что-нибудь съестное, но там были только коробка с бритвами и пара льняных рубашек. Я снова нырнул, но безуспешно. Едва я выплыл на поверхность, как услышал какой-то треск, а поднявшись на палубу, увидел, что мои спутники, неблагодарно воспользовавшись моим отсутствием, выпили остатки вина, но нечаянно разбили бутылку, намереваясь подвесить ее на прежнее место. Я пристыдил их за эгоизм, и Август даже расплакался. Другие двое смеялись, пытаясь свести все к шутке; лица у них при этом так чудовищно искажались, что не приведи Бог мне снова стать свидетелем такого веселья. Выпитое на пустой желудок вино немедленно оказало свое губительное действие — они были совершенно пьяны. С большим трудом я уговорил их лечь, и скоро они погрузились в тяжелый сон, сопровождаемый оглушительным храпом.
Теперь на бриге, можно сказать, я остался совсем один и предался мрачным размышлениям. Я не видел для нас иного исхода, кроме медленной смерти от голода или, в лучшем случае, гибели в морской пучине при первом же шторме, ибо нам, дошедшим до крайней степени изнеможения, бороться со стихией было не под силу.
Муки голода к этому времени стали просто невыносимы, и я чувствовал, что способен на что угодно, лишь бы только утишить их. Я отрезал ножом немного кожи от саквояжа и попробовал съесть, но не смог проглотить ни кусочка, хотя и вообразил, что чувствуешь некоторое облегчение, если жевать небольшие дольки, а после выплевывать их. Вечером мои спутники пробудились один за другим в состоянии неописуемой подавленности и слабости, вызванных алкоголем, пары которого, правда, к этому моменту уже улетучились. Их трясло как в лихорадке, и все жалобно просили пить. Их состояние безмерно огорчило меня, и в то же время я порадовался, что благодаря счастливому стечению обстоятельств не злоупотребил вином и теперь не испытываю таких же неприятных ощущений. Своим поведением они, однако, доставили мне немало неприятностей и хлопот и не могли ничего делать для нашего самосохранения до того, как придут в себя. Я отнюдь не отказался от мысли достать что-нибудь в кают-компании, но не мог снова приступить к делу, пока кто-нибудь не будет в состоянии держать веревку. Паркер, казалось, чувствовал себя лучше других, хотя мне пришлось достаточно повозиться, прежде чем я окончательно растолкал его. Подумав, что лучше всего окунуть Паркера в морскую воду, я обвязал его веревкой и, отведя до сходного трапа (все это время он оставался совершенно пассивным), столкнул вниз и тут же вытащил. Я имел право поздравить себя с результатами этого эксперимента, ибо Паркер словно ожил и, выбравшись на палубу, вполне нормально спросил, зачем я это сделал. Я объяснил, а он сказал, что премного обязан мне, ибо в самом деле чувствует себя гораздо лучше. Спокойно обсудив ситуацию, мы решили применить то же самое к Августу и Петерсу, после чего им немедленно стало лучше. На идею внезапного погружения в воду меня натолкнула читанная когда-то медицинская книга, где говорилось о благотворном действии душа в случаях mania о potu [158]Пристрастие к кубку (лат.)..
Убедившись, что снова могу доверить своим спутникам держать конец веревки, я нырнул еще несколько раз в кают-компанию, хотя совсем стемнело и с севера пошла слабая, но длинная зыбь, и судно стало неустойчивым. Мне удалось достать лишь два ножа в футлярах, пустой кувшин на три галлона и одеяло, но никакой еды не было. Я продолжал поиски, пока не выбился из сил, но ничего не нашел, Ночью Петерс и Паркер поочередно несколько раз спускались под воду, и тоже неудачно, так что в конце концов мы отказались от своих намерений, решив, что понапрасну тратим силы.
Трудно себе представить, в каких душевных и физических страданиях мы провели остаток ночи. Настало утро шестнадцатого числа, мы жадно всматривались в горизонт, мы ждали помощи — но все напрасно! Море было спокойно, только с севера, как и вчера, шла длинная зыбь. Не считая бутылки портвейна, мы шестой день жили без пищи и воды и понимали, что если не раздобудем что-нибудь, то долго не протянем. Ни до, ни после я не видел такой степени истощения, в каком пребывали Петерс и Август. Повстречай я их сейчас на суше, мне и в голову бы не пришло, что я знаю этих людей. Они совершенно изменились в лице, и трудно было поверить, что именно с ними я был вместе всего лишь несколько дней назад. Паркер выглядел немного лучше, хотя отчаянно исхудал и ослаб так, что не поднимал с груди головы. Он переносил страдания с завидным терпением, нисколько не жалуясь и пытаясь хоть как-нибудь приободрить других. Что до меня, то, несмотря на плохое самочувствие в начале путешествия и вообще хрупкое сложение, я не так страдал, как остальные, похудел гораздо меньше, а главное, в удивительной мере сохранял силу ума, тогда как мои товарищи находились в своего рода умственной прострации, казалось, совсем впали в детство и, по-идиотски ухмыляясь, несли какую-то околесицу. Временами, однако, они приходили в себя и сознавали, что с ними творится, и тогда они энергично вскакивали на ноги и начинали рассуждать вполне разумно, хотя рассуждения эти были полны безнадежности. Очень может быть, что мои товарищи вовсе не считали свое состояние плачевным; равно не исключено, что и я впал во временное умопомешательство и тоже был повинен во всяких экстравагантных выходках, — судить об этом не дано никому.
После полудня Паркер вдруг громогласно заявил, что слева по борту видит землю, и хотел броситься в море, чтобы плыть туда. Мне едва удалось удержать его от этой затеи. Петерс и Август почти не обратили на него внимания — оба, как видно, были погружены в мрачное оцепенение. Я пристально всматривался туда, куда показывал Паркер, но ничего похожего на сушу не видел; впрочем, я хорошо знал, как далеко мы от земли, и не питал никаких иллюзий на этот счет. Мне пришлось, однако, долго убеждать Паркера, что он ошибся. Он разрыдался, как ребенок; крики и слезы продолжались часа два-три, потом он устал и забылся сном.
Петерс и Август безуспешно пытались проглотить кусочки кожи. Хотя я рекомендовал им жевать их и выплевывать, у них не хватало сил внять моему совету. Что до меня, то я неоднократно принимался жевать кожу и чувствовал определенное облегчение; теперь меня более всего мучила жажда, я был готов выпить даже морской воды, но меня останавливала единственно мысль об ужасных последствиях, которые выпадают на долю тех, кто оказывался в подобном положении.
Так тянулся еще один бесконечный день, как вдруг на востоке, левее от нас, впереди, я увидел парус. Какое-то большое судно шло почти перпендикулярным к нам курсом на расстоянии двенадцати-пятнадцати миль. Никто из моих спутников не заметил судно, а я решил пока молчать, чтобы нам снова не обмануться в надеждах. Но судно приближалось, я отчетливо видел, что оно на всех парусах направляется к нам. Я не мог больше сдержаться и показал на него моим товарищам по несчастью. Они тут же повскакали с мест, самыми немыслимыми способами выражая свою радость; они рыдали и заливались глупым смехом, прыгали, топали ногами, рвали на себе волосы и то молились, то исторгали проклятия. На меня так подействовал их бурный восторг, в ту минуту я так уверовал в близость избавления, что не мог более оставаться спокойным и, целиком отдавшись экстазу, в порыве благодарности небесам бросился на палубу и стал кататься по ней, хлопая в ладоши и что-то вскрикивая, как вдруг внезапно опомнился и снова испытал всю бездну человеческого отчаяния и горя, увидев, что судно повернулось к нам кормой и полным ходом идет почти в противоположном от нас направлении, удаляясь от нашего брига.
Потом мне еще долго пришлось убеждать своих спутников, что судьба действительно отвернулась от нас. Каждым своим взглядом и жестом они давали понять, что не желают слушать моих обманных уверений. Особое беспокойство вызвал у меня Август. Несмотря на все мои доводы, он продолжал твердить, что судно быстро приближается, и уже начал собираться, чтобы перейти на его борт. Какие-то водоросли, проплывающие мимо нашего брига, он принял за лодку с того корабли и хотел спрыгнуть в нее, а когда мне пришлось силой удержать его от падения в воду, разразился душераздирающими стонами.
Отчасти примирившись с новым разочарованием, мы провожали неизвестный корабль взглядами, пока горизонт не подернулся дымкой и не подул легкий бриз. Как только он окончательно скрылся из вида, Паркер вдруг повернулся ко мне с таким странным выражением на лице, что я вздрогнул. В облике его была решимость, какую я до того не замечал в нем, и не успел он раскрыть рта, как я чутьем понял, что он хочет сказать. Он заявил, что один из нас должен умереть, чтобы остальные могли жить.
ГЛАВА XII
Не раз и не два я уже задумывался над тем, что мы, возможно, дойдем до последней черты, и про себя решил принять любую смерть, при любых обстоятельствах, но не соглашаться на это. Мою решимость ни в коей мере не колебал голод, причинявший мне страшные муки. Ни Петерс, ни Август не слышали Паркера, поэтому я поспешил отвести его в сторону и, мысленно попросив у Бога придать мне силы, принялся умолять во имя всего, что для него свято, отказаться от чудовищного замысла, убеждал, приводя всевозможнейшие, как того требовали обстоятельства, аргументы, выбросить это из головы и ничего не говорить двум другим нашим товарищам.
Он выслушал, не перебивая и не оспаривая моих доводов, и я уже начинал надеяться, что добился желаемого результата. Но когда я замолчал, он заявил, что все сказанное мной справедливо и решиться на это — значит сделать самый мучительный выбор, перед каким только может оказаться разумное существо, но что он держался столько, сколько способен человек, что незачем гибнуть всем, если, пожертвовав одним, есть какая-то возможность спастись остальным, что, сколько б я ни убеждал его, он не отступится от своей цели, потому что окончательно решился на все еще до появления корабля и лишь парус на горизонте заставил его повременить и не объявлять пока о своем намерении.
Тогда я стал просить его отложить осуществление этого замысла хотя бы на день, если уж он не хочет отказаться от него вовсе, и подождать, не встретится ли нам еще какое-нибудь судно, снова и снова повторяя все аргументы, которые я мог изыскать и которые, по моему мнению, воздействуют на такую грубую натуру. Он ответил, что молчал до последнего момента, что без пищи не протянет и часа, и поэтому завтра будет поздно — во всяком случае, для него.
Видя, что он не поддается никаким увещеваниям, я решил действовать иначе; ему, должно быть, известно, сказал я, что я легче других перенес все бедствия и поэтому мое физическое состояние лучше, чем у него и чем у Петерса или Августа, и что, коротко говоря, я могу в случае необходимости силой настоять на своем и без колебаний выкину его за борт, если он так или иначе вздумает поделиться своими каннибальскими планами с другими. Он тотчас схватил меня за горло и, вытащив нож, несколько раз пытался пырнуть меня в живот, но из-за его крайней слабости злодеяние не удалось. Не на шутку разгневанный, я тем временем оттеснил его к борту и хотел сбросить в море. От гибели его спасло лишь вмешательство подоспевшего Петерса, который, разняв нас, спросил о причине ссоры. Прежде чем я успел что-либо сделать, Паркер выложил все напрямик.
Слова его произвели еще большее впечатление, чем я ожидал. Оказалось, что и Август и Петерс втайне уже долго вынашивали эту чудовищную мысль, которую по чистой случайности первым вслух высказал Паркер, и теперь взяли его сторону, настаивая на немедленном осуществлении злодейского замысла. Я же рассчитывал, что по крайней мере у одного из них. достанет силы духа вместе со мной воспротивиться этому ужасному намерению, и тогда мы вдвоем, безусловно, предотвратим кровопролитие. Надежды мои не оправдались, и теперь я должен был позаботиться о собственной безопасности, так как мои потерявшие рассудок спутники могли посчитать дальнейшее сопротивление с моей стороны отказом участвовать на равных в трагедии, которая неминуемо разыграется в самом скором времени.
Я сказал, что я согласен на их предложение и единственно прошу отсрочки на час, пока не рассеялся туман, окутывающий нас, и тогда, может быть, мы снова увидим корабль, который мы повстречали. С большим трудом я вырвал обещание подождать; как я и ожидал, быстро поднялся бриз, туман рассеялся, но горизонт был чист. Мы приготовились бросить жребий.
Крайне неохотно останавливаюсь я на последовавшей затем драме; чего только ни случалось со мной впоследствии, но эта драма с ее мельчайшими подробностями врезалась в мою память, и до конца дней горькое воспоминание о ней будет омрачать каждый миг моего существования. Читатель не посетует на меня за то, что я изложу эту часть моего рассказа так коротко, как позволят описываемые события. Для роковой лотереи, которая должна была решить судьбу каждого из нас, мы придумали единственный способ — тянуть жребий. Для этого мы нарезали щепочек, и было решено, что держать буду я. Я удалился на один конец судна, а мои товарищи, отвернувшись, молча уселись на другом. Горчайшие муки в ходе этой драмы я пережил тогда, когда принялся раскладывать щепочки. Редко случается, чтобы человек не испытывал горячего желания сохранить себе жизнь, причем это желание тем острее, чем тоньше нить, связывающая его с земным существованием. Но теперь, когда тайное, вполне определенное и мрачное дело, которым я был занят (так непохожее на борьбу с морской стихией или постепенно усиливающимся голодом), давало возможность подумать над тем, каким образом избежать чудовищнейшей смерти, смерти ради чудовищнейшей цели, самообладание, благодаря которому я только и держался, вдруг рассеялось, как дым на ветру, оставив меня беспомощной, жалкой жертвой собственного малодушия. Поначалу я не мог даже обломать и сложить вместе крохотные щепочки — пальцы абсолютно не слушались меня, и колени дрожали от волнения. Я лихорадочно перебирал в уме сотни способов — один невероятнее другого — избежать участия в кровавой игре. Я хотел броситься на колени и просить моих спутников избавить меня от жестокой обязанности, хотел неожиданно кинуться вперед и прикончить одного из них, сделав тем самым жеребьевку бессмысленной, — словом, думал о чем угодно, кроме дела, которым я должен был заниматься. Из этого длительного умопомрачения меня вывел голос Паркера, который требовал положить конец их томительному ожиданию. Но и тогда я не мог заставить себя разложить щепочки, а соображал, какой бы хитростью заставить кого-нибудь из моих товарищей по несчастью вытащить самый короткий жребий, ибо мы условились, что ради сохранения жизни другим умрет тот, кто из четырех щепочек вытянет у меня из руки самую короткую. Пусть те, кто захочет обвинить меня в жестокости, сперва окажутся в моем положении.
Медлить дольше было невозможно, и хотя сердце у меня колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, я направился к баку, где меня ждали мои спутники. Я протянул руку, и Петерс, не колеблясь, вытянул свой жребий. Смерть миновала его: вытащенная им щепочка была не самой короткой. Вероятность, что я останусь жить, уменьшилась. Собрав все свои силы, я повернулся к Августу. Тот тоже сразу вытащил щепочку — жив! Теперь с Паркером у нас были абсолютно равные шансы. В этот момент мной овладела какая-то звериная ярость, и я внезапно почувствовал безотчетную сатанинскую ненависть к себе подобному. Потом это чувство схлынуло, и, весь содрогаясь, закрыв глаза, я протянул ему две оставшиеся щепочки. Он долго не мог набраться решимости вытянуть свой жребий, и эти напряженнейшие пять минут неизвестности я не открывал глаз. Затем одна из двух палочек была резко выдернута из моих пальцев. Итак, жребий брошен, а я еще не знал, в мою пользу или нет. Все молчали, и я не осмеливался посмотреть на оставшуюся в руке щепочку. Наконец Петерс взял меня за руку, я заставил себя открыть глаза и по лицу Паркера понял, что на смерть обречен он, а я буду жить. Задыхаясь от радости, я без чувств упал на палубу.
Когда я очнулся, то застал кульминацию трагедии — смерть того, кто главным образом и был повинен в ней. Он не оказывал сопротивления; Петерс ударил его ножом в спину, и он упал мертвым. Не буду рассказывать о последовавшем затем кровавом пиршестве. Такие вещи можно вообразить, но нет слов, чтобы донести до сознания весь изощренный ужас их реальности. Достаточно сказать, что, немного утолив мучительную жажду кровью жертвы, мы с обоюдного согласия четвертовали ее, руки, ноги и голову вместе с внутренностями выбросили в море, а остальное с жадностью ели кусок за куском на протяжении четырех недоброй памяти дней — семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого числа июля.
Девятнадцатого числа, когда пятнадцать-двадцать минут шел сильный ливень, с помощью простыни, которую мы выудили нашей драгой из кают-компании сразу после шторма, нам удалось набрать воды. Ее было не более полгаллона, но и это скудное количество придало нам немного силы и надежды.
Двадцать первого мы снова были вынуждены прибегнуть к последнему средству. Погода по-прежнему теплая и ясная, лишь иногда туманы и легкие бризы, главным образом с севера и запада.
Двадцать второго числа, когда мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и угрюмо размышляли над нашей горестной судьбой, у меня вдруг мелькнула мысль и с ней проблеск надежды. Я вспомнил, что, когда мы срубили фок-мачту, Петерс, который находился у якорного устройства с наветренной стороны, отдал мне топор, попросив припрятать в надежное место, и что за несколько минут до того, как на бриг обрушился последний гигантский вал, залив все водой, я отнес топор на бак и положил в одну из левых кают. И вот сейчас я подумал, что, раздобыв этот топор, мы, наверное, могли бы прорубить палубный настил над кладовой и достать там провизию.
Я изложил этот план своим товарищам, оба вскрикнули от радости, и мы тотчас отправились на бак. Тут спускаться вниз оказалось гораздо труднее, так как проход был уже; кроме того, напомню, что всю надстройку над трапом в салон давно смыло, тогда как спуск в кубрик, представляющий собой простой люк площадью примерно в три квадратных фута, остался неповрежденным. Я, однако, не колебался ни секунды и, обвязавшись, как и раньше, веревкой, смело опустился в воду ногами вперед, быстро добрался до каюты и с первого же раза нашел топор. Мое появление было встречено с восторгом, а легкость, с какой удалось достать топор, сочли добрым знаком, предвещающим конечное избавление.
Надежда воодушевила нас, и мы поочередно с Петерсом принялись рубить палубу — Август не мог помочь нам из-за раненой руки. И все-таки мы могли работать без передышки лишь минуту-другую, потому что едва держались на ногах от слабости, и скоро поняли, что потребуются долгие часы, прежде чем мы сумеем прорубить достаточно широкое отверстие, чтобы свободно спуститься в кладовую. Однако это обстоятельство ничуть не обескуражило нас, и, провозившись всю ночь при свете луны, мы закончили нашу работу к рассвету двадцать третьего числа.
Петерс вызвался попытаться первым; приготовив все необходимое, он спустился вниз и скоро вернулся с небольшой банкой, которая, к нашей неописуемой радости, оказалось полной маслин. Поделив между собой плоды, мы с жадностью съели их и приготовились спустить Петерса вторично. На сей раз его успех превзошел все наши ожидания: он выбрался на палубу с большим куском окорока и бутылкой мадеры. Мы умеренно отведали вина, по опыту зная о губительных последствиях злоупотребления спиртным. Что до окорока, то, за исключением куска фунта в два у самой кости, он был совершенно попорчен морской водой. Мы разделили съедобную часть, и Петерс с Августом, не в силах удержаться, мгновенно проглотили свою долю; я же остерегся неминуемой жажды и съел лишь крохотный кусочек. Потом мы решили отдохнуть от тяжких трудов.
Немного восстановив силы, мы в полдень снова принялись за добывание еды. Петерс и я до заката поочередно и с переменным успехом ныряли вниз, и нам посчастливилось вытащить еще четыре банки с маслинами, окорок, плетеную бутыль галлона на три с отличной мадерой и, что особенно обрадовало нас, небольшую черепаху из семейства галапагосских: перед отплытием «Дельфина» капитан Барнард взял несколько таких черепах со шхуны «Мэри Питтс», которая ходила в Тихий океан за тюленями и только что вернулась из плавания.
В дальнейшем мне не раз придется упоминать об этом виде черепах. Обитают они, как, очевидно, известно моим читателям, на островах Галапагос, которые и берут свое наименование от названия животного: испанское слово galapago означает пресноводную черепаху. Из-за особой формы и необычного поведения этих черепах называют еще слоновыми. Иные из них имеют исполинские размеры. Я сам встречал таких, которые весили от двенадцати до пятнадцати сотен фунтов, хотя не припоминаю, чтобы кто-нибудь из моряков рассказывал, что видел экземпляр весом более одиннадцати сотен. Внешне, эти черепахи весьма своеобразны, даже отвратительны. Передвигаются они очень медленно, тяжело и размеренно перебирая лапами и неся туловище в футе от земли. Шею они имеют чрезвычайно тонкую и длинную, обычно от полутора до двух футов, а однажды я убил особь, у которой от плеча до оконечности головы было не менее трех футов и десяти дюймов. Голова у них удивительно напоминает змеиную. Эти черепахи невероятно долго могут обходиться без пищи; известны случаи, когда их оставляли в трюме безо всякой пищи два года, и по истечении этого времени они были такими же мясистыми, как и прежде, и вообще находились в преотличном состоянии. В одном отношении эти необыкновенные четвероногие имеют сходство с одногорбым верблюдом, или дромадером. У основания шеи у них имеется сумка с постоянным запасом воды. Их иногда убивали после годового голодания, и в этих сумках обнаруживали до трех галлонов совершенно чистой, свежей воды. Питаются они по преимуществу дикой петрушкой и сельдереем, а также портулаком, морскими водорослями и опунцией; особенно на пользу им идет последнее растение, которое обычно в обилии произрастает на склонах прибрежных холмов, именно там, где обитает и само животное.
Их мясо очень вкусно и высокопитательно, и нет сомнения в том, что не одна тысяча мореплавателей, занятых китобойным и другим промыслом в Тихом океане, обязана им жизнью.
Черепаха, которую нам посчастливилось вытащить из кладовой, была небольших размеров и весила, вероятно, шестьдесят пять — семьдесят фунтов. Нам попалась самка, необыкновенно жирная, и в сумке у нее мы нашли четверть галлона чистой, прозрачной воды. Это было настоящее сокровище, и, дружно упав на колени; мы возблагодарили Господа за своевременную помощь.
Мы изрядно потрудились, протаскивая черепаху через люк, потому что она яростно билась, а сила у нее удивительная. Она чуть не вырвалась у Петерса из рук и не упала снова в воду, но Август накинул ей на шею веревочную петлю и держал, пока я не спрыгнул вниз к Петерсу и не помог ему вытащить ее на палубу.
Мы осторожно перелили воду из сумки черепахи в кувшин, который, как вы помните, мы достали из кают-компании. Потом мы отбили горлышко от бутылки, заткнули ее пробкой, и у нас получилось, таким образом, нечто вроде бокала вместимостью в одну восьмую пинты. Каждый затем выпил эту меру, и на будущее было решено ограничиться именно этим количеством в день.
Последние два-три дня стояла сухая ясная погода, постельное белье, которое мы вытащили из кают-компании, и вся наша одежда совершенно просохли, так что эту ночь (на двадцать третье) мы провели в сравнительном комфорте, наслаждаясь безмятежным отдыхом после обильного ужина маслинами и окороком с глотком вина. Опасаясь, как бы не поднялся ветер и не снес наши припасы за борт, мы привязали их веревками к остаткам брашпиля. Черепаху мы решили сохранить живой как можно дольше и потому опрокинули на спину и тоже тщательно привязали.
ГЛАВА XIII
Июль, 24 дня . Это утро мы встретили необыкновенно отдохнувшие и бодрые. Несмотря на тяжелое положение, в котором мы еще пребывали, ибо ничего не знали о нашем местонахождении, хотя, разумеется, были очень далеко от суши, располагали запасами продовольствия, которого при самом скудном рационе едва хватило бы на две недели, почти не имели воды и плыли по воле волн и ветров на самой жалкой в мире посудине, — несмотря на все это, мы склонны были воспринимать нынешние тяготы всего лишь как обычные неприятности по сравнению с куда более ужасными несчастьями и опасностями, которых благодаря Провидению мы совсем недавно избежали, — настолько относительны понятия блага и бедствия.
На рассвете мы приготовились было снова попытать счастья в камбузе, как началась гроза, сопровождаемая молниями, и мы решили набрать воды. Единственное, что мы могли сделать — снова прибегнуть к помощи простыни, которую мы уже использовали для этой цели. Положив на середину простыни юферс, мы растянули ее на руках, и вода, сбегавшая к середине, просачивалась сквозь полотно в кувшин. Таким способом мы почти наполнили нашу посуду, как вдруг с севера налетел свирепый шквал и началась такая бешеная качка, что невозможно было держаться на ногах. Тогда мы добрались до брашпиля и, крепко привязав себя к нему, как и раньше, стали пережидать непогоду с гораздо большим спокойствием, нежели можно вообразить при подобных обстоятельствах. В полдень ветер еще более усилился, а к вечеру разыгралась настоящая буря, подняв на море сильнейшее волнение. Опыт, однако, научил нас в целях самосохранения как можно крепче привязывать себя, и мы провели эту томительную ночь в сравнительной безопасности, хотя каждую минуту палубу обдавали волны, грозившие смыть нас за борт. К счастью, погода была теплая, и вода даже освежала.
Июль, 25 дня . Утром буря стихла до бриза скоростью десять миль в час, волнение тоже немного спало, так что вода не доставала нас. К величайшему нашему огорчению, мы обнаружили, что волны смыли обе банки с маслинами и окорок, несмотря на то что они были привязаны самым тщательным образом. Мы решили пока не забивать черепаху и довольствовались на завтрак несколькими маслинами и порцией воды, которую мы наполовину смешали с вином, — напиток не вызывал неприятного ощущения, как это было после портвейна, а, напротив, придал нам бодрости и силы. Море оставалось еще бурным, и мы не могли снова заняться добыванием продовольствия в камбузе. На протяжении дня через отверстие люка несколько раз всплывали всякие бесполезные для нас предметы и тут же исчезали за бортом. Наш «Дельфин», как мы заметили, накренился почему-то больше обычного, так что мы не могли стоять на ногах, не привязываясь к чему-нибудь. Так тянулся этот томительный и неудачный день. В полдень солнце встало почти в зените, и это означало, что непрерывные северные и северо-западные ветры снесли нас к самому экватору. Вечером появилось несколько акул, и нас встревожило, что одна громадная хищница самым наглым образом приблизилась к судну. Был даже момент, когда судно сильно накренилось, палуба погрузилась в воду, и чудовище подплыло к нам совсем близко и несколько мгновений стояло над трапом в кают-компанию, сильно ударив Петерса хвостом. Мы облегченно вздохнули, когда волною его отнесло далеко прочь. Наверное, в спокойную погоду убить акулу не составило бы труда.
Июль, 26 дня . Утром ветер порядочно стих, волнение улеглось, и мы решили снова взяться за обследование кладовой. На протяжении целого дня мы неоднократно спускались вниз, пока не убедились, что рассчитывать больше не на что, ибо ночью волны проломили перегородку и все, что было в кладовой, смыло в трюм. Можно представить, в какое уныние повергло нас это обстоятельство.
Июль, 27 дня . Море почти спокойно, легкий ветерок по-прежнему с запада и северо-запада. В полдень сильно пекло солнце, сушили одежду. Потом купались — это облегчало жажду и вообще приносило облегчение; вынуждены были, однако, соблюдать величайшую осторожность: весь день вокруг судна шныряли акулы.
Июль, 28 дня . Ясная теплая погода. Бриг почему-то накренился до такой степени, что мы опасаемся, как бы он не перевернулся. Насколько смогли, приготовились к самому худшему, привязав нашу черепаху, бутыль с водой и две оставшиеся банки маслин как можно дальше к наветренной стороне, вынеся их за корпус ниже вант-путенсов. Весь день море очень спокойно, ветра почти нет.
Июль, 29 дня . Погода держится. На раненой руке у Августа появились признаки гангрены. Он жалуется на сонливость и мучительную жажду, но не на боль. Единственное, что мы могли сделать, — это помазать рану остатками уксуса из-под маслин, но это, кажется, не помогло. Мы утешали его как могли и увеличили его рацион воды втрое.
Июль, 30 дня . Необыкновенно жаркий день, ни малейшего ветерка. Все утро совсем рядом с судном плыла огромная акула. Несколько раз пытались поймать ее арканом. Августу гораздо хуже, он слабеет, как, очевидно, от недостатка питания, так и от раны. Он умоляет нас избавить его от страданий, уверяя, что хочет умереть. Вечером съели последние маслины, а вода в бутыли настолько испортилась, что не могли хлебнуть ни глотка, не добавив в нее вина. Решено утром забить черепаху.
Июль, 31 дня . После беспокойной и утомительной из-за глубокого крена ночи приготовились забить и разделать черепаху. Она оказалась гораздо меньше, чем мы предполагали, хотя и в отличном состоянии: всего мяса набралось фунтов десять, не больше. Чтобы сохранить часть мяса как можно дольше, мы нарезали его тонкими кусочками, наполнили ими три банки из-под маслин и винную бутыль (мы не выбросили их), а затем залили остатками уксуса. Таким образом мы сделали трехфунтовый запас черепахового мяса, решив не притрагиваться к нему, пока не съедим остальное. Согласились ограничиться четырьмя унциями на каждого, чтобы растянуть мясо на тринадцать дней. В сумерки разразилась гроза со страшным громом и молниями, но она длилась совсем недолго, и мы успели набрать лишь полпинты воды. С общего согласия, всю эту воду отдали Августу, он чуть ни при смерти. Он пил прямо с простыни, которую мы держали над ним, и вода, просачиваясь, стекала ему в рот, — никакой посудины у нас не было. Продлись ливень чуть дольше, мы, разумеется, тогда вылили бы вино из бутыли и опорожнили бы кувшин с остатками протухшей воды.
Но вода, кажется, почти не помогла несчастному. Рука у него от кисти до плеча совсем почернела, и ноги были ледяные. Мы с ужасом ждали, что он вот-вот испустит последний вздох. Исхудал Август страшно; если при отплытии из Нантакета он весил сто двадцать семь фунтов, то сейчас в лучшем случае сорок-пятьдесят. Глаза у него запали, их едва было видно, а щеки ввалились так, что он еле-еле мог жевать и даже пить.
Август, 1 дня . По-прежнему держится все та же ясная погода, изнуряюще жаркое солнце. Вода в кувшине кишит паразитами, мы изнываем от жары. Вынуждены сделать хоть по глотку, предварительно смешав ее с вином, но это не утоляет жажду. Гораздо большее облегчение приносит купание, но купаться вынуждены лишь изредка из-за постоянного присутствия акул. Теперь уже совершенно ясно, что Августа не спасти — он умирает. И мы ничем не можем облегчить его муки, а они, по-видимому, ужасные. Около полудня он скончался в страшных судорогах, не проронив ни слова; последние часы он вообще молчал. Смерть Августа навела нас на самые мрачные мысли, мы были угнетены сверх меры и целый день просидели неподвижно подле его тела, изредка переговариваясь шепотом. И лишь после наступления темноты у нас достало духа подняться и спустить его в море. На труп нельзя было смотреть без содрогания: он так разложился, что когда Петерс попытался приподнять его, то в руках у него осталась отломившаяся нога. Когда эта гниющая масса соскользнула с палубы в воду, в фосфорическом мерцании, которым она была окружена, мы увидели семь или восемь гигантских акул — они терзали свою жертву, и стук их зубов разносился, должно быть, на целую милю. При этих звуках мы съежились от неописуемого ужаса.
Август, 2 дня . Та же знойная безветренная погода. Зарю мы встретили подавленные и изнуренные. Вода в кувшине совершенно непригодна для питья, она превратилась в густую студенистую массу, кишащую отвратительными червями. Мы опорожнили кувшин и, влив туда немного уксуса из бутыли с законсервированным черепашьим мясом, хорошенько промыли морской водой. Будучи не в состоянии выносить более муки жажды, мы попытались облегчить их вином, но оно словно подлило масла в огонь и сильно опьянило нас. Потом мы попробовали смешать вино с морской водой, но нас тут же вырвало, и мы отказались от дальнейших попыток. Весь день мы искали возможности искупаться, но безуспешно: бриг со всех сторон буквально осаждали акулы — нет сомнения, то были такие же хищники, что накануне сожрали нашего несчастного спутника и сейчас ждали подобного пиршества. Это обстоятельство огорчило нас безмерно и повергло в крайнее уныние. Дело в том, что купание приносило нам невыразимое облегчение, и вот теперь чудовища лишили нас такой возможности — это было сверх всяких сил! Кроме того, нам постоянно грозила опасность: поскользнись чуть-чуть, сделай одно неверное движение, и сразу станешь добычей этих прожорливых хищников, которые, подплывая с подветренной стороны, нередко лезли прямо на нас. Ни крики, ни другие попытки отпугнуть их не давали результата. Даже когда Петерс топором сильно поранил одно чудовище, оно продолжало упрямо двигаться на нас. Когда опустились сумерки, надвинулась туча, но, к величайшему огорчению, прошла, не проронив ни капли дождя. Невозможно представить, как страдали мы от жажды в эти дни. Из-за этого, а также из-за акул мы провели ночь без сна.
Август, 3 дня . Никаких надежд на спасение. Бриг накренился еще сильнее, стоять на палубе совершенно невозможно. Занялись тем, чтобы поместить наши запасы черепашьего мяса и вина в безопасное место, даже если судно опрокинется. Раздобыли две свайки от вант-путенсов и топором загнали их в обшивку на наветренном борту в двух футах от воды и не так уж далеко от киля, так как бриг почти лежит на боку. К этим костылям мы и привязали наши запасы в надежде, что здесь они будут в большей сохранности, чем на прежнем месте под вант-путенсами. Весь день нестерпимо мучила жажда, и никакой возможности освежиться в воде из-за акул, которые ни на минуту не оставляют нас в покое. Нельзя сомкнуть глаз.
Август, 4 дня . Незадолго до рассвета мы почувствовали, что судно переворачивается и вот-вот опрокинется совсем, и повскакали с мест, чтобы нас не сбросило в воду. Поначалу бриг переворачивался медленно и равномерно, и мы успешно взбирались по наветренному борту с помощью веревок, тех самых, которые были привязаны к свайкам для храпения провизии и предусмотрительно оставленные нами на месте. Но мы не рассчитали ускорения при опрокидывании, и, когда судно стало переворачиваться быстрее, мы уже не могли взбираться с такой же скоростью, и, прежде чем успели сообразить, в чем дело, нас сбросило в воду на глубину нескольких морских саженей как раз под огромным корпусом брига.
При погружении в воду я не удержал в руках веревку и теперь, поняв, что нахожусь под судном и силы мои почти иссякли, почти не пытался выплыть и приготовился к близкой смерти. Но и на этот раз я ошибся, ибо не взял во внимание обратный толчок опрокинувшегося корпуса. Наветренный борт качнулся в противоположную сторону, и вихревые потоки воды вынесли меня на поверхность с еще большей силой, нежели сбросили в глубину. Насколько можно было судить, меня вытолкнуло ярдах в двадцати от брига. Он лежал килем кверху, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, а вокруг бились волны и ходили большие водовороты. Петерса нигде не было видно. В нескольких ярдах я заметил бочку из-под жира, кое-где плавали другие предметы с судна.
Теперь более всего приходилось остерегаться акул, которые шныряли поблизости. Чтобы не дать им приблизиться, я поплыл к бригу, отчаянно колотя руками и ногами по воде и поднимая столб брызг. Благодаря этой простой уловке я и спасся; море вокруг нашего корабля буквально кишело этими чудовищами за минуту до того, как он опрокинулся, так что они наверняка задевали меня, пока я плыл. Каким-то чудом я достиг брига целым и невредимым, хотя так выбился из сил, что ни за что не сумел бы забраться на него, если бы вовремя не подоспел Петерс, — к величайшей моей радости, он показался из-за киля (вскарабкавшись туда с другой стороны корпуса) и бросил мне веревку, одну из тех, что были привязаны к костылям.
Едва мы оправились от одной опасности, как наши мысли обратились к другой — неизбежности голодной смерти. Несмотря на все предосторожности, весь наш запас провизии смыло водой; не видя ни малейшей возможности раздобыть еды, мы оба поддались отчаянию; мы плакали, как дети, даже не пытаясь утешить друг друга. Трудно понять такую слабость, и тем, кто не попадал в подобные переделки, она наверняка покажется неестественной; но не нужно забывать, что от длительных лишений, выпавших на нашу долю, и постоянного страха мы почти помешались, и нас вряд ли можно было считать разумными существами. Впоследствии, оказываясь в столь же бедственных — если не хуже — обстоятельствах, я мужественно сносил все удары судьбы, а Петерс, как будет видно, обнаруживал философское спокойствие, столь же невероятное, как и его нынешнее ребячье слабоумие и малодушие, — вот что значит состояние духа.
В сущности, наше положение не сильно ухудшилось от того, что бриг опрокинулся и мы потеряли вино и черепаху (правда, пропала простыня, которой мы собирали дождевую воду, и кувшин, где хранили ее); дело в том, что все днище — на расстоянии двух-трех футов от скул и до киля — было покрыто плотным слоем моллюсков, оказавшихся вкусной, питательной пищей. В результате так страшившее нас кораблекрушение обернулось скорее благом в двух отношениях: у нас был теперь запас продовольствия, который при умеренном питании мы не исчерпаем и за месяц, и нынешнее наше месторасположение оказалось гораздо более удобным и менее опасным, чем прежде.
Однако неминуемые трудности с водой мешали нам оценить выгоды нашего нового положения. Мы сняли рубашки, чтобы в случае дождя быть готовыми немедленно воспользоваться ими, как раньше простынями, хотя, конечно же, не могли рассчитывать даже при самых благоприятных обстоятельствах набрать больше четверти кварты зараз. Мы страдали от жажды невыразимо, но на протяжении целого дня на небе не появилось ни единого облачка. Ночью Петерс на час забылся беспокойным сном, я же ни на минуту не мог сомкнуть глаз.
Август, 5 дня . Сегодня легкий ветер прибил к нам множество морских водорослей, в которых мы поймали дюжину небольших крабов, послуживших нам настоящим угощением. Мы ели их целиком, вместе с нежной скорлупой, и нашли, что они не так возбуждают жажду, как моллюски. Не видя никаких признаков акул, мы рискнули искупаться и пробыли в воде несколько часов. Это освежило нас, пить хотелось меньше, и мы, немного поспав, провели ночь спокойнее, чем предыдущую.
Август, 6 дня . В этот благословенный день пошел сильный дождь, который длился от полудня до заката. Вот когда мы пожалели, что не сберегли кувшин и бутыль! Мы могли бы, пожалуй, наполнить оба сосуда, как ни примитивен был наш способ собирания воды. Теперь же мы были вынуждены довольствоваться тем, что выжимали намокшие рубашки прямо в рот, ловя каждую каплю волшебной жидкости. В этом занятии мы провели весь день.
Август, 7 дня . Едва рассвело, как мы оба в единое мгновение заметили на востоке парус, очевидно триблишавшийся к нам ! Мы приветствовали чудесное зрелище долгими восторженными, хотя и слабыми возгласами и тут же принялись подавать кораблю всевозможные знаки: размахивали рубашками, прыгали, насколько позволяли наши слабые силы, вопили во всю мощь легких, хотя корабль находился никак не меньше, чем в пятнадцати милях. Судно постепенно приближалось к нам, и если оно не изменит курс, то в конце концов нас непременно заметят! Примерно через час после того, как на горизонте впервые показался парус, мы уже могли различить людей на палубе. Это была длинная, низко сидящая в воде топсельная шхуна с черным шаром на фор-брамселе и, очевидно, полным экипажем. Трудно было допустить, что нас не видят, и мы уже начали тревожиться, не собирается ли незнакомец пройти мимо, оставив нас на верную смерть. Как ни дико это звучит, такая изуверская жестокость порой совершается на море при схожих обстоятельствах существами, которых причисляют к человеческому роду. [159]Достаточно показателен в этом смысле случай с бостонским бригом «Полли», судьба которого во многих отношениях так напоминает нашу, что я не могу не упомянуть о нем. 12 декабря 1811 года под командованием капитана Касно это судно грузоподъемностью сто тридцать тонн вышло из Бостона с грузом леса и съестных припасов, взяв курс на Санта-Круа. Помимо капитана, на борту было восемь человек: его помощник, четыре матроса, кок, а также некий мистер Хант с принадлежащей ему молоденькой негритянкой. 15 декабря, благополучно миновав Джорджес-банку, во время налетевшего с юго-запада шторма судно дало течь и в конце концов опрокинулось; к счастью, когда мачты снесло за борт, корабль выпрямился. Находившиеся на борту пробыли без огня и со скудным запасом продовольствия сто девяносто один день; двенадцатого июня оставшихся в живых капитана Касно и Сэмюэля Вэджера подобрал «Фэйм», который капитан Фезерстоун вел из Рио-де-Жанейро домой, в Гулль. Когда их снимали с обломков брига, они находились на 20° северной широты и 13° западной долготы, проделав, таким образом, путь в две тысячи с лишним миль! Девятого июля «Фейм» повстречал бриг «Дромео», и капитан Перкинс высадил двух несчастных в Кеннебеке на сушу. Доклад, из которого мы заимствовали эти подробности, кончается следующими словами: «Возникает естественный вопрос: как они, проплыв такое огромное расстояние в наиболее судоходной части Атлантики, могли остаться никем не замеченными? Они видели более дюжины судов, причем одно из них подошло так близко, что они отчетливо различали смотревших на них с палубы и мачт людей; но, к невыразимому разочарованию голодных, замерзающих страдальцев и вопреки всем законам человечности, те подняли паруса и бросили их на произвол судьбы». (Примеч. автора.) Однако в данном случае, благодаря милости Божьей, дело, к счастью, обстояло иначе. Вскоре мы заметили движение на палубе незнакомца, который тут же поднял британский флаг и, развернувшись, направился прямо к нам. Через полчаса мы были в каюте шхуны «Джейн Гай» из Ливерпуля, направлявшейся под началом капитана Гая на тюлений промысел и с торговыми целями в Тихий и Южный океаны.
ГЛАВА XIV
«Джейн Гай» была красивой топсельной шхуной грузоподъемностью сто восемьдесят тонн. У нее был необыкновенно острый нос, и с ветром при умеренной погоде она ходила с такой скоростью, какой я не наблюдал у других судов. Но для штормовых рейсов она годилась гораздо меньше, и осадка была слишком велика, если иметь в виду ее назначение. Промысел, для которого снарядили шхуну, требует судна большей грузоподъемности, скажем, от трех до трех с половиной сотен тонн, но соответственно меньшей осадки. Ее следовало бы оснастить как барк, да и конструкция ее желательна иная, нежели у кораблей, обычно плавающих в Южных морях. Совершенно необходимо также хорошее вооружение. На судне надо, к примеру, иметь десяток или дюжину двенадцатифунтовых каронад, две-три длинноствольные пушки с запасом картечи и водонепроницаемыми пороховыми ящиками. Якоря и канаты должны быть гораздо прочнее, нежели те, что надобны для другой службы, а главное, на таком корабле необходим многочисленный и опытный экипаж, пятьдесят-шестьдесят матросов первого класса по меньшей мере. На «Джейн Гай», помимо капитана и его помощника, было всего лишь тридцать пять, правда, знающих свое дело людей, но все-таки ее вооружение и оснастка не удовлетворили бы моряка, знакомого с трудностями и опасностями тюленьего промысла.
Капитан Гай был вполне светский человек, обладавший значительным опытом плавания в этих широтах, чему он отдал многие годы своей жизни. Ему не хватало, правда, энергии и особенно того духа предпринимательства, который здесь совершенно необходим. Он был совладельцем шхуны и имел право по собственному усмотрению совершать рейсы в Южных морях, берясь за перевозку любого выгодного груза.
Как водится в плаваниях такого рода, сейчас он имел на борту запас бус, зеркал, огнив, топоров, тесаков, пил, стругов, зубил, стамесок, буравов, рубанков, рашпилей, напильников, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, лезвий, иголок, ниток, глиняной посуды, ситца, всякого рода безделушек и тому подобных товаров.
Шхуна вышла десятого июля из Липерпуля, двадцать пятого пересекла тропик Рака под двадцатым градусом западной долготы и двадцать девятого достигла Сала, одного из островов Зеленого Мыса, где взяла на борт соль и другие припасы, необходимые для путешествия. 3 августа «Джейн Гай» снялась с якоря и с островов Зеленого Мыса взяла курс на юго-запад, в направлении берегов Бразилии, чтобы пересечь экватор между двадцать восьмым и тридцатым градусом западной долготы. Это обычный маршрут судов, направляющихся из Европы к мысу Доброй Надежды и дальше — в Ост-Индию. Следуя этим путем, можно избежать штилей и сильных встречных течений, господствующих у берегов Гвинеи, а затем с помощью постоянных западных ветров достигнуть мыса Доброй Надежды, так что в конце концов этот путь оказывается кратчайшим. Первую остановку, не знаю даже, для какой надобности, капитан Гай намеревался сделать на Земле Кергелена[160]Кергелен Тремарек Ив (1745—1797) — французский мореплаватель.. В тот день, когда нас подобрали, шхуна только что миновала мыс Сен-Рок на тридцать первом градусе западной долготы, так что мы продрейфовали с севера на юг расстояние не менее чем градусов в двадцать пять.
На борту «Джейн Гай» нас окружили таким вниманием, какого и требовало наше плачевное состояние. За две недели, пока судно следовало тем же курсом на юго-запад под мягким бризом и при чудесной погоде, мы с Петерсом полностью оправились от последствий пережитых недавно лишений и нечеловеческих страданий и теперь вспоминали происшедшее скорее как дурной сон, от которого так счастливо очнулись, нежели как действительные события во всей их беспощадной реальности. С тех пор мне не раз приходилось убедиться, что частичное выпадение памяти, которое я имею в виду, имеет причиной внезапный переход от радости к отчаянию или от отчаяния к радости, причем степень забывчивости пропорциональна степени противоположности наших переживаний. Как бы то ни было, лично я не могу в полной мере осознать бедствия, которые я перенес после кораблекрушения. Я помню цепь событий, но никак не чувства, владевшие тогда мной. Знаю только, что в тот момент, когда происходило то или иное событие, мне казалось, что больших мучений человек вынести не способен.
Несколько недель наше плавание продолжалось без каких-либо происшествий, если не считать разве что встреч с китобойными судами; еще чаще попадались черные, или настоящие, киты, которые называются так в отличие от кашалотов. Правда, главным образом они встречаются южнее двадцать пятой параллели. 16 сентября, находясь в непосредственной близости от мыса Доброй Надежды, шхуна перенесла первую с момента отплытия из Ливерпуля серьезную бурю. В этих местах, а еще чаще южнее и восточнее мыса (мы лежали к западу от него) морякам приходится вступать в схватку с яростными штормами, надвигающимися с севера. Они всегда несут сильнейшее волнение, и одна из их опаснейших особенностей состоит в мгновенной перемене ветра, каковая почти всегда происходит в самый разгар бури. С севера или северо-востока несется бешеный ураган, и вдруг в один момент ветер совершенно стихает, а затем с утроенной силой начинает дуть с юго-запада. Обыкновенно предвещает эту резкую перемену прояснение в южной части неба, так что на судах успевают принять необходимые меры предосторожности.
Итак, было шесть часов утра, когда на шхуну с севера, при сравнительно чистом небе, обрушился шквал. К восьми утра ветер еще более усилился, подняв такие гигантские волны, каких мне еще не приходилось видеть. Хотя мы убрали все паруса, шхуна держалась не так, как следовало бы океанскому паруснику. Ее кидало, как щепку, она то и дело зарывалась носом, и едва успевала выпрямиться, как накатывалась другая волна и накрывала ее. Мы следили за небом, и к исходу дня в юго-западной его части появилась ясная полоска. Спустя час передний парус безжизненно повис на мачте, а через две минуты, несмотря на все наши приготовления, шхуну точно по волшебству опрокинуло набок, и огромный поток пены окатил палубу. Дело, к счастью, ограничилось только шквалом, и нам удалось выровнять шхуну, не получив никаких повреждений. Поперечное волнение причиняло нам массу беспокойства еще несколько часов, но к утру на шхуне все было почти в том же порядке, как и до бури. Капитан Гай считал, что мы спаслись чуть ли не чудом.
Тринадцатого октября, находясь на 46°53´ ю. ш. и 37°46´ в. д., мы увидели острова Принс-Эдуард. Два дня спустя мы были у острова Владения, а затем прошли и острова Крозе, 42°59´ ю. ш. и 48° в. д. Восемнадцатого числа мы достигли острова Кергелен, или, как его еще называют, острова Запустения, в южной части Индийского океана, и бросили якорь в гавани Рождества на глубине около четырех саженей.
Этот остров, точнее — группа островов расположена к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, почти в восьмистах лигах от него. Острова были впервые открыты в 1772 году французом бароном Кергуленом, или Кергеленом, который принял их за выдающуюся часть южного материка, о чем и доложил на родине, вызвав большую сенсацию. Правительство заинтересовалось открытием и на следующий год послало барона исследовать новую землю — тогда-то и обнаружилась ошибка. В 1777 году на эти острова натолкнулся капитан Кук[161]Кук Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель, совершивший три кругосветных путешествия. Пытаясь найти Южный материк, Кук проплыл вокруг Южной полярной области. и нарек главный из них островом Запустения, какового названия он вполне заслуживает. Правда, когда впервые приближаешься к острову, этого не подумаешь, ибо с сентября по март склоны холмов одеты как будто пышной зеленью. Это ошибочное впечатление вызвано небольшим растением, напоминающим камнеломку, которая в обилии произрастает среди мха на болотистой почве. Другой растительности почти нет, если не считать высокую жесткую траву у самой гавани, лишайников и какого-то низкорослого кустарника, похожего на семенную капусту, но чрезвычайно горького и кислого на вкус.
Поверхность острова холмистая, хотя холмы отнюдь не высоки. Вершины их постоянно покрыты снегом. На острове есть несколько бухт, но гавань Рождества наиболее удобная из них. Если подходить к острову с северо-востока, то она будет как раз первой бухтой после мыса Франсуа, образующего северную оконечность острова и служащего хорошим ориентиром в силу своей необычной формы. Его выступающая часть заканчивается высокой скалой с большим естественным проломом, похожим на арку. Координаты горловины бухты — 48°40´ ю. ш. и 69°6´ в. д. Войдя в бухту, можно найти стоянку под прикрытием нескольких крошечных островов, защищающих судно от восточных ветров. Если двигаться отсюда к востоку, то попадешь в Осиную бухту, в самой глубине гавани. Этот маленький залив глубиной от трех до десяти саженей, к которому ведет проход в четыре сажени, со всех сторон окружен сушей и имеет твердое глинистое дно. Корабль может простоять здесь на якоре круглый год без малейшей опасности. В западной части Осиной бухты, у входа в нее, есть легкодоступный ручеек с отличной пресной водой.
На земле Кергелена и сейчас еще можно встретить и тюленей, и котиков, и множество морских слонов. Что до пернатых, здесь их обитает огромное множество. Особенно многочисленны пингвины, в основном — четырех различных видов. Самый крупный вид — королевские пингвины, которых называют так благодаря величине и яркому оперению. Верхняя часть туловища у королевского пингвина обычно серая, иногда с лиловым оттенком, а нижняя — чистейшего белого цвета. Голова у него глянцевая, иссиня-черная, как и лапы. Главную же прелесть оперения составляют две широкие золотистые полоски, идущие от головы до груди. Клюв — длинный, розового цвета или ярко-алый. Ходят они величаво выпрямившись. Головку держат высоко, крылья опущены, точно две руки, а выступающий хвост несут на одной линии с лапами; сходство с человеческой фигурой настолько поразительно, что может обмануть не слишком внимательного наблюдателя и вводит в заблуждение в темноте. Королевские пингвины, которых мы встретили на Земле Кергелена, были гораздо больше гуся.
Кроме королевских пингвинов, бывают хохлатые пингвины, пингвины-глупыши и обыкновенные пингвины. Эти разновидности значительно мельче, не так красивы и вообще отличаются от королевских.
Помимо пингвинов, на островах обитает множество других птиц, среди которых можно упомянуть морских курочек, голубых буревестников, чирков, уток, портэгмондских курочек, бакланов, капских голубков, морских ласточек, крачек, чаек, всякие виды качурок, буревестников, включая исполинских, и, наконец, альбатросов.
Исполинский буревестник — хищная птица, величиной с обычного альбатроса. Иногда его зовут костоломом или скопой. Они нисколько не боятся людей, и их мясо, если умело приготовить, вполне пригодно в пищу. Часто они словно плывут над самой водой, широко раскинув крылья и как будто совсем не шевеля ими.
Альбатрос — одна из самых крупных и хищных птиц среди пернатых обитателей Южного океана. Принадлежат альбатросы к семейству буревестников, добычу терзают на лету, а на сушу летят только для размножения. Между ними и пингвинами существует какая-то странная привязанность. Они сообща строят гнезда, будто согласно некоему плану, совместно разработанному: гнездо альбатроса помещается обыкновенно в середине небольшого квадрата, образованного четырьмя пингвиньими гнездами.
Моряки называют эти гнездовья «птичьим базаром». Описаний этих птичьих базаров имеется множество, но, поскольку мои читатели могут быть незнакомы с ними, а мне придется не раз упоминать о пингвинах и альбатросах, очевидно, нелишне рассказать здесь кое-что об их образе жизни и гнездовании.
Когда наступает период размножения, птицы собираются огромными стаями и несколько дней словно бы раздумывают, как устроить гнездовье, и лишь затем приступают к делу. Прежде всего они находят горизонтальную площадку подходящих размеров, обычно в три-четыре акра, расположенную как можно ближе к воде, но вне досягаемости волн. Место выбирается ровное, предпочтительно без камней. Затем, будто подчиняясь единому побуждению, они все, как один, разом начинают ходить друг за другом, с математической точностью вытаптывая квадрат или четырехугольник (в зависимости от характера почвы) достаточных размеров, чтобы разместиться всем, но никак не больше, ибо птицы исполнены, кажется, решимости не допустить сюда чужаков, не участвовавших в устройстве лагеря. Одна сторона выбранной площадки параллельна линии воды и открыта для входа и выхода.
Наметив очертания колонии, пингвины принимаются расчищать площадку от всякого сора, таская камешек за камешком и складывая их вдоль границ, так что с трех сторон, обращенных к суше, выстраивается своего рода стенка. С внутренней стороны протаптывается гладкая дорожка шириной шесть-восемь футов для общих прогулок.
Затем птицам предстоит разделить всю площадку на небольшие и совершенно одинаковые квадраты. Делается это посредством узких гладких тропинок, пересекающихся друг с другом под прямым углом по всей колонии. На каждом пересечении сооружают свои гнезда альбатросы, а в центре каждого квадрата — пингвины; таким образом, каждый альбатрос окружен четырьмя пингвинами, а каждый пингвин таким же количеством альбатросов. Пингвинье гнездо представляет собой неглубокую ямку, чтобы только не выкатилось единственное яйцо. Самка альбатроса устраивается поудобнее, сооружая из земли, морских водорослей и ракушек холмик в фут высотой и два фута диаметром. На верхушке холмика и делается гнездо.
Птицы крайне осторожны и ни на секунду не оставляют гнездо пустым в период высиживания и даже до того времени, пока птенец не окрепнет и не научится сам заботиться о себе. Пока самец летает в море, добывая пищу, самка исполняет свои обязанности и лишь по возвращении партнера решается ненадолго покинуть гнездо. Яйца вообще никогда не остаются открытыми: когда одна птица снимается с гнезда, другая тут же занимает ее место. Эта мера предосторожности вызвана повсеместным воровством в колонии: обитатели ее не прочь при первом же удобном случае стянуть друг у друга яйца.
Хотя встречаются колонии, где обитают только пингвины и альбатросы, все же в большинстве случаев в них селятся самые разные морские птицы, причем все пользуются равными правами гражданства и устраивают свои гнезда там, где найдется местечко, не посягая, однако, на те, что заняты более крупными птицами. С расстояния птичьи базары являют зрелище совершенно необыкновенное. Застилая небо, альбатросы вперемешку со всякой мелкотой постоянно тучами реют над гнездовьем, то отправляясь в море, то возвращаясь назад. В это же самое время можно наблюдать толпы пингвинов — одни спешат взад-вперед по узким тропинкам, другие с характерной, как бы военной, выправкой вышагивают по дорожке вдоль стен, окружающих колонию. Словом, при пристальном наблюдении понимаешь, что нет ничего более поразительного, нежели эта задумчивость пернатых существ, и решительно ничто не заставляет так задуматься любого нормального человека, как это зрелище.
В то самое утро, когда мы бросили якорь в гавани Рождества, первый помощник капитана м-р Паттерсон распорядился спустить шлюпки и — хотя сезон охоты еще не начался — отправился на поиски тюленей, высадив капитана и его юного родственника на голой косе к западу от бухты: им надо было по каким-то делам пробраться в глубь острова.
Капитан Гай имел при себе бутылку с запечатанным письмом и с места высадки направился к самому высокому здесь холму. Он, очевидно, намеревался оставить на вершине письмо для какого-то судна, которое должно прийти за нами. Как только они скрылись из виду, мы (я и Петерс тоже были в шлюпке с помощником капитана) пустились в путь вокруг острова, высматривая лежбище тюленей. Мы провели за этим занятием около трех недель, тщательно исследуя каждую бухточку, каждый укромный уголок не только на Земле Кергелена, но и на соседних островках. Наши труды не увенчались, однако, сколько-нибудь значительным успехом. Мы наткнулись на множество котиков, но они оказались чрезвычайно пугливы, и при всех наших стараниях мы сумели раздобыть лишь триста пятьдесят шкурок. В изобилии было и морских слонов, особенно на западном берегу, однако убили мы всего штук двадцать, да и то с большими трудностями. На островках попадалось немало обыкновенных тюленей, но мы решили их не брать. Одиннадцатого числа мы вернулись на шхуну, где уже находился капитан Гай с племянником — они вынесли весьма безотрадное впечатление из своей вылазки на остров, который, по их словам, представлял собой одно из самых неприглядных и пустынных мест на земле. Из-за нерасторопности второго помощника, забывшего вовремя послать за ними лодку, они были вынуждены две ночи провести на острове.
ГЛАВА XV
Двенадцатого ноября мы подняли паруса и, покинув гавань Рождества, взяли курс назад, к западу, оставляя по левому борту остров Марион из группы островов Крозе. Затем мы миновали остров Принс-Эдуард, который тоже остался слева, и, держась немного к северу, через пятнадцать дней достигли островов Тристан-да-Кунья под 37°8´ ю. ш. и 12°8´ з. д.
Эта группа, ныне исследованная и состоящая из трех крупных островов, была открыта португальцами; потом, в 1643 году, там побывали голландские моряки, а в 1767 — французы. Три острова образуют как бы треугольник и отстоят друг от друга миль на десять, так что между ними имеются отличные широкие проливы. Местность там возвышенная, особенно на самом Тристан-да-Кунья. Этот самый большой остров из всех имеет в окружности пятнадцать миль и так высок, что в ясную погоду хорошо виден на расстоянии восьмидесяти-девяноста миль. Северная часть острова вздымается более чем на тысячу футов над уровнем моря, образуя высокогорное плато, тянущееся до середины острова, на котором возвышается огромная коническая гора наподобие Тенерифского пика. У подножия горы растут большие деревья, но верхняя половина представляет собой голую скалу, большую часть года покрытую снегом и обычно окутанную облаками. Вокруг острова нет ни мелей, ни рифов, берега очень круты и глубина там порядочная. Только на северо-востоке расположен заливчик с отмелью из черного песка, где при южном ветре легко пристать на лодках. Тут же можно раздобыть отличной пресной воды и наловить трески и другой рыбы.
Второй по величине остров лежит к западу и носит название Недоступного. Его точные географические координаты — 37°17´ ю. ш. и 12°24´ з. д. Он имеет семь-восемь миль в окружности, и крутые, обрывистые берега придают ему непривлекательный вид. Он увенчан совершенно плоским бесплодным плато, на котором лишь кое-где произрастает низкорослый кустарник.
Соловьиный остров, самый маленький и южный из всей группы, расположен на 37°26´ ю. ш. и 12°12´ з. д. От южной его оконечности отходит цепь крохотных скалистых островков; несколько похожих островков видны также на северо-востоке. Местность на Соловьином пересеченная и бесплодная, частично перерезанная глубокой долиной.
В соответствующее время года берега островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, тюленями, котиками и всякого рода морскими птицами. Немало в этих водах и китов. Первоначально охота здесь была делом весьма легким, благодаря чему, очевидно, на эти острова частенько наведывались суда, особенно голландские и французские. В 1790 году капитан Пэттен[162]Пэттен, Колкхун, Джеффри, Гласс — первые мореплаватели, посетившие острова Тристан-да-Кунья, сведения о которых почерпнуты Э. По из Британской энциклопедии. из Филадельфии на корабле «Индустрия» достиг острова Тристан-да-Кунья и пробыл здесь семь месяцев (с августа 1790 по апрель 1791 года), занимаясь охотой на тюленей. За это время он добыл не менее пяти тысяч шестисот шкур и уверял, что мог бы без особого труда за три недели загрузить тюленьим жиром большой корабль. Если не считать нескольких диких коз, он не встретил на островах четвероногих; теперь же здесь водится множество ценнейших домашних животных, которых завезли сюда впоследствии.
Вскоре после экспедиции капитана Пэттена, если не ошибаюсь, на Тристан-да-Кунья прибыл для отдыха экипажа и пополнения запасов американский бриг «Бетси» под началом капитана Колкхуна. Они посадили на острове лук, картофель, капусту и другие овощи, которые сейчас там в обилии и произрастают.
В 1811 году на Тристане высадился некий капитан Хейвуд с «Нерея». Он встретил здесь трех американцев, которые жили на острове, занимаясь добычей тюленьих шкур и жира. Один из них, Джонатан Лэмберт, считал себя правителем острова. Он расчистил порядочный участок, акров в шестьдесят, и принялся выращивать кофейное дерево и сахарный тростник, которыми его снабдил американский консул в Рио-де-Жанейро. Со временем, однако, поселение опустело, и в 1817 году английское правительство, послав туда с мыса Доброй Надежды воинское соединение, объявило острова собственностью британской короны. Англичане, впрочем, недолго удерживали острова, хотя после эвакуации соединения две-три английских семьи поселились здесь как частные лица. 25 марта 1824 года капитан Джеффри, шедший на «Бервике», остановился здесь по пути из Лондона на Землю Ван-Димена и нашел англичанина Гласса, бывшего капрала британской артиллерии. Он назвал себя губернатором островов и имел под началом двадцать одного мужчину и трех женщин. Он весьма хвалил здешний здоровый климат и плодородную почву. Колонисты занимались преимущественно добычей тюленьих шкур и заготовкой жира морских слонов, сбывая это на небольшой, принадлежащей Глассу шхуне торговцам в Кейптауне. Когда мы прибыли сюда, «губернатор» по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и насчитывала сейчас пятьдесят шесть человек на Тристане и небольшое поселение из семи душ на Соловьином острове. Здесь мы запаслись почти всем необходимым. Глубина, составляющая около восемнадцати саженей, позволила нам подойти почти к самому берегу Тристана и без труда взять на борт овец, свиней, волов, кроликов, домашнюю птицу, коз, множество всякой рыбы и овощей. Кроме того, капитан Гай купил у Гласса пятьсот тюленьих шкур и слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока с севера и запада дули сильные ветры и стояла пасмурная погода. 5 ноября мы снялись с якоря и взяли курс на юго-запад, намереваясь провести тщательные поиски группы островов Аврора, относительно существования которых имелись самые разноречивые мнения.
Утверждают, что эти острова были открыты еще в 1762 году капитаном судна «Аврора». По словам капитана Мануэля де Оярвидо, в 1790 году на «Принцессе», принадлежащей Королевской Филиппинской компании, он прошел посреди этих островов. В 1794 году, с целью установить точное их расположение, в эти широты отправился испанский корвет «Атревида», и в сообщении Королевского Гидрографического общества в Мадриде, опубликованном в 1809 году, об этой экспедиции говорилось следующее: «В период между двадцать первым и двадцать седьмым января корвет «Атревида», курсируя в этом районе, произвел все необходимые наблюдения и определил с помощью хронометров разницу в долготе между портом Соледад на Мальвинских островах и этими островами. Островов оказалось три, все они расположены примерно на одном меридиане; центральный остров низменный, но два других видны с расстояния девяти лиг». Наблюдения, сделанные на борту «Атревиды», позволили определить точное местоположение каждого острова: северный — 52°37´24´´ ю. ш. и 47°43´15´´ з. д.; центральный — 53°2´40´´ ю. ш. и 47°55´15´´ з. д.; южный — 53°15´22´´ ю. ш. и 47°57´15´´ з. д.
Двадцать седьмого января 1820 года капитан британского морского флота Джеймс Уэддел[163]Джеймс Уэддел (1787—1834) — английский мореплаватель, совершивший в 1819—1824 гг. ряд путешествий в Южные моря, открывший несколько островов, автор книги «Путешествие к Южному полюсу в 1822—1824 гг.». тоже отправился с Земли Стэтена на поиски Авроры. Он заявил, что, тщательно обследовав не только пункты, координаты которых указал командир «Атревиды», но и близлежащие районы, он нигде не обнаружил признаков суши. Эти противоречивые заявления побудили других мореходов пускаться на поиски Авроры, и вот что странно: если некоторые, изборозди каждый дюйм в водах, где должны бы лежать эти острова, так и не наткнулись на них, то немало было и таких, которые положительно уверяли, что видели эту группу и даже подходили к берегам. Поэтому капитан Гай и хотел приложить все усилия, чтобы решить этот необыкновенный спор. [164]Среди судов, чьи экипажи утверждают, что встречали острова Авроры, можно упомянуть «Сан-Мигель» (1769), «Аврору» (1774), бриг «Жемчужина» (1779) и судно «Долорес» (1790). Все сходятся на том, что острова расположены на 53° ю. ш. (Примеч. автора.)
При переменной погоде мы продолжали наш путь на юго-запад, пока двадцатого числа не вошли в район, из-за которого разгорелся спор, — на 53°15´ ю. ш. и 47°58´ з. д., то есть оказались в пункте, где, по сведениям, лежит южный из трех островов. Не встретив ничего, мы повернули на запад и по пятьдесят третьей параллели дошли до пятидесятого меридиана. Затем мы взяли курс на север и, пройдя до пятьдесят второй параллели, поплыли на восток, держась строго заданного курса и сверяя свои координаты утром и вечером с расположением небесных тел. Достигнув меридиана, который проходит через западную оконечность острова Южная Георгия, мы снова повернули на юг и вернулись к исходной точке. Затем мы прошли по диагоналям образованного таким образом четырехугольного участка моря, постоянно держа вахтенного на марсе, и в течение трех недель, пока стояла удивительно приятная ясная погода, снова и снова тщательно повторяли наши наблюдения.
Само собой разумеется, мы были вполне удовлетворены: если какие-либо острова и существовали здесь прежде, то сейчас от них не осталось и следа. Уже после возвращения на родину я узнал, что эти же места с таким же тщанием исследовали в 1822 году капитан Джонсон на американской шхуне «Генри» и капитан Моррел на американской шхуне «Оса», и в обоих случаях выводы совпали с нашими собственными.
ГЛАВА XVI
Первоначально план капитана Гая состоял в том, чтобы, обследовав район предполагаемого архипелага Аврора, пройти Магелланов пролив и подняться вдоль западных берегов Патагонии к северу, но сведения, полученные на Тристан-да-Кунья, побудили его взять курс на юг в расчете обнаружить группу крохотных островов, расположенных будто бы на 60° ю. ш. и 41°20´ з. д. В том случае, если островов в указанных координатах не окажется, мы должны были при условии благоприятной погоды двинуться к полюсу. Соответственно 12 декабря мы подняли паруса и пошли к югу. Восемнадцатого числа мы были в районе, который указал Гласс, и трое суток бороздили эти воды, не находя никаких следов островов. Погода была преотличная, и двадцать первого мы снова взяли курс на юг, решив плыть в том направлении как можно дальше. Прежде чем приступить к этой части моего повествования, нелишне вкратце рассказать о немногочисленных попытках достичь Южного полюса, которые до сих пор предпринимались, имея в виду тех читателей, которые не следили за исследованиями этих районов.
Первую такую попытку, о которой мы знаем что-то достоверное, предпринял капитан Кук. В 1772 году он отправился на корабле «Резольюшн» к югу; его сопровождал лейтенант Фурно на корабле «Адвенчур». В декабре он достиг пятьдесят восьмой параллели под 26°57´ западной долготы. Здесь он наткнулся на узкие ледяные поля толщиной восемь-десять дюймов, простиравшиеся к северо-западу и юго-востоку. Льдины громоздились друг на друга, образуя большие торосы, так что корабли с трудом проходили между ними. По обилию птиц и другим признакам капитан Кук тогда заключил, что они находятся недалеко от суши. Несмотря на холода, он продолжал плыть к югу и на 38°14´ западной долготы прошел шестьдесят четвертую параллель. Потом значительно потеплело, подули легкие ветры, пять дней термометр показывал тридцать шесть градусов [165]По Фаренгейту.. В январе 1773 года суда капитана Кука пересекли Южный полярный круг, но дальше пройти ему не удалось: на шестьдесят седьмой параллели путь преградили сплошные ледяные поля, которые тянулись вдоль всего горизонта, насколько хватал глаз. Лед был самый разнообразный, иные льдины, протяженностью несколько миль, представляли сплошные массивы, возвышавшиеся на восемнадцать-двадцать футов над водой. Ввиду позднего времени года капитан Кук не рассчитывал обойти льды и неохотно повернул обратно, на север.
В ноябре того же года он возобновил свои исследования Антарктики. На 59°40´ южной широты он попал в сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда экспедиция находилась на 67°31´ южной широты и 142°54´ западной долготы, наступили жестокие морозы с сильными ветрами и туманами. Тут тоже было множество птиц — альбатросов, пингвинов и особенно буревестников. На 70°23´ южной широты путешественники встретили несколько больших айсбергов, а несколько позже заметили белоснежные облака на юге, что указывало на близость сплошных ледовых полей. На 71°10´ южной широты и 106°54´ западной долготы мореплавателям, как и в первый раз, преградил путь гигантский ледяной массив, застилавший всю южную часть горизонта. Северный край этого массива на добрую милю вглубь был изрезан крепко спаянными торосами, и пробиться здесь оказалось никак невозможным. За ними на какое-то расстояние тянулась сравнительно ровная поверхность, а совсем вдали виднелись цепи громоздящихся друг на друга ледяных гор. Капитан Кук решил, что эти огромные ледовые поля простираются до самого полюса или примыкают к какому-то материку. Мистер Дж.-Н. Рейнольдс, чьи самоотверженные усилия и упорство увенчались наконец подготовкой национальной экспедиции для исследования, в частности, и этих районов, говорит о попытках корабля «Резольюшн»: «Не приходится удивляться, что капитан Кук не сумел пройти дальше 71°10´; поразительно, что ему удалось достичь этого пункта на 106°54´ западной долготы. Земля Палмера лежит южнее Шетландских островов, расположенных на шестьдесят четвертой параллели, и тянется к югу и западу дальше, чем проникал кто-либо из мореплавателей. Кук считал, что достиг земли, когда льды преградили ему путь, что, очевидно, неизбежно в этом районе и в такое раннее время года, как 6 января. Мы не удивимся, если ледяные горы, им описанные, действительно примыкают к Земле Палмера или являются частью суши, лежащей дальше к югу и западу».
В 1803 году русский царь Александр послал капитанов Крузенштерна[166]Крузенштерн Иван Федорович (1770—1846) — русский мореплаватель, адмирал. Руководитель первого русского кругосветного плавания (1803—1806), во время которого были открыты многие острова. Экспедиция состояла из двух кораблей. Капитаном второго был Юрий Федорович Лисянский (1773—1837). и Лисянского в кругосветное плавание. Пробираясь к югу, они достигли только 59°58´ на 70°15´ западной долготы. В этом пункте обнаружилось сильное течение на восток. Они встретили множество китов, но льдов не видели. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что, если бы Крузенштерн прибыл сюда в более раннее время года, он непременно наткнулся бы на льды, но он оказался на указанном месте лишь в марте. Господствующие тут южные и западные ветры, а также течения отнесли дрейфующие льдины в район сплошных льдов, ограниченный с севера островом Южная Георгия, с востока Сандвичевыми и Южными Оркнейскими островами, а с запада — Южными Шетландскими.
В 1822 году капитан британского военно-морского флота Джеймс Уэддел на двух небольших суденышках проник к югу дальше всех своих предшественников, причем не испытал при этом особых трудностей. Он утверждает, что хотя во время плавания льды не раз затирали его корабли, но, когда он достиг семьдесят второй параллели, море оказалось совершенно чистым, и до 74°15´ ему попались лишь три ледяных островка. Удивительно, что, несмотря на большие стаи птиц и другие признаки близости земли, несмотря на то, что южнее Шетландских островов его марсовые заметили какие-то полоски суши, тянувшиеся к югу, капитан Уэддел отрицает предположение о существовании материка в южной полярной области.
Одиннадцатого января 1823 года капитан Бенджамин Моррел отплыл на американской шхуне «Оса» с острова Кергелен, намереваясь проникнуть как можно дальше на юг. Первого февраля он был на 64°52´ южной широты и 118°27´ восточной долготы. Вот запись в вахтенном журнале за то число: «Ветер задул со скоростью одиннадцати миль в час, и мы, воспользовавшись этим, поплыли к западу. Будучи, однако, убежденными, что чем дальше мы продвинемся от шестьдесят четвертой параллели к югу, тем менее вероятность встретить льды, мы взяли немного южнее, пересекли Южный полярный круг и достигли 69°15´ южной широты. На этой параллели замечены лишь несколько ледяных островков, но никакого сплошного льда».
Я обнаружил также следующую запись, датированную четырнадцатым марта: «Морс совершенно свободно ото льда, видели вдали с дюжину ледяных островков. Температура воздуха и воды по крайней мере на тринадцать градусов выше обычной между шестидесятой и шестьдесят «торой параллелью. Сейчас мы находимся на 70°14´ южной широты, температура воздуха — сорок семь градусов, воды — сорок четыре. В этих условиях магнитное склонение 14°27´ восточное… Мне неоднократно доводилось на разных меридианах пересекать Южный полярный круг, и каждый раз я убеждался, что чем дальше я захожу за шестьдесят пятую параллель, тем теплее становится воздух и вода и тем больше соответственно отклонение стрелки. В то же время к северу от этой параллели, скажем, между шестидесятой и шестьдесят пятой, мы часто с трудом находили проход между огромными бесчисленными айсбергами, причем иные были от мили до двух в окружности и возвышались над водой футов на пятьсот, а то и более».
Поскольку топливо и запасы воды были на исходе, поскольку на корабле не имелось хороших инструментов и близилась полярная зима, капитан Моррел был вынужден отказаться от попытки пробиться дальше на юг и повернул назад. Он высказывает убеждение, что достиг бы восемьдесят пятой параллели, а то и полюса, если бы не указанные неблагоприятные обстоятельства, заставившие его отступиться от своего намерения. Я пространно излагаю соображения капитана Морелла[167]Моррел Бенджамин (1795—1839) — американский мореплаватель, в 1822—1824 гг. на шхуне «Оса» совершил плавание в Южные моря. об этих делах для того, чтобы читатель имел возможность убедиться, в какой степени они подтверждаются моим собственным последующим опытом.
В 1831 году капитан Биско[168]Биско Джон — английский мореплаватель, совершивший плавание в Южные моря в 1830—1831 гг., состоящий на службе у господ Эндерби, лондонских владельцев китобойных судов, отправился на бриге «Лайвли» и кутере «Фуле» в Южный океан. Двадцать восьмого февраля, находясь на 66°30´ южной широты и 47°13´ восточной долготы, мореплаватели заметили землю и «среди снега отчетливо разглядели черные вершины горной гряды, тянущейся ост-зюйд-ост». Биско пробыл в этих водах весь следующий месяц, но из-за бурного моря так и не подошел к берегу ближе, чем на десять лиг. Убедившись, что продолжать исследования в это время года невозможно, он повернул на север, чтобы перезимовать на Земле Ван-Димена.
В начале 1832 года он снова отправился на юг и четвертого февраля, находясь на 67°15´ южной широты и 69°29´ западной долготы, увидел на юго-востоке землю. Она оказалась островом, примыкавшим к мысу на материке, который он обнаружил раньше. Двадцать четвертого числа ему удалось высадиться на острове, который он именем короля Вильгельма IV объявил собственностью британской короны и в честь королевы назвал островом Аделейд. Когда обстоятельства путешествия стали известны Королевскому Географическому обществу в Лондоне, ученые мужи пришли к выводу, что «от 47°30´ восточной долготы до 69°29´ западной долготы вдоль шестьдесят шестой — шестьдесят седьмой параллели тянется сплошная полоса суши».
Мистер Рейнольдс[169]Рейнольдс Джереми (1799—1858) — американский полярный исследователь. По неоднократно писал о нем в своих критических статьях в связи с путешествиями в Южные моря. замечает по этому поводу: «Мы никоим образом не можем присоединиться к этому заключению, и открытия Биско не дают к тому никаких оснований. Именно между этими двумя пунктами Уэддел проследовал к югу по меридиану, проходящему к востоку от острова Южная Георгия, от Сандвичевых, Южных Оркнейских и Южных Шетландских островов». Как будет видно, мой собственный опыт доказывает полнейшую несостоятельность вывода, к которому пришло Общество.
Таковы основные экспедиции, которые пытались проникнуть в высокие широты юга, из чего следует, что до плавания «Джейн Гай» ни один корабль не пересекал Южный полярный круг на огромных расстояниях, соответствующих тремстам градусам этой параллели. Перед нами открывалось широкое поле для исследований, и потому я с глубочайшим интересом воспринял решение капитана Гая смело идти на юг.
ГЛАВА XVII
Отказавшись от поисков островов, о которых говорил Гласе, мы четыре дня плыли к югу, не встречая на своем пути никаких льдов. В полдень двадцать шестого, когда мы были на 63°23´ южной широты и 41°25´ западной долготы, показалось несколько больших айсбергов и ледяное поле, однако небольшой протяженности. С юго-востока и северо-востока дули постоянные, но не сильные ветры. Когда поднимался западный ветер, а это случалось не часто, то он неизбежно сопровождался порывами дождя. Каждый день выпадает хоть немного снега. Двадцать седьмого термометр показывал тридцать пять градусов.
Январь, 1 дня, 1828 года. Сегодня нас со всех сторон окружили льды, которым, казалось, нет ни конца ни краю, так что перспективы наши были безрадостны. Всю вторую половину дня с северо-востока несся штормовой ветер, и большие дрейфующие льдины с такой силой ударялись о подзор кормы и руль, что мы начали опасаться серьезнейших последствий. К вечеру ветер продолжал дуть с прежней яростью, большое ледовое поле впереди нас разошлось, и нам удалось, поставив все паруса, пробиться сквозь льдины к большой полынье. Приближаясь к ней, мы постепенно убирали паруса, а выйдя на чистую воду, оставили лишь зарифленный фок.
Январь, 2 дня . Стоит вполне умеренная погода. Мы пересекли Южный полярный круг и в полдень были на 69°10´ ю. ш. и 42°20´ з. д. К югу льдов почти не видно, хотя за нами расстилаются целые поля. Соорудили что-то вроде лота, используя для этого чугунный котел на двадцать галлонов и канат в двести саженей, и нашли течение, отходящее к северу со скоростью четверть мили в час. Температура воздуха — около тридцати трех градусов. Магнитное склонение — 14°28´ восточное.
Январь, 5 дня . Продолжали путь к югу без особых препятствий. Утром, однако, находясь на 73°15´ ю. ш. и 42°10´ з. д., «Джейн Гай» снова наткнулась на огромное поле спаянного льда. Правда, дальше к югу за ним открывалось большое пространство чистой воды, и мы надеялись, что в конце концов достигнем его. Идя вдоль края ледника к востоку, мы обнаружили проход шириною в милю, который и прошли к заходу солнца. Море, в которое мы вышли, было усеяно ледяными островами, но свободно от полей, так что мы смело продвигались вперед. Холод, кажется, не усиливается, хотя часто идет снег, а иногда порывы ветра приносят град. Сегодня с юга на север пролетели огромные стаи альбатросов.
Январь, 7 дня . Море сравнительно чисто, и мы без труда следуем своим курсом. На западе заметили несколько айсбергов невероятно больших размеров, а в полдень прошли совсем рядом мимо одного из них, достигающего в высоту не менее четырехсот саженей от поверхности океана. У основания он имел, очевидно, в поперечнике три четверти лиги; по склонам его из расселин бежали потоки воды. Два дня этот гигантский остров оставался в пределах видимости и лишь затем скрылся в тумане.
Январь, 10 дня . Рано утром случилось несчастье: упал за борт человек. Это был американец по имени Питер Реденбург, уроженец Нью-Йорка, один из самых опытных матросов на шхуне. Взбираясь на нос, он поскользнулся и упал между двумя льдинами — больше мы его не видели.
В полдень мы были на 73°30´ южной широты и 40°15´ западной долготы. Сильный холод, с севера и востока то и дело налетает град. На востоке видели несколько огромных айсбергов, и вообще весь горизонт в той стороне застлан громоздящимися друг на друга рядами льда. Вечером мимо нас проплыли какие-то деревянные обломки, и снова множество направляющихся к северу птиц — исполинские буревестники, качурки, альбатросы, а также неизвестная большая птица с ярко-синим оперением. Магнитное склонение меньше, чем было до того, как мы пересекли Южный полярный круг.
Январь, 12 дня . Наше продвижение к югу снова вызывает сомнения: впереди не видно ничего, кроме бескрайнего ледяного пространства и гигантских нагромождений льда, угрожающе нависающих одно над другим. Мы повернули на восток и плыли, рассчитывая найти проход, в течение двух дней.
Январь, 14 дня . Утром достигли западной оконечности ледяного поля, преградившего нам путь, и, обойдя ее с наветренной стороны, вышли в открытое, без единой льдинки, море. Опустив наш лот на двести саженей, мы обнаружили, что течение отошло к югу со скоростью полмили в час. Температура воздуха — сорок семь градусов, воды — тридцать четыре. Плыли на юг, не встречая сколько-нибудь значительных препятствий, вплоть до шестнадцатого числа, когда в полдень На 42° зап. долготы достигли восемьдесят первой параллели с 21´. Здесь мы снова опустили лот — течение все так же шло на юг, но уже со скоростью три четверти мили в час. Магнитное склонение уменьшилось, воздух мягкий и приятный; термометр поднялся до пятидесяти одного градуса. Льда совершенно нет. Матросы теперь убеждены, что мы достигнем полюса.
Январь, 17 дня . День полон всяких происшествий. С юга летят бесчисленные стаи птиц. Нескольких мы подстрелили, и одна из них, напоминавшая пеликана, имела отличное мясо. Около полудня с верхушки мачты слева по борту заметили небольшую льдину и на ней какое-то крупное животное. Погода была ясная, безветренная, капитан Гай распорядился спустить две шлюпки, чтобы посмотреть животное вблизи. Мы с Дирком Петерсом отправились вместе с помощником капитана в большой шлюпке. Подплыв к льдине, мы увидели огромного зверя из породы полярных медведей, но гораздо больших размеров, нежели самый крупный из них. Мы были хорошо вооружены и, но колеблясь, напали на животное. Один за другим раздались выстрелы, большинство достигло цели. Пули попали зверю в голову и туловище, но, очевидно, не причинили ему вреда, ибо он бросился с льдины в воду и с раскрытой пастью поплыл к шлюпке, в которой находились мы с Петерсом. Не ожидая такого оборота дела, мы растерялись, никто не был готов сделать второй выстрел и отразить нападение, так что медведю удалось наполовину перевалиться своим огромным туловищем через планшир и схватить одного из матросов за поясницу. Только ловкость и мужество Петерса спасли нас в этих чрезвычайных обстоятельствах от гибели. Вспрыгнув на зверя, он вонзил ему в шею нож, одним ударом повредив спинной мозг. Медведь обмяк и безжизненной тушей скатился в море, увлекая за собой Петерса. Тот вскоре выплыл, ему бросили веревку, которой он перевязал медведя, и сам выбрался из воды. Мы взяли на буксир нашу добычу и с триумфом вернулись на шхуну. Мы измерили тушу медведя — она достигала полных пятнадцати футов. Шерсть его была чистейшего белого цвета, очень жесткой и слегка завивалась. Кроваво-красные глаза были побольше, чем у полярного медведя, морда тоже более округлая, напоминающая скорее бульдога. Мясо его оказалось нежным, но чересчур жирным и отдавало рыбой, хотя матросы, с аппетитом отведав его, нашли вкусным и питательным.
Едва мы успели подтянуть нашу добычу к борту шхуны, как с марса раздался радостный крик: «Земля по правому борту!» Всех охватило восторженное нетерпение, в этот момент с северо-востока как раз поднялся ветер, и скоро мы приблизились к берегу. Это был низкий скалистый островок около лиги в окружности, совершенно лишенной растительности, если не считать каких-то растений, напоминающих кактусы. Если подходить к острову с севера, то видно, как в море выдается странный утес, по форме сильно напоминающий перевязанную кипу хлопка. За этим утесом к западу есть небольшой заливчик, где наши шлюпки и пристали легко к берегу.
У нас не отняло много времени исследовать остров дюйм за дюймом, но мы не нашли ничего достойного внимания, за одним-единственным исключением. На южном берегу среди груды камней нам попался деревянный обломок, похожий на носовую часть каноэ. На нем сохранились следы резьбы, и капитан Гай уверял даже, что различает изображение черепахи, хотя я не нашел особого сходства. Кроме этого обломка лодки, — если это действительно было так, — мы не обнаружили никаких свидетельств того, что здесь ступала человеческая нога. Вдоль берега виднелось несколько маленьких льдин. Точное расположение этого островка, которому капитан в честь совладельца шхуны дал название острова Беннета, — 82°50´ южн. широты и 42°20´ зап. долготы.
Итак, мы продвинулись к югу на восемь с лишним градусов дальше, чем кто бы то ни было до нас, а перед нами по-прежнему расстилалось открытое море. По мере продвижения постепенно уменьшалось магнитное склонение и, что еще более удивительно, температура воздуха, а впоследствии и воды неуклонно повышалась. Можно сказать, что погода была даже теплой, и с севера дул устойчивый, но мягкий бриз. Небо, как правило, было безоблачно, и лишь южную часть горизонта иногда, да и то совсем ненадолго застилал легкий туман. Правда, возникли два препятствия, осложняющих наше положение: у нас было на исходе топливо, и среди членов команды появились признаки цинги. Эти обстоятельства заставляли капитана Гая всерьез подумывать о возвращении, о чем он не раз заводил речь. Что до меня, то, будучи убежден, что, следуя избранным курсом, мы вскоре наткнемся на значительную часть суши, а также имея все основания предполагать, что она окажется не голой бесплодной землей, каковая обыкновенно встречается в высоких полярных широтах, я мягко, но настойчиво внушал капитану мысль о целесообразности идти дальше к югу, по крайней мере в течение еще нескольких дней. Никогда еще перед человеком не открывалась такая волнующая возможность разгадать великую тайну Антарктического континента, и, признаюсь, робость и непредприимчивость нашего командира временами вызывали у меня негодование. Я не мог сдержаться и кое-что высказал ему на этот счет, и полагаю, что именно это и побудило его продолжить плавание. Поэтому, хотя я и не могу не скорбеть по поводу крайне горестных событий и кровопролития, которые имеют первопричиной мои настоятельные советы, в то же время я испытываю известное удовлетворение при мысли, что содействовал, пусть косвенно, тому, чтобы открыть науке одну из самых волнующих загадок, которые когда-либо завладевали ее вниманием.
ГЛАВА XVIII
Январь, 18 дня . Утром [170]Понятие «утро» и «вечер», которыми я пользуюсь, чтобы поелику возможно избежать путаницы, не должны быть понимаемы в обычном смысле. В течение уже долгого времени мы не имеем ночи, круглые сутки светит дневной свет. Числа повсюду указаны в соответствии с морским временем; а местонахождение, естественно, определялось по компасу. Хотелось бы также попутно заметить, что я не могу претендовать на безусловную точность дат и координат в первой части изложенного здесь, поскольку я начал вести дневник позже, после событий, о которых идет речь в первой части. Во многих случаях я целиком полагался на память. (Примеч. автора.) погода по-прежнему превосходная, и мы продолжаем свой путь к югу. Море совершенно спокойно, с северо-востока дует сравнительно теплый ветерок, температура воды пятьдесят три градуса. Мы снова опустили наш лот и на глубине сто пятьдесят саженей снова обнаружили течение в южном направлении со скоростью одной мили в час. Это постоянное движение воды и ветра к югу вызвало на шхуне разговоры и даже посеяло тревогу, что, как я заметил, произвело впечатление на капитана Гая. Поскольку он был весьма чувствителен к шуткам, мне, однако, удалось в конце концов высмеять его страхи. Склонение компаса совсем незначительно. В течение дня видели несколько больших китов, над судном то и дело проносились альбатросы. Подобрали в море какой-то куст с множеством красных ягод, напоминающих ягоды боярышника, а также труп неизвестного сухопутного животного. В длину оно достигало трех футов, но в высоту было всего лишь шесть дюймов, имело очень короткие ноги и длинные когти на лапах ярко-алого цвета, по виду напоминающие коралл. Туловище его покрыто прямой шелковистой белоснежной шерстью. Хвост фута в полтора длиной суживался к концу, как у крысы. Голова напоминала кошачью, с той только разницей, что уши висели, точно у собаки. Клыки у животного такие же ярко-алые, как и когти.
Январь, 19 дня . Сегодня море приобрело какой-то необыкновенно темный цвет. На 83°20´ южн. широты и 43°5´ зап. долготы впередсмотрящий снова заметил землю; подойдя поближе, мы увидели, что это — остров, являющийся частью какого-то архипелага. Берега его были обрывистые, а внутренняя часть казалась покрытой лесами, чему мы немало порадовались. Часа четыре спустя мы отдали якорь на глубине десять саженей, на песчаном дне, в лиге от берега, так как высокий прибой и сильная толчея волн то тут, то там вряд ли позволили бы судну подойти ближе к острову. Затем спустили на воду две самые большие шлюпки, и хорошо вооруженный отряд (в котором находились и мы с Петерсом) отправился искать проход в рифах, которые, казалось, опоясывали весь остров. Через некоторое время мы вошли в какой-то залив и тут увидели, как с берега отваливают четыре больших каноэ, наполненные людьми, которые, судя по всему, были вооружены. Мы ждали, пока они подплывут ближе, и так как каноэ двигались очень быстро, то вскоре они оказались в пределах слышимости. Капитан Гай привязал к веслу белый платок, туземцы тоже остановились и все разом принялись громко тараторить, иногда выкрикивая что-то непонятное. Нам удалось, лишь различить восклицания «Аннаму-му!» и «Лама-лама!». Туземцы не умолкали по крайней мере полчаса, зато мы получили за это время возможность как следует разглядеть их.
Всего в четырех челнах, которые в длину достигали пятнадцати футов, а в ширину были футов пять, насчитывалось сто десять человек. Ростом дикари не отличались от обычного европейца, но были более крепкого сложения. Кожа у них блестящая, черная, волосы — густые, длинные и курчавые. Одеты они в шкуры неизвестного животного с мягкой и косматой черной шерстью, причем последние прилажены не без умения, мехом внутрь, и лишь у шеи, запястьев и на лодыжках вывернуты наружу. Оружием туземцам служили главным образом дубинки из какого-то темного и, очевидно, тяжелого дерева. Некоторые, правда, имели копья с кремневыми наконечниками, а также пращи. На дне челноков грудой лежали черные камни величиной с большое яйцо.
Когда дикари покончили с приветствиями (было ясно, что их тарабарщина предназначалась именно для этой цели), один из них, по всей видимости вождь, встал на носу своего челна и знаками предложил нам приблизиться. Решив, что осмотрительнее держаться на расстоянии, ибо дикари вчетверо превосходили нас числом, мы сделали вид, что не поняли его знаков. Тогда вождь на своем каноэ двинулся нам навстречу, приказав трем остальным челнам оставаться на месте. Подплыви вплотную к нам, он перепрыгнул на нашу шлюпку и уселся рядом с капитаном Гаем, показывая рукой на шхуну и повторяя: «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Мы стали грести к судну, а четыре каноэ на расстоянии следовали за нами.
Едва мы пристали к шхуне, вождь обнаружил все признаки крайнего удивления и восторга: заливаясь бурным смехом, он хлопал в ладоши, ударял себя по ляжкам, стучал в грудь. Его спутники присоединились к веселью, и несколько минут стоял оглушительный гам. Когда они наконец угомонились, капитан Гай в качестве меры предосторожности приказал поднять шлюпки наверх и знаками дал понять вождю (его звали, как мы вскоре выяснили, Ту-Уит, то есть Хитроумный), что может принять на борт не более двадцати человек за один раз. Того вполне устроило это условие, и он отдал какие-то распоряжения своим людям, когда приблизилось его каноэ; остальные три держались ярдах в пятидесяти. Два десятка дикарей забрались по трапу на шхуну и принялись шнырять по палубе, с любопытством разглядывая каждый предмет корабельного хозяйства и вообще чувствуя себя как дома.
Не оставалось сомнений, что они никогда не видели белого человека, и наша белая кожа, кажется, вызывала у них отвращение. Шхуну они воспринимали как живое существо и старались держать копья остриями вверх, судя по всему, чтобы не задеть ее и не причинить боль. Ту-Уит выкинул одну забавную штуку, и матросы немало потешались над ним. Наш кок колол у камбуза дрова и случайно вогнал топор в палубу, оставив порядочную зарубку. Вождь немедленно подбежал к нему, оттолкнул довольно бесцеремонно в сторону и, издавая то ли стоны, то ли вопли, что, очевидно, должно было свидетельствовать о его сочувствии раненой шхуне, принялся гладить зарубку рукой и поливать ее водой из стоявшего поблизости ведра. Мы никак не ожидали такой степени невежества, а я не мог не подумать, что оно отчасти и притворное.
Когда наши гости удовлетворили, насколько возможно, свое любопытство в отношении всего, что находилось на палубе, им позволили спуститься вниз, где их удивление превзошло все границы. Изумление их было слишком глубоко, чтобы выразить его словами, и они бродили в полном молчании, изредка прерываемом негромкими восклицаниями. Затем им показали и разрешили внимательно осмотреть ружья, что, конечно, дало им много пищи для размышлений. Я убежден, что дикари нисколько не догадывались о действительном назначении ружей и принимали их за какие-то священные предметы, видя, как бережно мы обращаемся с ними и как внимательно следим за их движениями, когда они берут их в руки.
При виде пушек изумление их удвоилось. Они приблизились к ним с величайшим почтением и трепетом, но от подробного осмотра отказались. В кают-компании висели два зеркала, и вот тут-то изумление их достигло предела. Ту-Уит первым из них вошел в кают-компанию; он был уже в середине помещения, стоя лицом к одному зеркалу и спиной к другому, прежде чем заметил их. Когда он поднял глаза и увидел свое отражение в зеркале, я подумал, что он сойдет с ума, но когда, резко повернувшись, он бросился вон и тут же вторично увидел себя в зеркале, висящем напротив, — я испугался, что он тут же испустит дух. Никакие уговоры посмотреть еще раз на зеркало не подействовали — он бросился на пол и лежал без движения, закрыв лицо руками, так что мы были вынуждены вынести его на палубу.
Так, группами по двадцать человек, все дикари поочередно побывали на шхуне, и лишь Ту-Уит оставался на борту все это время. Наши гости не предпринимали никаких попыток стянуть что-либо, да и после их отплытия мы не обнаружили ни одной пропажи. Вели они себя вполне дружелюбно. Были, правда, в их поведении кое-какие странности, которые мы никак не могли взять в толк, — например, они ни за что не хотели приближаться к нескольким самым безобидным предметам, таким, как паруса, яйцо, открытая книга или миска с мукой. Мы попытались выяснить, нет ли у них каких-либо предметов для торговли, но они плохо понимали нас. Тем не менее нам удалось узнать, что острова, к большому нашему удивлению, изобилуют большими галапагосскими черепахами, одну из которых мы уже видели в каноэ Ту-Уита. У одного из дикарей в руках было несколько трепангов — он жадно пожирал их в сыром виде. Эти аномалии (если принять во внимание широту, на которой мы находились) вызвали у капитана Гая желание тщательно исследовать остров с целью извлечь выгоду из своих открытий. Что касается меня, то, как мне ни хотелось побольше узнать об этих островах, все же я был настроен без промедления продолжать наше путешествие к югу. Погода стояла чудесная, но сколько она продержится — было неизвестно. Достичь восемьдесят четвертой параллели, иметь перед собой и открытое море, и сильное течение к югу, и попутный ветер, и в то же время слышать о намерении остаться здесь дольше, чем это совершенно необходимо для отдыха команды и пополнения запасов топлива и провизии, — было от чего потерять терпение! Я доказывал капитану, что мы можем зайти на острова на обратном пути и даже перезимовать здесь, если нас задержат льды. В конце концов он согласился со мной (я и сам хорошенько не знаю, каким образом приобрел над ним такое влияние), и было решено, что даже если мы обнаружим трепангов, то пробудем здесь неделю, чтобы восстановить силы, а затем, пока есть возможность, двинемся дальше на юг. Мы сделали соответствующие приготовления, провели с помощью Ту-Уита «Джейн» между рифами и встали на якорь в миле от берега у юго-восточной оконечности самого крупного в группе острова, в удобной, окруженной со всех сторон сушей бухте глубиной в десять саженей и с черным песчаным дном. В глубине бухты, как нам сообщили, были три источника превосходной воды, а кругом стояли леса. Четыре каноэ с туземцами следовали за нами, держась, однако, на почтительном расстоянии. Сам Ту-Уит был на шхуне и, когда мы бросили якорь, пригласил нас спуститься на берег и посетить его деревню в глубине острова. Капитан Гай принял предложение; оставив десяток дикарей в качестве заложников, мы группой из двенадцати человек приготовились сопровождать вождя. Хорошенько вооружившись, мы отнюдь не показывали вида, что не доверяем хозяевам. Во избежание всяких неожиданностей на шхуне выкатили пушки, подняли абордажные сети и приняли другие меры предосторожности. Помощник капитана получил указания не допускать в наше отсутствие ни единого человека на борт шхуны и, если через двенадцать часов мы не вернемся, послать на поиски вокруг острова шлюпку с фальконетом.
Мы шли в глубь острова, и с каждым шагом в нас крепло убеждение, что мы попали в страну, совершенно отличную от тех, где ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было незнакомо и неизвестно нам. Деревья ничем не напоминали растительность тропического, умеренного, суровых полярных поясов и были совершенно не похожи на произрастающие в южных широтах, которые мы уже прошли. Скалы и те по составу, строению и цвету были не такие, как обыкновенно. И, что уж совсем невероятно, даже реки имели так мало общего с реками в других климатических зонах, что мы поначалу не решались отведать здешней воды и вообще не могли поверить, что ее особые свойства — естественного происхождения. Ту-Уит со своими спутниками остановился у небольшого ручейка, пересекавшего нашу тропу, — первого на пути, где мы могли утолить жажду. Вода была какого-то странного вида, и мы не последовали его примеру, предположив, что она загрязнена, и лишь впоследствии мы узнали, что она именно такова на всех островах архипелага. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию, Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, но не растекалась свободно, как обычно бывает с последней, за исключением тех случаев, когда падала с высоты. И тем не менее остается фактом, что она была столь же мягкая и прозрачная, как и самая чистая известковая вода на свете, — разница была только во внешнем виде. С первого взгляда, и особенно на ровном месте, она по плотности напоминала гуммиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные качества. Она отнюдь не была бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета; она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как переливаются тона у шелка. Это изменение красок так же поразило наше воображение, как и зеркало невежественный ум Ту-Уита. Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различимых струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе. Это явление было первым звеном в длинной цепи кажущихся чудес, которые волею судеб окружали меня в течение длительного времени.
ГЛАВА XIX
Нам понадобилось почти три часа, чтобы добраться до деревни, ибо располагалась она в добрых девяти милях от моря, а тропа проходила по пересеченной местности. По мере того как мы продвигались в глубь острова, почти у каждого поворота, как бы случайно, к отряду Ту-Уита, состоявшему из ста десяти туземцев, которые находились в челнах, примыкали небольшие группы от двух до шести-семи человек. Мне почудился в этом определенный замысел, который вызвал у меня тревогу, чем я и поделился с капитаном Гаем. Отступать, однако, было поздно, и мы решили, что всего безопаснее делать вид, будто мы вполне доверяемся Ту-Уиту. Поэтому мы продолжали идти плотной группой, не давая дикарям разделить нас и зорко следя за их передвижениями.
Пройдя затем какое-то ущелье с крутыми склонами, мы наконец достигли местности, где, как нам сказали, и располагалось единственное поселение на острове. Когда оно показалось вдали, вождь что-то закричал, повторяя слово «Клок-клок», что означало, очевидно, название деревни или родовое понятие деревни вообще.
Жилища являли собой самое жалкое зрелище и, в отличие от построек даже у самых низших рас, известных человечеству, не имели никакого единообразия. Некоторые, принадлежащие, как мы узнали, «вампу» или «ямпу», то есть старшинам острова, представляли собой дерево, срубленное на высоте фута четыре от земли, с накинутой поверх сучьев большой черной шкурой, свободно свисающей до земли. Под ней и ютились дикари. Другие были устроены из ветвей с засохшей листвой, прислоненных под углом сорок пять градусов к бесформенным кучам глины, кое-как накиданным до высоты в пять-шесть футов. Третьи были простые ямы, вырытые в земле, также покрытые ветвями, которые туземцы, проникая в жилище, отодвигали в сторону, а потом возвращали на место. Попадались и такие, которые были сооружены на деревьях, среди густых ветвей, причем верхние частично подрубались и пригибались книзу, чтобы сделать лучше укрытие от непогоды. Большинство жилищ представляло собой неглубокие пещеры, выдолбленные в крутых уступах гряды из темного камня, которая с трех сторон окружала деревню. Перед каждой пещерой валялся небольшой валун, которым обитатель, покидая свое жилище, аккуратно заставлял вход, — и я так и не понял, зачем это делается, ибо валун закрывал самое большее лишь треть отверстия.
Деревня — если можно так назвать это жалкое поселение — располагалась в неглубокой долине, попасть в которую можно только с юга, так как доступ с остальных сторон преграждала упомянутая крутая гряда. Посреди долины бежал журчащий ручей с той же волшебной водой, которую я уже описывал. Подле жилищ мы увидели несколько неизвестных животных, по-видимому, прирученных. Самые большие из них по строению туловища и головы напоминали обыкновенную нашу свинью, однако имели пушистый хвост и тонкие, как у антилопы, ноги. Передвигались они медленно и неуклюже, и мы ни разу не видели, чтобы они бегали. Были также другие животные, похожие на этих, однако гораздо большей длины и с черной шерстью. Вокруг во множестве копошилась домашняя птица, которая, по всей видимости, и служила туземцам главной пищей. К нашему удивлению мы заметили среди птиц и черных альбатросов, очевидно совершенно одомашненных: временами они летали в море за добычей, но неизменно возвращались, как домой, в деревню. Южный берег острова они использовали для гнездования и размножения. Здесь к ним присоединялись, как это часто случается, их друзья пеликаны, однако последние никоим образом не допускались к жилищам дикарей. В числе другой домашней птицы можно упомянуть утку, мало чем отличающуюся от той, что водится у нас, черного баклана и какую-то птицу, отдаленно напоминающую сарыча, но не хищную. Остров, по всей видимости, изобиловал рыбой. Во время посещения деревни мы видели много сушеной семги, трески, голубых дельфинов, макрели, скатов, морских угрей, лобанов, морских языков, триглы, мерлузы, камбалы и всяких других разновидностей рыбы. Мы обратили внимание, что большая часть рыбы похожа на ту, что водится у островов Лорда Окленда, то есть на такой низкой широте, как пятьдесят первая параллель. Немало было здесь и галапагосских черепах. Дикие животные нам попадались редко, да и то некрупные и неизвестных пород. Раз или два мы встретили на тропе змей страшного вида, но туземцы не обращали на них никакого внимания, из чего мы заключили, что они не ядовитые.
Когда мы с Ту-Уитом и его отрядом приблизились к деревне, навстречу нам с громкими криками, в которых мы различили неизменные «Анаму-му!» и «Лама-лама!», высыпала огромная толпа. Нас удивило, что, за одним-двумя исключениями, обитатели деревни были совершенно голые, а шкуры носили только те, которые находились в челнах. В их же распоряжении было, очевидно, и все оружие, ибо встречавшие нас были безоружны. В толпе было очень много детей и женщин, причем последние были не лишены своеобразной прелести; высокие, стройные, с хорошей фигурой, с изящной и свободной осанкой, чего не встретишь у женщин в цивилизованном обществе. Внешность их портили губы, толстые и малоподвижные, как и у мужчин, так что зубы не обнажались даже при улыбке. Волосы у них, однако, были мягче, чем у мужчин. В толпе голых обитателей деревни выделялось человек десять, которые были одеты, как и воины Ту-Уита, в черные шкуры и вооружены копьями и увесистыми дубинками. Судя по всему, это были влиятельные люди, к которым неизменно обращались с почтительным титулом «вампу». Они-то и жили в дворцах из черных шкур. Обиталище Ту-Уита располагалось в центре деревни, было просторнее и устроено лучше, чем другие жилища такого же рода. Деревья, служившие подпоркой, были срублены на расстоянии футов двенадцати от комля, а пониже оставлено несколько ветвей в качестве распорок для крыши, которая состояла из четырех скрепленных деревянными иглами больших шкур, которые держались внизу кольями, вбитыми в землю. Сухие листья застилали ковром пол.
Нас торжественно провели в эту хижину, а за нами втиснулись в огромном количестве и дикари. Ту-Уит уселся прямо на кучу листьев и знаком предложил последовать его примеру, что мы и вынуждены были сделать, оказавшись в весьма невыгодном, если не критическом, положении. Мы, двенадцать человек, сидели на земле, а вокруг на корточках расположились человек до сорока дикарей, сгрудившись так, что в случае необходимости мы не смогли бы ни пустить в ход оружие, ни даже подняться на ноги. Теснота была неимоверная не только в хижине, но и снаружи, где собралось, пожалуй, все население острова, и только сердитые оклики Ту-Уита помешали толпе затоптать нас до смерти. Главным залогом нашей безопасности было присутствие среди нас Ту-Уита, и мы решили держаться как можно ближе к нему, дабы иметь возможность сделать роковой выбор, покончив с ним на месте при первом же проявлении враждебного умысла.
После должной суматохи и шума установилась сравнительная тишина, и вождь обратился к нам с пространной речью, напоминающей произнесенную им с каноэ, с той только разницей, что восклицание «Анаму-му!» повторялось немного чаще и громче, чем «Лама-лама!». Мы выслушали его в глубоком молчании до конца, а затем Капитан Гай держал ответную речь, заверив вождя в неизменной преданности и расположении и завершив ее тем, что сделал хозяину презент — несколько ниток голубых бус и нож. При виде бус правитель, нам на удивление, презрительно вздернул голову, зато нож доставил ему истинное удовольствие, и он тут же распорядился насчет обеда. Еду подали в хижину через головы всех собравшихся — она представляла собой еще дымящиеся внутренности неизвестного животного, — быть может, одной из тех тонконогих свиней, которых мы видели, подходя к деревне. Заметив, что мы не знаем, как приступить, он, подавая нам пример, принялся пожирать ярд за ярдом соблазнительно разложенные кишки, — мы решительно не могли выдержать это зрелище и обнаружили явные позывы к рвоте, каковые вызвали у его величества удивление, почти равное тому, какое он обнаружил, поглядев в зеркало. Как бы то ни было, мы наотрез отказались от предложенных деликатесов, сославшись на отсутствие аппетита, поскольку совсем недавно имели плотный dejeuner [171]Завтрак (фр.)..
Когда правитель покончил с едой, мы начали расспросы самыми хитроумными способами, какие приходили в голову, пытаясь выяснить, какие товары имеются на острове, и могли бы мы рассчитывать на выгодную сделку. В конце концов вождь как будто понял, чего мы от него добиваемся, и вызвался сопровождать нас к той части побережья, где, по его уверениям, в изобилии водятся трепанги — тут он показал на них. Мы были рады подвернувшемуся случаю вырваться из толпы и изъявили готовность отправиться немедленно. Мы вышли из хижины и, сопровождаемые всеми обитателями деревни, последовали за вождем на юго-восточную оконечность острова, недалеко от залива, где стояла на якоре наша шхуна. Мы прождали с полчаса, пока дикари не перегнали сюда четверку челнов. Наша группа заняла места в одном из них, и нас повезли вдоль гряды рифов, о которых я упоминал, а потом дальше, к следующей гряде, где мы и увидали такое количество трепангов, какого не видели старейшие среди нас мореходы даже в тех, более низких широтах, какие особенно знамениты этим промыслом. Мы пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы убедиться, что при желании этой ценнейшей добычей можно без труда загрузить дюжину судов. Затем поднялись на шхуну и расстались с Ту-Уитом, взяв с него обещание в течение суток доставить нам уток и галапагосских черепах, сколько поднимут его каноэ. Во время вылазки на остров мы не заметили в поведении дикарей ничего такого, что могло бы вызвать подозрения, за единственным, пожалуй, исключением — той систематичности, с какой пополнялся их отряд по пути в деревню.
ГЛАВА XX
Вождь дикарей оказался верным своему слову, и скоро мы имели обильный запас свежей провизии. Черепаха была на редкость вкусна, а утка, с ее нежным и сочным мясом, превосходила все лучшие виды нашей дичи. Кроме того, дикари, когда мы втолковали им, что нам нужно еще, привезли много коричневого сельдерея и лука, а также полный челн свежей и вяленой рыбы. Сельдерей был настоящим лакомством, а лук — незаменимым средством для тех матросов, у которых появились симптомы цинги. В самое короткое время у нас совсем не осталось больных. Запаслись мы вдоволь и другими свежими продуктами, среди которых можно упомянуть какую-то разновидность моллюска, напоминающего формой мидию, но имеющего вкус устрицы, креветки, яйца альбатроса и какой-то другой птицы с темной скорлупой. Помимо всего прочего мы взяли на борт порядочный запас мяса той самой свиньи, о которой я упоминал. Большинству оно показалось вполне съедобным, но лично я решил, что оно отдает рыбой и вообще невкусно. Взамен мы дали туземцам бусы, медные безделушки, гвозди, ножи, куски красной материи, так что они остались вполне довольны сделкой. На берегу под самыми дулами наших пушек мы открыли настоящий рынок, торговля шла, к взаимному удовольствию, бойко и без особого беспорядка, чего мы никак не ожидали, судя по поведению дикарей в деревне Клок-клок.
Итак, несколько дней дела шли вполне полюбовно, группы туземцев часто бывали на шхуне, а группы наших людей сходили на берег, совершая длинные прогулки в глубь острова и не испытывая ни малейших неприятностей. Капитан Гай понял, что благодаря дружескому расположению островитян и готовности всячески помочь нам в сборе трепангов он без труда загрузит ими шхуну, и потому решил вступить в переговоры с Ту-Уитом относительно постройки подходящих помещений для заготовления товара, а также найма его самого и его соплеменников для собирания как можно большего количества моллюска, он же тем временем воспользуется хорошей погодой и продолжит плавание к полюсу. Когда он изложил этот план Ту-Уиту, тот, казалось, был готов прийти к соглашению. Стороны, к обоюдному удовольствию, заключили сделку, договорившись, что после необходимой подготовки, то есть выбора и расчистки хорошего участка, возведения части строений и другой работы, в которой потребуется участие всей команды, шхуна проследует по намеченному маршруту, а на острове останутся трое наших людей, которые будут надзирать за постройкой и обучать туземцев сушке трепангов. Вознаграждение дикарям зависело от их старательности в наше отсутствие. За несколько пикулей высушенных трепангов, которые будут готовы к нашему возвращению, им полагалось получить определенное количество бус, ножей, красной материи и тому подобных товаров.
Поскольку читателям, может быть, небезынтересно узнать об этом ценном животном и способе его приготовления для продажи, вполне уместно сообщить здесь соответствующие сведения. Нижеследующее обстоятельное изложение предмета заимствовано из недавнего отчета о путешествии в Южный океан:
«Этот моллюск, обитающий в Индийском океане, известен под промысловым французским названием bouche tie mer (морское лакомство). Если я не ошибаюсь, знаменитый Кювье[172]Кювье Жорж (1769—1832) — французский естествоиспытатель. Имеется в виду его книга «Записки об истории и анатомии моллюсков» (1817). называет его gasteropoda pulmonifera. Он в изобилии водится и на побережьях тихоокеанских островов, где его собирают специально для китайских купцов, у которых он идет по очень высокой цене, не уступающей, пожалуй, стоимости съедобных птичьих гнезд, о которых так много нынче говорят и которые, очевидно, как раз и делаются из студенистого вещества, доставаемого некоторыми ласточками из тела этих своеобразных животных. У них нет ни раковины, ни ног, вообще никаких конечностей, а только ротовое и заднепроходное отверстия; посредством гибких колец, как у гусениц или червей, они заползают в мелководье, где во время отлива их и настигают ласточки; вонзая свой острый клюв в их нежное тельце, они вытягивают клейкое волокнистое вещество, которое, засыхая, образует прочные стенки гнезд. Отсюда и название gasteropoda pulmonifera.
Эти моллюски имеют продолговатую форму и бывают самых разных размеров — от трех до восемнадцати дюймов в длину, а я видел несколько особей, которые достигали двух футов. В поперечнике они почти круглые, от одного до восьми дюймов толщиной, но немного приплюснутые с одной стороны, той самой, которая обращена ко дну. Они собираются в неглубоких местах в определенное время года — очевидно, для размножения, так как часто их находят парами. Когда солнце сильно нагревает воду, они движутся к берегу и нередко заползают на такие мелкие места, что при отливе остаются на суше под лучами солнца. Мы ни разу не видели на мелководье потомства этих моллюсков, — наверное, его оставляют на глубине, откуда выползают только взрослые особи. Питаются они преимущественно теми видами зоофитов, из которых образуются кораллы.
Трепангов собирают обычно на глубине трех-четырех футов. На берегу их надрезают с одного конца ножом (величина надреза зависит от размера моллюска) и через это отверстие выдавливают внутренности, которые ничем почти не отличаются от внутренностей других низших обитателей морских глубин. Затем их промывают, проваривают при определенной температуре, которая не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой, зарывают на четыре часа в землю, снова кипятят в течение недолгого времени, после чего сушат на огне или на солнце. Особенно ценятся те, что провялены на солнце, но за то время, которое требуется, чтобы приготовить один пикуль (133 1/3 фунта) на солнце, на огне можно приготовить тридцать пикулей. Хорошо провяленные моллюски могут безболезненно сохраняться в сухом месте два-три года, правда, раз в несколько месяцев, скажем, четырежды в год, необходимо следить, не завелась ли там сырость.
Как я уже сказал, китайцы считают трепангов особым деликатесом, полагая, что он самым чудесным образом придает силы, обновляет организм и восстанавливает энергию при половом истощении. В Кантоне первый сорт продается по девяносто долларов за пикуль, второй сорт стоит семьдесят пять долларов, третий сорт — пятьдесят, четвертый — тридцать, пятый — двадцать, шестой — двенадцать, седьмой — восемь и восьмой сорт — четыре доллара за пикуль. Небольшие партии этого товара нередко отправляют в Манилу, Сингапур и Батавию».
Соглашение, таким образом, вступило в силу, и мы немедля сгрузили на берег все необходимое для расчистки участка и возведения построек. Около восточного берега залива, где было достаточно леса и воды, и на сравнительно небольшом расстоянии от главных рифов, где было намечено собирать трепангов, была выбрана большая ровная площадка. Затем все усердно принялись за работу и вскорости, к величайшему удивлению дикарей, свалили несколько больших деревьев, быстро обтесали бревна для каркасов, и через два-три дня постройки выросли уже настолько, что мы спокойно могли поручить закончить эту работу троим матросам, которые добровольно вызвались остаться на острове. Это были Джон Карсон, Элфред Харрис и Петерсон, все трое, если не ошибаюсь, уроженцы Лондона.
К концу месяца все было готово для отплытия. Мы, правда, согласились нанести прощальный визит в деревню, и Ту-Уит так упорно настаивал на том, чтобы мы сдержали свое обещание, что нам показалось неблагоразумным рисковать, оскорбляя его своим отказом. Убежден, что в те дни ни у кого из нас не было ни тени сомнения в добропорядочности дикарей. Они были неизменно обходительны, охотно, помогали нам в работе, предлагали всякую всячину, причем часто бесплатно, и, с другой стороны, не стянули у нас ни единой вещицы, хотя по бурным проявлениям восторга, с каким они принимали наши подарки, можно судить, как высоко они ценили имеющиеся у нас товары. Особой услужливостью во всех отношениях отличались женщины, и вообще мы были бы самыми неблагодарными существами на свете, если бы допустили мысль о вероломстве людей, которые так хорошо относились к нам. Однако потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что за этим внешне дружеским расположением таился глубоко продуманный план нашего уничтожения и что островитяне, которые столь высоко стояли в нашем мнении, оказались самыми жестокими, коварными и кровожадными негодяями, какие когда-либо оскверняли лик нашей планеты.
Первого февраля мы сошли на берег, чтобы отправиться в деревню. Хотя, как уже было сказано, мы не питали ни малейшего подозрения в отношении туземцев, мы отнюдь не пренебрегли самыми необходимыми мерами предосторожности. На шхуне осталось шесть человек, и им были даны указания не покидать палубы и ни под каким видом не допускать приближения туземцев к судну. Мы подняли абордажные сети, забили в пушки двойные заряды картечи, зарядили фальконеты мушкетными пулями. Шхуна стояла с якорем на панере (якорный канат был выбран до предела) в миле от берега, так что ни единый челн не мог подойти незамеченным и не попасть немедленно в иоле обстрела наших фальконетов.
Без шести матросов, оставленных на шхуне, наша партия насчитывала тридцать два человека. Мы были вооружены до зубов ружьями, пистолетами и тесаками, у каждого, кроме того, был длинный морской нож, напоминающий охотничий, столь распространенный у нас в западных и южных штатах. На берегу нас встретили около сотни воинов в черных шкурах, чтобы сопровождать нас в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были безоружны, и на наш вопрос Ту-Уит коротко ответил, что «Матти нон уи па па си», что означало: там, где все братья, зачем оружие. Мы приняли его слова за чистую монету и отправились в путь.
Мы миновали источник и ручей, о которых я упоминал, и вошли в узкое ущелье, ведущее сквозь гряду скал из мыльного камня, окружающую деревню. Ущелье было неровное, каменистое, так что мы с трудом пробрались сквозь него во время нашего первого посещения Клок-клок. Общая его длина — полторы-две мили; очевидно, в стародавние времена это было ложе огромного потока, оно шло немыслимыми изломами между утесами, так что чуть ли не каждые двадцать ярдов тропа круто поворачивала в сторону. Почти отвесные склоны на всем протяжении наверняка достигали семидесяти-восьмидесяти футов по вертикали, а в иных местах вздымались до головокружительной высоты, так заслоняя небо, что на тропу едва проникал дневной свет. Ширина ущелья была около сорока футов, но временами резко уменьшалась, и там могло пройти лишь пять-шесть человек в ряд. Короче говоря, на целом свете не найти было более удобного места для устройства засады, и, входя в ущелье, мы, естественно, тщательно осмотрели наше оружие. Когда я думаю о том, какую чудовищную глупость мы совершили, приходится только удивляться, как мы вообще рискнули отдаться во власть дикарей, позволив им во время продвижения по ущелью идти и впереди и позади нас. Тем не менее мы слепо подчинились этому порядку, доверчиво полагаясь на нашу численность, на то, что Ту-Уит и его люди не были вооружены, на действенность нашего огнестрельного оружия, еще неизвестного дикарям, и главным образом на то, что в течение долгого времени эти гнусные негодяи выставляли себя нашими друзьями. Пятеро или шестеро из них шли впереди словно показывая дорогу и с нарочитым усердием расчищая тропу от больших камней и веток. Затем следовала наша группа. Мы шли плотным строем, следя за тем, чтобы нас не разъединили. Соблюдая необыкновенный порядок и торжественность, шествие замыкал основной отряд дикарей.
Дирк Петерс, матрос Уилсон Аллен и я шли справа от наших товарищей, рассматривая необычайное залегание пород в нависающем склоне. Наше внимание привлекла какая-то расселина, достаточно широкая, чтобы пробраться одному человеку, и уходившая прямо футов на восемнадцать-двадцать вглубь, а затем поворачивающая налево. Высота ее, насколько мы могли судить со своего места, была, наверное, футов шестьдесят или семьдесят. Из трещин на склонах расселины торчало несколько кустов с плодами, напоминающими наши лесные орехи. Мне захотелось отведать их — я быстро пролез в расселину, сорвал целую горсть, но, повернувшись, увидел, что Петерс и Аллен последовали моему примеру. Я сказал, что им надо вернуться, потому что двоим здесь не разойтись, а орехов хватит, чтобы попробовать всем. Они стали выбираться наружу, Аллен был уже у края расселины, как вдруг я почувствовал сильнейший, ни с чем не сравнимый толчок, внушивший мне смутную мысль, — если я вообще успел о чем-то подумать в тот момент, — что земной шар раскололся и настал конец света.
ГЛАВА XXI
Когда ко мне вернулась способность соображать, я понял, что лежу, задыхаясь, в кромешной тьме, заваленный землей, которая продолжает сыпаться со всех сторон, грозя похоронить меня заживо. Ужаснувшись, я попытался встать на ноги, что мне в конце концов удалось. Я замер на несколько секунд, стараясь сообразить, где я и что со мной произошло. Внезапно поблизости раздались глухие стоны, а затем и едва различимый голос Петерса, молящий о помощи. Я протиснулся на шаг или два вперед и, споткнувшись, свалился прямо на моего спутника, засыпанного землей по пояс, так что он никак не мог выбраться. Собрав все силы, я раскидал землю и помог ему освободиться.
Когда мы оправились от неожиданности и страха и смогли поразмыслить над случившимся, то оба пришли к выводу, что стены расселины, куда мы проникли, обрушились — то ли в результате подземного толчка, то ли под тяжестью собственного веса — и что мы погибли, погребены заживо. Охваченные смертельным ужасом, мы на какое-то время слабовольно поддались отчаянию, которое трудно понять тем, кто не оказывался в подобном положении. Я твердо убежден, что никакое бедствие, выпадающее человеку на его жизненном пути, не причиняет таких безысходных душевных и физических мук, как случай с нами — погребение заживо. Кромешный мрак, окружающий жертву, невозможность вздохнуть полной грудью, удушающие запахи сырой земли в совокупности со страшным сознанием, что находишься за гранью всякой надежды, что ты мертвец, засыпанный в отведенной тебе могиле, — все это вселяет в душу такую жуть, какую не вынести, не постичь умом.
В конце концов Петерс предложил определить размеры катастрофы и исследовать нашу темницу; не исключено, заметил он, что осталось какое-нибудь отверстие, сквозь которое можно выбраться на свободу. Я ухватился за эту ниточку надежды и, напрягая все силы, попытался пробиться сквозь осыпающуюся кругом землю. И действительно, едва я сделал один-единственный шаг, как заметил тусклый свет, означавший, что, уж во всяком случае, мы не погибнем от удушья. Это воодушевило нас и позволило надеяться на лучшее. Когда мы перебрались через груду земли и камней, которая преграждала нам путь к свету, стало легче двигаться и дышать: мы сильно мучились от недостатка воздуха. Скоро мы могли уже кое-как различать все вокруг и обнаружили, что находимся у конца расселины, там, где она поворачивала налево. Еще несколько усилий, и мы, достигнув поворота, увидели, к неописуемой нашей радости, какую-то трещину, тянущуюся высоко вверх под углом градусов сорок пять, а местами и круче. Мы не могли разглядеть края трещины, но, поскольку сквозь нее проникало достаточно света, мы уже почти не сомневались, что наверху — если мы сумеем туда подняться — имеется выход наружу.
И только теперь я вспомнил, что в расселину мы вошли втроем и ничего не знаем о судьбе Аллена. Мы немедленно вернулись за ним. После долгих поисков, сопряженных с опасностью обвала, Петерс крикнул, что нащупал ногу нашего спутника, но он так завален землей и камнями, что вытащить его невозможно. Я убедился, что так оно и есть и жизнь давно покинула Аллена. Исполненные печали, мы вынуждены были оставить тело нашего товарища и вернуться к повороту.
Трещина была достаточно широка, чтобы протиснуться одному человеку, но вскарабкаться наверх мы не смогли и после нескольких безуспешных попыток опять было поддались отчаянию. Я уже говорил, что скалы, между которыми пролегало ущелье, были из какой-то мягкой горной породы, напоминающей мыльный камень. Поэтому стенки нашей трещины были настолько скользкие, особенно если попадалась сырость, что мы едва могли поставить ногу даже в сравнительно ровных местах; когда же она шла круто, почти вертикально, подъем казался вообще немыслимым. Но отчаяние иногда придает мужества, и мы, вспомнив о тесаках, принялись вырубать ими ступени в мягкой скале; с риском для жизни, цепляясь за куски твердого сланца, кое-где торчащие из породы, мы в конце концов вскарабкались на плоский уступ, откуда был виден клочок голубого неба в конце густо заросшей лесом лощины. Оглядываясь назад, теперь уже не без любопытства, на проделанный нами путь, мы увидели, что трещина совсем свежая, и сделали вывод, что она образовалась от того самого толчка, который так неожиданно настиг нас. Поскольку мы совершенно обессилели, так что едва могли стоять или разговаривать, Петерс предложил позвать наших товарищей на помощь выстрелами из пистолета, которые еще висели у нас за поясом, хотя ружья и сабли мы потеряли в земле на дне пропасти. Последующие события показали, что, прибегни мы тогда к помощи оружия, нам пришлось бы горько раскаяться; к счастью, у меня возникла тень подозрения, что дело нечисто, и мы воздержались от выстрелов, чтобы не выдать дикарям наше местонахождение.
После часового отдыха мы двинулись по лощине и скоро услышали оглушительные крики. Наконец мы выбрались на поверхность — до сих пор наш путь пролегал внизу, под навесом из крутых откосов и свисающей листвы. Мы осторожно прокрались к узкой горловине, откуда вся окружающая местность была видна как на ладони, и в тот же момент буквально с первого взгляда поняли страшную причину обвала.
Площадка, с которой мы вели наблюдения, располагалась неподалеку от самой высокой вершины в горной цепи. Слева от нас, футах в пятидесяти, тянулось ущелье, которым наш отряд шел в деревню. По меньшей мере на добрую сотню ярдов дно его было засыпано гигантской, в миллион тонн, беспорядочной массой земли и камня. Способ, каким дикари устроили этот обвал, был столь же прост, сколь и очевиден, ибо негодяи оставили достоверные следы своего чудовищного злодеяния. В нескольких местах вдоль восточного края пропасти (мы находились, на западном) торчали вбитые в землю деревянные колья. В этих местах почва была нетронута, зато на всем протяжении стенки, обнажившейся после обвала, виднелись углубления, как после бура: очевидно, тут были вбиты такие же колья, какие мы видели, — они располагались на расстоянии ярда друг от друга на протяжении трехсот футов и отстояли от края обрыва футов на десять. На оставшихся кольях болтались веревки из виноградной лозы — наверняка такие же были привязаны к другим кольям. Я уже упоминал о необыкновенной структуре этих гор, а приведенное выше описание глубокой и узкой трещины, благодаря которой нам удалось избежать погребения заживо, даст дополнительное понятие о ней. Скалы состояли из множества как бы наложенных друг на друга пластов, которые раскалывались по вертикали при малейшем естественном толчке. Того же можно достичь сравнительно небольшим усилием.
Для осуществления своих коварных целей дикари и воспользовались этой особенностью. Вколотив цепочку кольев, они частично разрушили несколько слоев почвы, вероятно, на глубину одного-двух футов, а затем у каждого столба поставили по человеку, чтобы по сигналу тащить веревки (привязанные к самым верхушкам и тянущиеся прочь от обрыва); благодаря такому устройству, действующему как рычаг, создалась сила, достаточная, чтобы отколоть верхнюю часть обрыва и сбросить вниз, в ущелье. Судьба наших несчастных спутников была очевидна. Только нам удалось избежать гибельной катастрофы. Мы были единственные белые люди на острове, оставшиеся в живых.
ГЛАВА XXII
Положение наше было едва ли лучше, чем тогда, когда мы думали, что нам не выбраться из-под обвала. Нас ожидала либо смерть от руки дикарей, либо томительный плен. Правда, мы могли какое-то время скрываться среди труднодоступных гор, а в крайнем случае и в той расселине, из которой только что выбрались, но, когда наступит долгая полярная зима, нам все равно не миновать гибели от холода и голода или в конечном счете нас обнаружат, когда мы попытаемся обеспечить себя самым необходимым.
Равнина буквально кишела дикарями, а с островов, лежащих к югу, на примитивных плотах прибывали все новые и новые толпы, жаждущие, очевидно, участвовать в захвате шхуны и дележе добычи. А «Джейн Гай» спокойно стояла на якоре, и люди на борту, наверное, не подозревали об ожидающей их опасности. Как нам хотелось оказаться в тот момент с ними! Ведь мы могли либо содействовать нашему общему спасению, либо погибнуть в бою, защищаясь от нападения. Но, увы, у нас не было никакой возможности предупредить их, не подвергнув себя немедленной гибели, а польза от нашего предупреждения весьма и весьма сомнительна. Выстрели мы из пистолета, они, разумеется, поняли бы, что случилось что-то неладное, но все равно не узнали бы, что единственная их возможность спастись в том, чтобы тотчас же выйти в открытое море, что они уже не связаны никакими понятиями чести, что их товарищей нет более в живых. Услышав выстрел, они не сумели бы сделать ничего сверх того, что уже сделано, дабы лучше отразить готовящееся нападение врага. Итак, наш выстрел им не принес бы пользы, а нам причинил бы вред, и по зрелом размышлении мы отказались от этой затеи.
Следующим нашим побуждением было пробиться к морю, захватить один из челнов, стоящих в заливе, и плыть к шхуне. Но скоро стала очевидной полная невозможность этого отчаянного предприятия. Окрестности, как я уже сказал, буквально кишели дикарями, которые прятались в кустах и среди скал, чтобы остаться незамеченными с судна. В непосредственной близости от нас, преграждая единственную дорогу, которой мы могли попасть на берег в нужном месте, расположился весь отряд воинов в черных шкурах во главе с самим Ту-Уитом — они, по-видимому, ожидали подкреплений, чтобы начать приступ нашей «Джейн Гай». Да и в каноэ, стоящих у берега, находились туземцы, правда, безоружные, но оружие наверняка было где-то припрятано. Поэтому мы были вынуждены не покидать наше укрытие, оставаясь простыми наблюдателями бойни, которая вскорости и разыгралась.
Через полчаса с южной стороны залива показалось шестьдесят-семьдесят не то плотов, снабженных веслами, не то больших плоскодонных лодок, набитых дикарями. У них, по-видимому, не было другого оружия, кроме коротких дубинок и запаса камней. Затем немедленно с противоположной стороны появился другой, более многочисленный отряд, с тем же оружием. Одновременно из кустов в глубине залива тоже высыпали дикари, быстро расселись в четырех каноэ и отвалили от берега. Вся операция заняла столько же времени, сколько я писал эти строки, и в мгновение ока «Джейн Гай» оказалась окруженной головорезами, решившими во что бы то ни стало захватить ее.
Не было ни малейшего сомнения, что им удастся это сделать. С какой бы отчаянной решимостью ни защищались те шестеро, они не могли выдержать бой при таком неравном соотношении сил, не успели бы даже управиться с пушками. Я не знал, будут ли они вообще оказывать сопротивление, но ошибся: они быстро выбрали якорную цепь и развернули шхуну правым бортом, чтобы встретить огнем каноэ, которые к этому моменту были уже на расстоянии пистолетного выстрела, а плоты — в четверти мили с наветренной стороны. Неизвестно по какой причине, скорее всего из-за нерешительности наших несчастных товарищей, понявших, в какое безвыходное положение они попали, пушечный залп был совершенно безрезультатным. Ни один челн не был поврежден, ни единый дикарь не ранен: картечь ложилась с недолетом и рикошетом перелетала у них над головами. Их поразил только неожиданный грохот и дым, которого было так много, что я даже подумал, не откажутся ли они от своего намерения и не вернутся ли на берег. Впрочем, островитяне так и поступили бы, если бы на шхуне догадались за бортовым залпом сразу же сделать залп из ружей: поскольку челны были совсем рядом, он наверняка произвел бы какие-нибудь опустошения в рядах туземцев, достаточные хотя бы для того, чтобы остановить их продвижение, а наши тем временем успели бы дать бортовой залп по плотам. Вместо этого они сразу же кинулись на левый борт, чтобы встретить огнем плоты, дав тем самым туземцам в каноэ возможность оправиться от паники и убедиться, что потерь у них нет.
Пушечный залп с левого борта достиг цели. Семь или восемь плотов были разнесены в щепки и на месте убито три-четыре десятка дикарей, кроме того, более сотни были сброшены в воду, многие из них жестоко изувечены. Остальные, напуганные до потери сознания, начали быстро отступать, нисколько не заботясь о своих раненых, которые барахтались в воде и тут и там, оглашая воздух воплями о помощи. Успех пришел, однако, слишком поздно, наши храбрые товарищи уже не могли спастись. Сотни полторы дикарей из челнов были уже на палубе, причем многим удалось вскарабкаться наверх по цепям и веревочным лестницам еще до того, как матросы успели поднести запал к орудиям на левом борту. Ничто уже не могло противостоять слепой ярости дикарей. В одно мгновение наши люди были сбиты с ног, оглушены, растоптаны, разорваны на куски.
Видя все это, дикари на плотах преодолели свой страх и налетели тучей, чтобы не упустить своей доли добычи. Через пять минут красавица «Джейн Гай» являла из-за неистовых бесчинств поистине жалкое зрелище. Палуба была разворочена, канаты, паруса, предметы корабельного хозяйства — все сгинуло как по волшебству. Затем, подталкивая шхуну с кормы, подтягивая канатами с челнов, тысячами плывя по бокам и подпирая борты, дикари наконец вынесли «Джейн» на берег (якорная цепь давно соскользнула в воду) как дань Ту-Уиту, который во время сражения, как и подобает опытному военачальнику, занял наблюдательный пост на приличном расстоянии в горах, но теперь, когда, к его удовольствию, была одержана полная победа, перестал чиниться и вместе со своими приближенными кинулся бегом вниз за добычей.
Теперь, когда Ту-Уит спустился на берег, мы могли выбраться из нашего убежища и сделать небольшую вылазку. Ярдах в пятидесяти от выхода из расселины бил небольшой родничок, и мы утолили мучившую нас жажду. Неподалеку от родничка росло несколько кустов орешника, о котором я говорил выше. Попробовав орехов, мы нашли их вполне съедобными и напоминающими по вкусу обычный фундук. Мы немедленно наполнили ими наши шляпы, спрятали их в расселине и снова принялись собирать орехи. В этот момент в кустах раздался шорох, едва не заставивший нас отступить к нашему убежищу, и из ветвей медленно, словно бы с усилием, вылетела большая черная птица из породы выпей. Я замер, застигнутый врасплох, но у Петерса хватило сообразительности тут же кинуться вперед и схватить ее за шею. Она отчаянно билась и пронзительно кричала, и мы уже хотели отпустить ее, чтобы не привлечь внимания дикарей, которые могли оказаться поблизости. Последовал, однако, удар тесаком, птица упала на землю, и мы оттащили ее в расселину, поздравляя себя с добычей, которой при всех обстоятельствах могли питаться целую неделю. Затем мы снова отправились на вылазку, рискнув на этот раз отойти на порядочное расстояние вниз по южному склону, но не нашли ничего, что годилось бы в пищу. Тогда мы набрали сухих веток и быстро вернулись в свое убежище, чтобы нас не заметила большая толпа дикарей, которая с награбленным на шхуне добром возвращалась ущельем в деревню. Следующей нашей заботой было как можно лучше скрыть свое убежище, для чего мы прикрыли ветками ту самую дыру, сквозь которую увидели кусок неба, когда выбрались из трещины на уступ, оставив только небольшое отверстие, чтобы наблюдать за заливом без риска быть замеченными снизу. Мы были вполне удовлетворены своей работой: теперь нас никто не увидит, пока мы будем отсиживаться в расселине и не покажемся на склоне горы. Никаких следов, что здесь кто-нибудь бывал раньше, мы не обнаружили. Вместе с тем, когда мы еще раз взвесили предположение, что трещина, по которой мы пролезли наверх, образовалась в результате обвала и другого пути сюда нет, наша радость, что мы находимся в надежном укрытии, была омрачена сомнением, найдем ли мы вообще способ спуститься вниз. Поэтому при первом удобном случае нужно было тщательно исследовать всю вершину. Пока же мы решили понаблюдать за дикарями через наше отверстие.
Они уже совершенно разбили шхуну и готовились поджечь остов. Через некоторое время из главного люка повалили густые клубы дыма, а затем из бака вырвалось огромное пламя. Сразу же загорелись мачты, оснастка, остатки парусов, и огонь быстро распространился по палубам. Несмотря на это, множество дикарей по-прежнему пытались сбить увесистыми камнями, топорами и пушечными ядрами металлические части с корпуса. Всего же в непосредственной близости от судна — на берегу, в челнах и на плотах — собралось не менее десяти тысяч туземцев, не считая толп, которые, нагрузившись трофеями, отправились в глубь острова или переправились на другие острова. Теперь должна была последовать развязка, и мы не ошиблись. Сначала раздался сильный толчок (который мы ощутили в своем укрытии так отчетливо, как будто через нас пропустили заряд электричества), но иных видимых признаков взрыва не было. Перепуганные дикари прекратили галдеть и суетиться. С минуту они выжидали, но едва только снова приступили было к грабежу, как из палубы выбилось облако дыма, тяжелого и черного, словно грозовая туча, потом из его недр на добрые четверть мили вверх взвился огненный столб, который тут же распространился полукружием, затем в одно мгновение весь воздух вокруг, как по волшебству, усеялся кусками дерева, железа и человеческих тел, и, наконец, раздался такой мощный взрыв, что нас тотчас же сбило с ног; в горах прокатилось громкое эхо, а с неба посыпал густой дождь мелких обломков.
Взрыв произвел опустошение гораздо большее, чем мы ожидали; дикари по справедливости пожинали плоды своего вероломства. Наверное, целая тысяча погибла при взрыве и столько же было изувечено. Весь залив был буквально усеян утопающими, тем, кто был на берегу, пришлось еще хуже. Дикари пришли в ужас от того, как внезапно и плачевно кончилась их затея, и даже не пытались помочь друг другу. И тут мы заметили какую-то странную перемену в их поведении. После полнейшего оцепенения их охватило вдруг крайнее возбуждение — они как безумные забегали взад и вперед по берегу с оглушительными криками: «Текели-ли! Текели-ли!» На лицах у них были написаны ужас, ярость, удивление.
Затем группа туземцев кинулась в горы и скоро вернулась с деревянными кольями в руках. Они подошли туда, где собралось больше всего народу, толпа расступилась, и мы могли увидеть то, что вызвало эту неистовую неразбериху. На земле лежало что-то белое, но мы не могли сразу разглядеть, что именно. Наконец мы поняли, что это было чучело того самого неизвестного животного с ярко-алыми клыками и когтями, которое мы подобрали в море 18 января. Тогда капитан Гай распорядился снять с него шкуру, чтобы набить чучело и увезти в Англию. Помню, как он давал какие-то указания на этот счет как раз перед тем, как мы прибыли на остров, и чучело принесли к нему в каюту и положили в сундук. Взрывом чучело выбросило на берег, однако мы не понимали, почему оно вызвало такой переполох среди дикарей. Они окружили чучело со всех сторон, хотя никто не осмеливался подойти поближе. Потом туземцы, бегавшие за кольями, обнесли животное частоколом, после чего вся огромная толпа рванулась в глубь острова, оглашая воздух криками: «Текели-ли! Текели-ли!»
ГЛАВА XXIII
В течение шести-семи последующих дней мы оставались в нашем убежище, выходя лишь изредка, да и то с величайшими предосторожностями, за водой и орехами. Соорудив на площадке шалаш, мы настлали туда сухих листьев для постели и вкатили три больших плоских камня, которые служили нам и очагом и столом. Без особого труда, путем трения друг о друга двух кусков дерева (одного — твердого, другого мягкого) мы раздобыли огонь. У птицы, которую нам посчастливилось поймать, оказалось превосходное мясо, хотя и немного жестковатое. Она не принадлежала к семейству морских птиц, а скорее была разновидностью выпи и имела блестящее черное с серым оперение и сравнительно небольшие крылья. Потом мы видели в окрестностях еще трех таких же птиц, которые, очевидно, искали ту, что была поймана нами, но они не опускались на землю, и мы не сумели поживиться добычей.
Пока у нас хватало мяса, мы еще мирились со своим положением, но вот мясо кончилось, и надо было срочно позаботиться о пропитании. Орехи отнюдь не утоляли голод, а напротив, вызывали резь в желудке, а в больших количествах — и приступы жестокой головной боли. К востоку от вершины, у моря, мы видели крупных черепах, и, если бы нам удалось пробраться туда незамеченными, мы могли бы без труда изловить несколько штук. Поэтому было решено рискнуть и спуститься вниз.
Мы начали спуск по южному склону, который представлялся нам самым пологим, но, когда мы прошли едва ли сотню ярдов (если судить по видимости предметов на вершине), путь нам преградило ответвление от того ущелья, где погибли наши товарищи. Мы прошли по краю обрыва с четверть мили и снова наткнулись на глубокую пропасть; края ее осыпались, и мы были вынуждены вернуться.
Тогда мы спустились к восточному склону, но и здесь нас постигла неудача. Рискуя сломать шею, мы целый час спускались по каким-то откосам, пока не очутились в огромной впадине со стенками из черного гранита, выбраться из которой можно было только той каменистой тропой, какой мы спустились сюда. Поднявшись по ней назад, мы решили попробовать северный склон. Здесь мы должны были соблюдать особую осторожность, так как малейшая оплошность — и мы могли оказаться на виду у всей деревни. Поэтому мы пробирались на четвереньках, а иногда и ползком, подтягиваясь с помощью ветвей кустарника. Преодолев таким образом некоторое расстояние, мы наткнулись на такую глубокую бездну, какой нам еще не встречалось, — она соединялась с главным ущельем. Итак, наши опасения полностью подтвердились: мы были совершенно отрезаны от долины. Вконец выбившись из сил, мы кратчайшим путем возвратились на площадку и, свалившись на нашу постель из листьев, несколько часов проспали беспробудным сном.
Дни после этой безуспешной вылазки были заняты тем, что мы исследовали каждый дюйм на вершине в поисках чего-нибудь съедобного, но ничего не нашли, если не считать орехов, так дурно действующих на желудок, да клочка земли в двадцать квадратных ярдов, поросшей какой-то кисловатой травой, которой, конечно, не хватит надолго. Если не ошибаюсь, к 15 февраля не осталось ни травинки да и орехи стали попадаться гораздо реже; дела наши обстояли как нельзя хуже. [173]Этот день запомнился тем, что в южном направлении мы заметили огромные клубы сероватых паров, о которых я как-то упоминал. — Примеч. автора. Шестнадцатого мы еще раз осмотрели стены нашей темницы в надежде найти выход, но безрезультатно.
Спустились мы и в расселину, где нас засыпало, надеясь разыскать какой-нибудь проход в главное ущелье. Но и здесь нас постигла неудача, хотя мы подобрали потерянное там наше ружье.
Семнадцатого числа мы решили более тщательно исследовать колодец с черными гранитными стенами, куда мы спускались в первый раз. Нам запомнилось, что в одной стене была трещина, в которую мы едва заглянули, и сейчас нам хотелось осмотреть ее получше, хотя мы и не очень рассчитывали, что обнаружим там какое-нибудь отверстие.
Как и в прошлый раз, мы спустились в колодец без особого труда и принялись внимательно разглядывать, что он собой представляет. Место это было поистине необыкновенное, и мы едва могли поверить в его естественное происхождение. Если учесть все повороты и изломы, длина шахты от восточной до западной оконечности составляла около пятисот ярдов, хотя по прямой, — как я предполагаю, ибо не имел никаких средств для измерения, — было всего ярдов сорок-пятьдесят. В верхней своей части, приблизительно в сотне футов от вершины, склоны шахты совершенно различны: один из мыльного камня, другой из мергеля с зернистыми металлическими вкраплениями, причем они никогда, видимо, не составляли одно целое. Средняя ширина шахты на этом уровне была, вероятно, футов шестьдесят. Ниже, однако, расстояние между склонами резко сокращается, и они переходят в две отвесных параллельных стены, хотя и из разного материала и с разной формой поверхности. На расстоянии пятидесяти футов от дна начинается их полное соответствие. Обе стены образованы из черного блестящего гранита, и расстояние между ними, несмотря на горизонтальные изломы, повсюду постоянно — двадцать метров.
Точную форму шахты лучше всего понять из чертежа, сделанного мною на месте, — дело в том, что я имел при себе записную книжку и карандаш, которые бережно хранил во время всех последующих приключений и благодаря которым я записал множество подробностей, в противном случае никак не удержавшихся бы в памяти.
Чертеж (см. рис. 1) дает общие очертания шахты, на нем нет небольших углублений, каждому из которых соответствовал бы выступ на противоположной стене.
Дно шахты было покрыто слоем тончайшей, почти неосязаемой пыли толщиной три-четыре дюйма, под которым мы нащупали то же гранитное основание. В правой нижней части чертежа можно заметить нечто вроде отверстия — это была та самая трещина, о которой говорилось выше и которую мы хотели как следует исследовать на этот раз. Мы начали продираться туда сквозь гущу кустарника, ломая ветви, раскидывая по пути груды острых камней, формой напоминающих наконечники от стрел. Слабый свет в дальнем конце коридора придавал нам бодрости. Протиснувшись футов на тридцать вперед, мы оказались под низкой, правильной формы аркой, — тут под ногами тоже лежал слой пыли. Свет усилился, и за поворотом открылась другая высокая шахта, во всем похожая на первую, но продолговатая. Вот ее очертания (см. рис.2).
Общая длина этой шахты, если вести отсчет от точки а по дуге b до точки d, составляет пятьсот пятьдесят ярдов. В точке с мы обнаружили небольшое отверстие, похожее на то, которым мы проникли сюда из первой шахты, и оно тоже сплошь заросло кустарником и было засыпано обломками белого камня. Мы одолели и этот проход — он был около сорока футов длиной — и проникли в третью шахту. Она также не отличалась от первой, но была продолговатой формы, как это изображено на рис. 3.
Общая длина ее составляла триста двадцать ярдов. В точке а был проход шириной футов шесть, тянущийся в глубину на пятнадцать футов и упиравшийся в пласты мергеля; другого выхода, как мы надеялись, отсюда не было. Свет сюда еле проникал, и мы уже хотели было возвращаться назад, как Петерс обратил мое внимание на ряд странных знаков, словно бы высеченных в мергеле на задней стене. При некотором усилии воображения левый, по компасу — отстоящий к северу знак можно было принять за изображение человека, хотя и примитивное, стоящего с протянутой рукой. Остальные отдаленно напоминали буквы, и Петерс был склонен считать их таковыми, хотя и не имел особых оснований. Я, однако, убедил его в том, что он ошибается: рядом, на дне, среди пыли, мы подобрали несколько осколков мергеля, которые как раз подходили к впадинам на стене и, очевидно, отвалились во время какого-нибудь сотрясения: таким образом, фигуры имели естественное происхождение. Рис. 4 в точности воспроизводит их целиком.
Убедившись, что в этих странных галереях нет выхода наружу, мы, удрученные, поднялись на вершину холма. В следующие сутки не произошло ничего знаменательного, если не считать того, что к востоку от третьей шахты мы наткнулись на два глубоких отверстия треугольной формы, тоже имеющих гранитные стенки. Мы решили, что спускаться в них нет смысла, поскольку они Представляли собой естественные колодцы и не имели ответвлений. В поперечнике каждый был ярдов по двадцать. Точная форма этих колодцев и их расположение относительно третьей шахты показаны на рис. 5.
ГЛАВА XXIV
Двадцатого февраля мы поняли, что на орехах больше не продержимся, не говоря уже о том, что они вызывали жестокую резь в желудке, и решили предпринять отчаянную попытку спуститься в пропасть на южном склоне, ведущую в главное ущелье. Стены ее в этом месте были из мягкого мыльного камня, но почти отвесны до самого дна (глубина по крайней мере сто пятьдесят футов) и даже нависали, как арка. После долгих поисков мы обнаружили узкий выступ футах в двадцати от края пропасти; я держал связанные друг с другом платки, и Петерсу удалось туда спрыгнуть. Когда я, правда с большими трудностями, оказался с ним рядом, мы решили, что спустимся на дно пропасти тем же манером, каким мы выбирались из трещины после обвала, то есть выбивая тесаками ступени в камне. Трудно даже представить риск, на который мы шли, но другого выхода у нас не было, и мы решились.
К счастью, на уступе рос орешник, и мы привязали к кусту нашу сделанную из платков веревку. Другим концом веревки Петерс обвязался вокруг пояса, и я осторожно спустил его на всю ее длину. Он принялся выбивать в стене отверстие глубиной восемь-десять дюймов, стесывая над ним на целый фут кусок скалы клинообразной формы, после чего рукояткой пистолета прочно загнал этот клин в отверстие. Затем я подтянул его фута на четыре кверху, и он сделал еще одну ступеньку и вбил еще один клин, устроив, таким образом, опоры для рук и для ног. Тогда я отвязал веревку от куста и бросил ему конец, который он прикрепил к первому клину. Потом он снова обвязался веревкой и опустился на полную ее длину, оказавшись фута на три ниже того места, где он стоял. Здесь он выбил третье отверстие и загнал третий камень. Далее Петерс подтянулся по веревке вверх, упираясь ногами в только что сделанную дыру и держась за второй сверху клин. Теперь ему предстояло отвязать веревку от верхнего клина, чтобы прикрепить ко второму, и тут он понял, какую совершил ошибку, выбивая ступени на таком большом расстоянии друг от друга. После нескольких безуспешных и опасных попыток дотянуться до узла (а ему в это время приходилось держаться одной левой рукой, так как правой он намеревался развязать его) он перерезал веревку, оставив кусок дюймов в шесть на клине, и, привязав ее ко второму клину, занял удобное положение под третьим отверстием, но не слишком низко. Так с помощью клиньев и веревки (этот способ, который родился благодаря изобретательности и решимости Петерса, никогда не пришел бы мне в голову) мой товарищ, цепляясь помимо всего за каждый попадавшийся выступ, благополучно достиг дна.
Не сразу я мог набраться духу, чтобы последовать его примеру, но в конце концов все-таки решился. Еще до того, как пойти на это рискованное предприятие, Петерс снял рубашку, которую я связал с моей собственной, сделав таким образом необходимую для спуска веревку. Сбросив Петерсу найденное в пропасти ружье, я привязал ее к кустам и начал быстро спускаться вниз, пытаясь энергичными движениями преодолеть дрожь, которую я не мог унять никак иначе. Меня хватило, однако, на первые пять-шесть шагов; при мысли о бездне, разверзшейся под ногами, и о ненадежных ступенях и клиньях из мягкого мыльного камня, которые служили единственной мне опорой, воображение мое разыгралось необыкновенно. Напрасно я пытался отогнать эти мысли, вперив взгляд в плоскую поверхность стены прямо перед собой. Чем упорнее я старался не думать, тем ужаснее и отчетливее возникали у меня в голове разные видения. Наконец настал тот момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы заранее как бы переживаем ощущения, испытываемые при падении, и ясно представляем себе головокружение и пустоту в животе, и последнее отчаянное усилие, и потемнение в глазах, и, наконец, острое сожаление, что все кончено и ты стремительно летишь головой вниз. Мои фантазии, достигнув критической точки, начали создавать свою собственную реальность, и все воображаемые страхи действительно обступили меня со всех сторон. Я чувствовал, как дрожат и слабеют ноги, как медленно, но неумолимо разжимаются пальцы. В ушах у меня зазвенело, и я подумал: «Это по мне звонит колокол!» Теперь мной овладело неудержимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть больше на стену и с каким-то безумным неизъяснимым чувством, в котором смешался ужас и облегчение, устремил взгляд в пропасть. Тут же мои пальцы судорожно вцепились в клин, и в сознании, как тень, промелькнула едва ощутимая надежда на спасение, но в то же мгновение всю душу мою наполнило желание упасть — даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, страсть. Я разжал пальцы, отвернулся от стены и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом сразу помутилось в голове, в ушах раздался резкий, нечеловеческий голос, подо мной возникла какая-то страшная призрачная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки.
Я потерял сознание, но Петерс поймал меня. Он следил за мной со дна пропасти и, понимая, что я пал духом, всячески старался приободрить меня, хотя состояние мое было таково, что я не различал его слов и вообще ничего не слышал. Видя, что я вот-вот сорвусь, он поспешил подняться мне на помощь и подоспел вовремя. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка наверняка бы лопнула, и я полетел бы в бездну, но он сумел подхватить меня и осторожно спустил на полную ее длину, так что я без чувств повис над пропастью. Минут через пятнадцать я пришел в себя. Страх мой совершенно пропал, я почувствовал себя новым человеком и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз.
Теперь мы были недалеко от ущелья, где погибли наши товарищи, к югу от того места, где произошел обвал. Вокруг расстилалась дикая пустынная местность, вызывающая в памяти нарисованные путешественниками картины запустения там, где некогда находился Древний Вавилон. Не говоря уже об обломках обвалившейся скалы, которые беспорядочной грудой преграждали путь к северу, поверхность земли была усеяна огромными камнями, словно мы находились среди развалин какого-то гигантского сооружения, хотя, конечно, присмотревшись, нельзя было обнаружить никаких следов человеческой деятельности. Повсюду виднелись шлаковые обломки, а также бесформенные гранитные и мергелевые глыбы с металлическими вкраплениями. [174]Мергель тоже был черный, и вообще мы не видели на острове никаких светлых предметов. Почва была совершенно бесплодная, куда ни посмотри, без каких бы то ни было признаков растительности. Мы видели несколько чудовищных скорпионов, попадались и другие пресмыкающиеся, каких не встретишь в высоких широтах.
Поскольку прежде всего надо было раздобыть пищу, мы решили направиться к берегу, который был не далее чем в полумиле, намереваясь поймать черепаху, одну из тех, что мы видели из нашего убежища на вершине горы. Прячась между обломками скал, мы осторожно продвинулись на сотню ярдов, как вдруг из какой-то пещеры выскочили пятеро дикарей, и один ударом дубинки тут же свалил Петерса на землю. Все кинулись, чтобы прикончить жертву, и это дало мне возможность опомниться. У меня было ружье, но ствол его был поврежден при падении в пропасть, поэтому я отбросил его за ненадобностью, выхватил пистолеты, которые держал в полном порядке, и бросился на дикарей, сделав несколько выстрелов подряд. Двое упали, а третий, который уже занес копье над Петерсом, в испуге отскочил в сторону. Мой товарищ был спасен, дальнейшее не представляло никакого труда. Он тоже имел при себе пистолеты, но из осторожности решил не стрелять, вполне полагаясь на свою физическую силу, какой я не встречал ни у кого. Выхватив дубинку у одного из упавших, он уложил всех троих, с одного удара проломив каждому череп. Мы одержали полную победу.
Все произошло так быстро, что мы едва могли поверить, что все случившееся было наяву, и стояли над трупами врагов в каком-то отупении, пока раздавшиеся вдали крики не вернули нас к действительности. Очевидно, дикари были растревожены выстрелами и вот-вот обнаружат нас. Мы не могли отступить к горе, так как крики доносились именно оттуда, но, если мы и успеем достигнуть ее подножия, все равно нас увидят, когда мы будем карабкаться вверх. Положение складывалось опаснейшее, мы лихорадочно соображали, куда скрыться, и в этот момент один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил на ноги и хотел бежать прочь. Мы, однако, настигли его через несколько шагов и хотели прикончить, но Петерс решил, что дикарь может пригодиться нам, если мы заставим его бежать с нами. Мы потащили его за собой, дав понять, что при малейшем сопротивлении он будет немедленно убит. Дикарь подчинился, и, скрываясь среди скал, мы бегом направились к берегу.
До сих пор неровная местность почти совсем скрывала от нас море, и оно полностью открылось перед нами лишь тогда, когда мы оказались ярдах в двухстах от него. Выскочив на берег, мы с ужасом увидели толпы дикарей, которые отовсюду бежали к нам с животными воплями и яростно размахивая руками. Мы хотели уже повернуть назад и отступать под прикрытием складок местности, как вдруг за большой скалой, выступающей в море, я заметил пару челнов. Мы кинулись туда со всех ног — у челнов никого не было, а в них лежали три крупных галапагосских черепахи и обычный запас весел гребцов на шестьдесят. Увлекая за собой нашего пленника, мы вскочили в один из челнов и что было сил принялись грести в открытое море.
Но, отплыв от берега ярдов на пятьдесят и немного успокоившись, мы поняли, какой промах мы допустили, оставив второй челн дикарям, которые к этому времени были лишь вдвое дальше от него, нежели мы, и быстро приближались к желанной цели. Нельзя было терять ни секунды. Надежда опередить была ничтожна, но ничего иного нам не оставалось. Сомнительно, чтобы мы, даже приложив все усилия, сумели подоспеть к челну до них, однако это была единственная возможность спастись. В противном случае нам грозила смерть.
Нос и корма у челна были устроены совершенно одинаково, так что мы не стали его разворачивать, а просто пересели и стали грести в другую сторону. Когда дикари увидели этот нехитрый маневр, их вопли усилились, равно как и скорость, с какой они приближались к челну. Мы отчаянно налегали на весла и прибыли к цели в тот момент, когда ее уже достиг один из туземцев, опередивший остальных. Этот человек дорого поплатился за свое необыкновенное проворство: едва мы коснулись берега, Петерс выстрелил ему прямо в лицо. Когда мы подоспели к челну, бегущие впереди находились, вероятно, в двадцати или тридцати шагах от нас. Сначала мы хотели оттолкнуть его подальше от берега, чтобы он не достался дикарям, но днище глубоко врезалось в песок, времени уже не оставалось, и тогда Петерс ружейным прикладом вышиб дно у носа и проломил борт. Пока мы сами отталкивались от берега, двое дикарей ухватились за наш челн и упорно держались, так что мы были вынуждены прикончить их ножами. Теперь мы были на плаву и что есть силы гребли в открытое море. Когда дикари толпой подбежали к поврежденному челну, они буквально взвыли от бессильной ярости. Вообще, насколько я могу судить, эти негодяи оказались самыми злобными, коварными, мстительными и кровожадными существами на свете; попади мы им в лапы, пощады нам не было бы. Дикари попытались пуститься за нами вдогонку на дырявом челне, но затея была явно бесполезной, и, снова излив свою ярость в чудовищных воплях, они кинулись в горы.
Итак, мы избежали непосредственной опасности, хотя положение оставалось еще угрожающим. В распоряжении дикарей имелись четыре таких же челна (о том, что два из них разлетелись в щепки при взрыве «Джейн Гай», мы узнали позже от нашего пленника), и мы решили, что преследование возобновится, как только дикари доберутся до входа в залив, где обычно стояли лодки, — расстояние туда было мили три. Поэтому мы прилагали все силы, чтобы отойти как можно дальше от острова, заставив, разумеется, нашего пленника тоже работать веслом.
Через полчаса, когда мы проплыли пять или шесть миль к югу, из залива появилась целая флотилия плоскодонок. Но, отчаявшись догнать нас, они скоро повернули назад.
ГЛАВА XXV
Итак, мы находились в необозримом и пустынном Антарктическом океане, выше восемьдесят четвертой параллели, на утлом челне и без запасов пищи, если не считать черепах. Не за горами была и долгая полярная зима. Поэтому надо было хорошенько взвесить, куда держать курс. В поле зрения было еще шесть или семь островов, принадлежащих к той же группе, но ни к одному из них мы приставать не хотели. Когда мы шли сюда на «Джейн Гай» с севера, позади нас постепенно оставались наиболее труднопроходимые районы сплошного льда, — как бы этот факт ни расходился с общепринятыми представлениями об Антарктике, мы убедились в нем на собственном опыте. Попытка пробиться назад, особенно в такое время года, была бы чистейшим вздором. Лишь одно направление сулило какие-то надежды, и мы решили смело плыть к югу, где по крайней мере имелась вероятность наткнуться на землю и еще большая вероятность попасть в теплый климат.
До сих пор Антарктический океан, наподобие Арктического, показывал себя с неожиданно хорошей стороны: не было ни жестоких штормов, ни бурных волн, и все-таки наш челн был весьма хрупким, мягко выражаясь, суденышком, несмотря на порядочные размеры, и мы деятельно принялись за работу, намереваясь придать ему как можно большую прочность теми ограниченными средствами, которые были в нашем распоряжении. Корпус челна был сделан из коры неизвестного дерева, а шпангоуты — из крепкой лозы, которая хорошо подходила для этой цели. От носа до кормы челн имел пятьдесят футов, в ширину — четыре-шесть футов, а борта достигали четырех с лишним футов, то есть устройство здешних лодок сильно отличалось от тех, какими пользуются другие обитатели Южного океана, известные цивилизованным нациям. Они никак не могли быть делом рук невежественных островитян, которые владели ими, и несколько дней спустя из расспросов нашего пленника мы узнали, что они сделаны туземцами с островов, лежащих к юго-западу от того, где мы были, и нашим варварам достались случайно. Как могли, мы постарались сделать ее более пригодной для плавания в океане. Разорвав суконную куртку, мы законопатили щели, обнаруженные на носу и на корме. Из лишних весел мы соорудили каркас на носу, чтобы гасить силу волн, накатывающихся с той стороны. Два весла пошли на мачты — мы поместили их на планшире друг против друга, обойдясь, таким образом, без рей. К этим самодельным мачтам был затем прикреплен парус из наших рубашек, что мы проделали не без труда: наш пленник наотрез отказался помогать нам, хотя охотно участвовал в других работах. Очевидно, белая материя вселяла в него невероятный страх. Он боялся не только взять ее в руки, но даже приблизиться к ней, а когда мы хотели заставить его силой, он задрожал с головы до ног и завопил: «Текели-ли!»
Оснастив по мере возможности наш челн, мы повернули на юго-восток, чтобы обойти с наветренной стороны самый южный остров из видневшейся на горизонте группы, и лишь после этого взяли куре прямо на юг. Погода стояла вполне сносная. С севера почти постоянно дул мягкий ветер, круглые сутки мы имели дневной свет, море было спокойно и совершенно свободно ото льда. Вообще я не видел ни одной льдины после того, как мы пересекли параллель, на которой лежал остров Беннета. Вода была достаточно теплая, и лед таял. Разделав самую крупную черепаху, мы располагали теперь запасом мяса и воды. В течение семи или восьми дней мы плыли на юг без сколько-нибудь значительных происшествий, пройдя за это время, должно быть, огромное расстояние, так как ветер был попутный и нам помогало сильное течение к югу.
Март, первого дня . [175]По понятным причинам я не могу ручаться за точность дат. Я привожу их по своим карандашным записям главным образом для того, чтобы читателю было легче следить за ходом изложения. Множество необычных явлений говорит о том, что мы входим в какую-то неизвестную, диковинную область океана. На горизонте в южном направлении часто возникает широкая полоса сероватых паров — они то столбами вздымаются кверху, быстро перемещаясь с востока на запад и с запада на восток, то растягиваются в ровную гряду, то есть постоянно меняют очертания и краски, подобно Aurora Borealis [176]Северное полярное сияние (лат.).. С нашего местонахождения пары поднимаются в среднем на высоту двадцать пять градусов. Температура воды с каждым часом повышается, и заметно меняется ее цвет.
Март, второго дня . Мы долго расспрашивали сегодня нашего пленника и узнали массу подробностей об острове, где была учинена расправа над нашими товарищами, о его обитателях и их обычаях — но могу ли я теперь задерживать ими внимание читателя? Наверное, достаточно сообщить, что, по его словам, архипелаг состоит из восьми островов, которыми правит король Тсалемон или Псалемун, живущий на самом крошечном островке, что черные шкуры, из которых сделана одежда воинов, принадлежат каким-то огромным животным, которые водятся только в долине неподалеку от обиталища короля, что туземцы строят только плоты, вернее плоскодонные лодки, а те четыре челна — единственные, которые у них были, — случайно достались им с какого-то большого острова на юго-западе, что его самого зовут Ну-Ну и он понятия не имеет об острове Беннета и что название деревни — Тсалал. Начало слов «Тсалемон» и «Тсалал» он произносил с длинным свистящим звуком, который мы при всем желании не смогли воспроизвести и который в точности напоминал крик птицы, пойманной нами на вершине горы.
Март, третьего дня . Вода просто теплая и быстро теряет прозрачность, цветом и густотой напоминая молоко. В непосредственной близости море совершенно спокойно, и наш челн не подвергается ни малейшей опасности, но мы с удивлением увидели, что справа и слева на разном расстоянии от нас на поверхности несколько раз внезапно возникало сильное волнение; позже мы заметили, что этому предшествуют бесформенные вспышки паров на юге.
Март, четвертого дня . Ветер с севера заметно стих, и мы решили увеличить площадь нашего паруса. Вытаскивая из кармана большой белый платок, я случайно задел Ну-Ну по лицу, и его тут же схватили судороги. Затем, лишь изредка бормоча: «Текели-ли! Текели-ли!» — он впал в беспамятство.
Март, пятого дня . Ветер прекратился, но мощное течение несет нас все так же к югу. Мы должны были, казалось бы, встревожиться, видя, какой оборот принимают дела, но — ничего подобного. У Петерса на лице не отражалось ни малейшего беспокойства, хотя по временам выражение его было какое-то загадочное. Приближающаяся полярная зима пока не давала о себе знать. Я чувствовал лишь некоторую скованность, душевную и физическую оцепенелость, но это было все.
Март, шестого дня . Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску, дотрагиваться до нее неприятно. Сегодня море забурлило в нескольких местах, совсем близко от нашего челна. Это сопровождалось сильной вспышкой наверху, и пары как бы отделились на мгновение от поверхности моря. Когда свечение в парах погасло и волнение на море улеглось, нас и порядочную площадь вокруг осыпало тончайшей белой пылью, вроде пепла, но это был отнюдь не пепел. Ну-Ну бросился на дно лодки, закрыл лицо руками, и никакие уговоры не могли заставить его подняться.
Март, седьмого дня . Сегодня мы расспрашивали Ну-Ну, из-за чего его соплеменники убили наших товарищей, но он охвачен таким ужасом, что мы не сумели добиться от него вразумительного ответа. Он отказывался подняться со дна лодки, а когда мы возобновили расспросы, стал делать какие-то идиотские жесты. В частности, он поднял указательным пальцем верхнюю губу и обнажил зубы — они были черные. До сих пор нам не доводилось видеть зубы обитателей Тсалала.
Март, восьмого дня . Мимо нас проплыло то белое животное, чье чучело вызвало такой переполох среди дикарей на берегу Тсалала. Я мог поймать его, но на меня напала непонятная лень, и я не стал этого делать. Руку в воде держать нельзя — такой она стала горячей. Петерс почти все время погружен в молчание, я не знаю, что и думать. Ну-Ну неподвижно лежит на дне лодки.
Март, девятого дня . Тонкая белая пыль в огромном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более или менее отчетливую форму. Не знаю, с чем сравнить их, иначе как с гигантским водопадом, бесшумно низвергающимся с какого-то утеса, бесконечно уходящего в высоту. Весь южный горизонт застлан этой необозримой пеленой. Оттуда не доносится ни звука.
Март, двадцать первого дня . Над нами нависает страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана поднялось яркое сияние и распространилось вдоль бортов лодки. Нас засыпает дождем из белой пыли, которая, однако, тает, едва коснувшись воды. Верхняя часть пелены пропадает в туманной вышине. Мы приближаемся к ней с чудовищной скоростью. Временами пелена ненадолго разрывается, и тогда из этих зияющих разрывов, за которыми теснятся какие-то мимолетные смутные образы, вырываются могучие бесшумные струи воздуха, вздымая по пути мощные сверкающие валы.
Март, двадцать второго дня . Тьма сгустилась настолько, что мы различаем друг друга только благодаря отражаемому водой свечению белой пелены, вздымающейся перед нами. Оттуда несутся огромные мертвенно-белые птицы и с неизбежным, как рок, криком «текели-ли!» исчезают вдали. Услышав их, Ну-Ну шевельнулся на дне лодки и испустил дух. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна[177]…разверзается бездна… — По следует здесь теории Джона Симмса (см. примеч. к т. 2)., будто приглашая нас в свои объятия. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване.
И кожа ее белее белого.
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Обстоятельства, связанные с последовавшей недавно внезапной и трагической кончиной мистера Пима, уже известны публике из газет. Высказывают опасение, что несколько оставшихся глав, которые, очевидно, заключали повествование, находились у него на переработке — тогда как остальные были уже в наборе — и безвозвратно утеряны во время несчастного случая, ставшего причиной его смерти. Впрочем, дело может обстоять совершенно иначе, и если бумаги в конце концов обнаружатся, они непременно будут опубликованы.
Мы испробовали все средства, чтобы исправить положение. Предполагалось, что джентльмен, чье имя упомянуто в предисловии, мог бы, как явствует оттуда же, восполнить пробел, но он, увы, наотрез отказался от этого предложения, резонно заявив, что не может целиком положиться на представленные ему материалы и вообще сомневается в достоверности последних частей повествования. Дополнительный свет на происшедшие события может, очевидно, пролить Петерс, который благополучно проживает в Иллинойсе, но в настоящее время мы не могли его разыскать. Не исключено, что это удастся впоследствии и он сообщит новые сведения для того, чтобы завершить рассказ мистера Пима.
Утрата двух или трех заключительных глав (вряд ли их было больше) тем более огорчительна, что они, бесспорно, содержат сведения относительно полюса или, по крайней мере, прилегающих к нему районов и что в скором времени они могут быть подтверждены или опровергнуты экспедицией в Южный океан, которую снаряжает наше правительство.
Пока же рискнем сделать несколько замечаний касательно одного места в повествовании, причем автору этих строк доставит неизъяснимое удовольствие, если то, что он имеет сказать, хоть в малейшей степени поможет завоевать доверие читателя к опубликованным страницам, представляющим исключительный интерес. Мы имеем в виду рассказ о галереях на острове Тсалал и рисунки на страницах 326—328.
Мистер Пим приводит чертежи шахт без каких-либо пояснений и о знаках, обнаруженных на стене восточной шахты, говорит, что они отдаленно напоминают буквы, то есть решительно заявляет, что они таковыми не являются. Это утверждение высказано столь убедительно и подтверждается фактами столь весомыми (например, то, что выступы найденных в пыли осколков точно соответствовали углублениям в стене), что мы вынуждены всерьез доверять автору и ни у одного здравомыслящего читателя не появится и тени сомнения на этот счет. Однако поскольку факты, относящиеся к чертежам, совершенно исключительны (особенно если их рассматривать в связи с определенными подробностями повествования), то нелишне сказать о них несколько слов, нелишне особенно потому, что упомянутые факты, бесспорно, ускользнули от внимания мистера По.
Если сложить вместе рисунки 1, 2, 3 и 5 в том порядке, в каком располагаются сами шахты, и исключить небольшие второстепенные ответвления и дуги (которые служили, как мы помним, только средством сообщения между основными камерами), то они образуют эфиопский глагольный корень,
то есть «быть темным»; отсюда происходят слова, означающие тьму или черноту.
Что касается левого или «самого северного знака» на рис. 4, то более чем вероятно, что Петерс был прав и что он действительно высечен человеком и изображает человеческую фигуру. Чертеж перед читателем, и он сам может судить о степени сходства, зато остальные углубления решительно подтверждают предположение Петерса. Верхний ряд знаков, вероятно, представляет собой арабский глагольный корень
то есть «быть белым», и отсюда все слова, означающие яркость и белизну. Нижний ряд не столь очевиден. Линии стерлись, края их пообломались, и все же нет сомнения, что в первоначальном состоянии они образовывали древнеегипетское слово
— «область юга». Следует заметить, что это толкование подтверждает мнение Петерса относительно «самого северного» знака. Рука человека вытянута к югу.
Эти предварительные выводы открывают широкое поле для размышлений и увлекательных догадок. Их можно, видимо, строить в связи с некоторыми наиболее обстоятельно изложенными деталями повествования, хотя на первый взгляд они отнюдь не являют некой единой цепи. «Текели-ли!» — кричали перепуганные дикари при виде чучела белого животного, подобранного в море. Таков же был испуганный вопль пленного островитянина, когда мистер Пим вытащил из кармана белый платок. Так же кричали огромные белые птицы, стремительно несущиеся из парообразной белой пелены на юге. Ни на острове Тсалал, ни во время последующего путешествия к полюсу не было обнаружено ничего белого. Не исключено, что скрупулезный лингвистический анализ вскроет связь между самим названием острова «Тсалал», и загадочными пропастями, и таинственными надписями на их стенах.
«Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы».
Предисловие
Через несколько месяцев по возвращении в Соединенные Штаты после ряда удивительных приключений в морях к югу от экватора, а также в иных местах, рассказ о которых приведен на этих страницах, в Ричмонде случай свел меня с несколькими джентльменами, которые, весьма интересуясь всем, связанным с местами, в которых мне довелось побывать, начали убеждать меня опубликовать мой рассказ. Однако у меня имелось несколько причин не делать этого, как частного характера и не касающихся никого, кроме меня самого, так и не совсем частного. Одним из соображений, удерживавших меня от этого, было то, что, поскольку большую часть времени, проведенного в странствиях, журнала я не вел, меня одолевал страх, что я не смогу, полагаясь лишь на память, описать события достаточно подробно и связно, чтобы они были похожи на правду, не считая разве что естественных и неизбежных преувеличений, к которым склонны все мы при описании событий, поразивших наше воображение. Еще одной причиной явилось то, что события, о которых предстояло рассказывать, носили столь невероятный характер, что я, не имея свидетелей (кроме меня самого и еще лишь одного человека, да и тот индеец-полукровка), мог лишь надеяться на доверие со стороны родственников и тех моих друзей, которые знали меня всю жизнь и не имели оснований сомневаться в моей правдивости, тогда как широкая публика, вероятнее всего, сочла бы мою историю бесстыдной и изобретательной выдумкой. Тем не менее неверие в собственные писательские силы было одной из основных причин, удержавших меня от того, чтобы выполнить просьбу моих советников.
Среди тех джентльменов из Виргинии, которые особенно заинтересовались моим рассказом, и в особенности той его частью, которая имела касательство к Антарктическому океану, был мистер По, незадолго до того ставший редактором «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом У. Уайтом в Ричмонде. Он настоятельно рекомендовал мне среди прочего не медля составить полный отчет о том, что я увидел и пережил, и довериться проницательности и здравомыслию читающей публики, весьма авторитетно при этом убеждая меня, что, каким бы несовершенным с точки зрения стиля ни получилось мое сочинение, именно благодаря недочетам, ежели такие будут, оно будет скорее воспринято как правдивое.
Несмотря на это утверждение, я не решился сделать то, о чем он просил. Позже, поняв, что я в этом вопросе непоколебим, он попросил меня разрешить ему самому написать, как он выразился, «повествование» о ранней части моих приключений на основании фактов, предоставленных мною, и опубликовать его в «Вестнике» под видом художественного произведения. На это, не найдя возражений, я согласился, с тем лишь условием, что мое истинное имя должно остаться в тайне. Две написанные им части вышли в январском и февральском номерах «Вестника» (1837), и для того, чтобы достичь еще большего сходства с художественным произведением, в содержании журнала было указано имя мистера По.
То, как была воспринята эта уловка, побудило меня наконец предпринять систематическую публикацию данных приключений, ибо я обнаружил, что, несмотря на сказочный флер, столь искусно наброшенный на ту часть рассказа, которая появилась в «Вестнике» (где тем не менее не был искажен ни один факт), читатель вовсе не был склонен воспринимать его как вымысел, и на адрес мистера По даже пришло несколько писем, в которых выражалась твердая уверенность в обратном. Исходя из этого, я пришел к выводу, что факты моего повествования по природе своей содержат достаточно свидетельств их подлинности, и, следовательно, мне нечего бояться всеобщего недоверия.
После этого exposе́ сразу становится понятно, какая часть нижеизложенного принадлежит моему перу. Необходимо также еще раз напомнить, что на тех нескольких страницах, которые были написаны мистером По, ни один факт не был перевран. Даже для тех читателей, которым не попадался на глаза «Вестник», нет необходимости указывать, где заканчивается его часть и начинается моя; разницу в стиле письма невозможно не заметить.
1
Меня зовут Артур Гордон Пим. Мой отец был уважаемым торговцем морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Мой дед по материнской линии был стряпчим и имел неплохую практику. Удача сопутствовала ему во всем, и он весьма успешно вложился в акции Эдгартонского Нового банка, как он прежде назывался. Этим и другими способами он сумел собрать приличную сумму. Думаю, ко мне он был привязан более, чем к любому другому человеку в этом мире, и я ожидал, что после смерти деда мне отойдет бо́льшая часть его имущества. В шесть лет он отправил меня в школу старого мистера Рикетса, джентльмена с одной рукой и эксцентричными манерами. Любому, кто бывал в Нью-Бедфорде, он хорошо известен. В школе я оставался, пока мне не исполнилось шестнадцать, а после поступил в школу Э. Рональда, что на холме. Там я сошелся с сыном мистера Барнарда, капитана, плававшего на судах Ллойда и Вреденберга. Мистер Барнард тоже хорошо известен в Нью-Бедфорде и, не сомневаюсь, имеет много родственников в Эдгартоне. Его сына звали Август, и был он почти на два года старше меня. Однажды он плавал с отцом на китобойном судне «Джон Дональдсон» и часто рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Не раз я ходил к нему домой и оставался там на весь день, а то и ночь. Мы ложились в кровать, и он почти до зари занимал меня рассказами об аборигенах острова Тиниан и других мест, в которых он побывал за время своих путешествий. Я не мог не увлечься его рассказами, и со временем моим самым большим желанием стало пойти в плавание. Примерно за семьдесят пять долларов я купил парусную лодку, которая называлась «Ариэль», с небольшой каютой, оснащенную как шлюп. Я забыл ее грузоподъемность, но человек десять могли разместиться в ней довольно свободно. Со временем у нас вошло в привычку устраивать на ней отчаяннейшие безрассудства, и теперь, вспоминая о них, мне представляется величайшим чудом то, что я до сих пор жив.
Об одном из таких приключений я расскажу, прежде чем приступить к более пространному и важному повествованию. Однажды мистер Барнард устроил у себя дома вечеринку, и под конец мы с Августом порядком захмелели. Как обычно бывало в таких случаях, я не пошел домой, а остался у него ночевать. Так и не заговорив на свою любимую тему, он, как показалось мне, заснул (вечеринка закончилась около часу ночи). Спустя примерно полчаса, когда я только начал дремать, он вдруг сел и, выкрикнув ужасное ругательство, сказал, что никакой Артур Пим не заставит его заснуть, когда с юго-запада дует такой восхитительный бриз. Удивлению моему не было предела. Не зная, что он задумал, я решил, что выпитое вино и другие напитки несколько повредили его разум. Однако говорил он очень рассудительно и заявил, что, несмотря на то что я считаю его пьяным, на самом деле он совершенно трезв и ему просто надоело в такую чудесную ночь валяться в кровати, подобно ленивому псу, и что он собирается одеться и совершить вылазку на лодке. Не знаю, что на меня нашло, но, услышав это, я пришел в восторг, предвкушая невероятное удовольствие. Его безумная затея показалась мне едва ли не самой занятной и благоразумной на свете. В ту ночь дул сильный, почти штормовой ветер и было очень холодно — дело было в конце октября. Я вскочил с кровати, охваченный странным возбуждением, и сказал, что так же отважен, как он, и мне не меньше, чем ему, надоело валяться в кровати, как ленивому псу, и что я готов к веселью и проказам, как и Август Барнард из Нантакета.
Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старого гнилого причала рядом со складом пиломатериалов «Пэнки и Ко», упираясь боком в бревна. Август забрался в нее и начал вычерпывать воду — лодка была наполовину затоплена. Когда с этим было покончено, мы, подняв стаксель и грот, храбро вышли в море.
Как я уже сказал, с юго-запада дул сильный ветер. Ночь была ясная и холодная. Август стал у руля, а я расположился у мачты на палубе. Мы неслись с огромной скоростью, и никто не произнес ни слова после того, как мы отчалили. Я спросил своего спутника, какой курс он собирается взять и когда мы вернемся домой. Несколько минут он насвистывал, а потом с раздражением произнес:
— Я иду в море, а ты, если хочешь, можешь возвращаться.
Посмотрев на него, я понял, что, несмотря на кажущееся безразличие, он чрезвычайно возбужден. В лунном свете лицо его казалось бледнее мрамора, руки дрожали так, что он с трудом удерживал румпель. Я понял, что случилось что-то непредвиденное, и меня охватило сильнейшее волнение. В то время я мало что знал об управлении лодкой и поэтому вынужден был полагаться исключительно на навигационные способности моего друга. Ветер внезапно усилился, и мы стремительно отдалялись от берега, но мне было стыдно признаться в своих страхах и почти полчаса я упорно хранил молчание. Но потом я не выдержал и сказал Августу, что нам стоит вернуться. Как и в прошлый раз, прошла почти минута, прежде чем он ответил мне.
— Скоро, — наконец сказал он. — Время еще есть… Скоро повернем.
Подобного ответа я ожидал, но что-то в его тоне заставило меня похолодеть от ужаса. Я внимательно посмотрел на спутника. Губы его посерели, а колени дрожали так сильно, что он, казалось, едва держался на ногах.
— Господи боже, Август! — закричал я, уже не скрывая страха. — Что с тобой? Что случилось? Что ты собираешься делать?
— Случилось? — пробормотал он с величайшим изумлением, отпустив румпель, и вдруг повалился на дно лодки. — Случилось… Ничего не… случилось… плывем домой… р-разве н-не видишь?
Тут меня осенило. Я бросился к другу и поднял его. Он был пьян, мертвецки пьян, пьян так, что уже не мог ни стоять, ни говорить, ни смотреть. Глаза его совершенно остекленели, а когда я, охваченный отчаянием, отпустил его, он упал и, как бревно, скатился в воду на дне лодки. Я понял, что в тот вечер он выпил гораздо больше, чем я думал, и его поведение объяснялось крайней степенью опьянения, состояния, которое, как и безумие, часто заставляет жертву имитировать поведение совершенно нормального, владеющего собой человека. Однако прохладный ночной воздух сделал свое дело, возбуждение начало спадать, и то, что Август, несомненно, не осознавал всю опасность нашего положения, приблизило катастрофу. Он перестал что-либо понимать, и надежды на то, что он протрезвеет в ближайшее время, не было.
Вряд ли можно описать ужас, охвативший меня. Хмель улетучился, отчего я вдвойне оробел и растерялся. Я прекрасно понимал, что не справлюсь с лодкой и что яростный ветер вместе с отливом неотвратимо влекут нас навстречу смерти. Буря набирала силу. У нас не было ни компаса, ни еды, и стало понятно, что, продолжай мы идти тем же курсом, к рассвету земли уже не будет видно. Эти мысли и масса других, не менее пугающих, пронеслись у меня в голове с удивительной быстротой и на какое-то время совершенно парализовали волю. Лодка с чудовищной скоростью, то и дело зарываясь носом в пену, мчалась по волнам, ни на стакселе, ни на гроте рифы не были взяты. Каким-то чудом вышло так, что мы не повернулись к волнам боком, ведь, как я уже сказал, Август отпустил руль, а я от волнения не подумал его взять. К счастью, лодка шла ровно, и ко мне постепенно начала возвращаться способность мыслить. Но ветер становился все сильнее, и каждый раз, когда лодка, нырнув носом, поднималась, волны захлестывали корму. Я окоченел так, что почти перестал чувствовать собственное тело. Наконец отчаяние придало мне решимости, я бросился к гроту и сорвал его. Как и следовало ожидать, парус перелетел через борт и, набравшись воды, сорвал мачту, едва не разбив борт. Одно это происшествие спасло лодку от мгновенного разрушения. Теперь лодка под одним стакселем летела вперед по ветру, время от времени погружаясь носом в бушующие волны, но ужаса перед немедленной смертью я уже не испытывал. Взяв руль, я вздохнул свободнее, поскольку сообразил, что шанс на спасение еще есть. Бесчувственный Август, лежавший на дне лодки, мог в любую минуту захлебнуться, потому что воды уже собралось на фут. Я исхитрился приподнять товарища и придать ему сидячее положение, для чего обвязал его вокруг талии веревкой, конец которой прикрепил к рым-болту на палубе. Сделав все, что было в моих силах, я, замерзший и дрожащий от волнения, отдался на милость Божью и решил встретить судьбу, собрав все свое мужество.
Вдруг громкий, протяжный не то крик, не то вопль, как будто исторгнувшийся из глоток тысячи демонов, казалось, заполнил воздух вокруг лодки. Пока я жив, не забуду ужаса, охватившего меня в тот миг. Волосы встали дыбом у меня на голове, кровь застыла в жилах, а сердце остановилось. Так и не подняв взгляда, чтобы определить источник звука, я повалился ничком на безжизненно лежащего товарища.
Очнулся я в каюте большого китобойного судна «Пингвин», шедшего в Нантакет. Надо мной стояли несколько человек. Август, бледный как смерть, усердно растирал мне руки. Увидев, что я открыл глаза, он вздохнул с таким облегчением и радостью, что вызвал смех и слезы у грубоватых с виду мужчин. Загадка нашего спасения вскоре объяснилась. Мы столкнулись с китобойным судном, шедшим под всеми парусами, которые они отважились поднять, в Нантакет под прямым углом к нашему курсу. Несколько человек следили за морем, но ни один из них не замечал нашей лодки до последнего, когда избежать столкновения было уже невозможно. Это их крики так испугали меня. Мне рассказали, что громадное судно переехало нас, как наше суденышко переехало бы перышко, даже не почувствовав помехи. Ни единого возгласа не донеслось с нашей палубы, лишь какой-то слабый скрежещущий звук примешался к реву ветра и моря, когда подмятый хрупкий парусник протащило вдоль киля его погубителя. Посчитав нашу лодку (которая, напомню, лишилась мачты) какой-то старой брошенной посудиной, капитан китобойного судна (капитан Э. Т. В. Блок из Нью-Лондона), особо не задумываясь о случившемся, решил продолжать движение по курсу. К счастью, двое вахтенных, готовых поклясться, что видели кого-то у руля, предположили, что его еще можно спасти. В разгоревшемся споре Блок рассвирепел и заявил, что «не обязан следить за каждой скорлупкой, болтающейся в море», что «корабль не станет из-за такой ерунды останавливаться» и что «если там и был кто, он сам виноват, и никто больше, так что пусть идет на дно, и дело с концом» или что-то в этом духе. Хендерсон, первый помощник, который тоже подключился к разговору, был возмущен, как и весь экипаж, подобными речами, выдающими всю степень бессердечия и жестокости капитана. Чувствуя поддержку матросов, он прямо сказал капитану, что его стоило бы вздернуть на рее и что он отказывается выполнять его команды, пусть даже его отправят на виселицу, как только он сойдет на берег. После этого он направился на корму, оттолкнув побледневшего, но хранившего молчание капитана, и, схватив штурвал, твердо скомандовал: «К повороту!» Матросы разбежались по местам, и судно сделало крутой поворот. Все это заняло не более пяти минут, и казалось вряд ли возможным, что человек или люди с лодки могли выжить, если допустить, что там вообще кто-нибудь был. Однако, как видит читатель, я и Август остались живы, и почти невероятное спасение наше стало возможным благодаря счастливому стечению обстоятельств, которое люди мудрые и благочестивые приписывают особому вмешательству Провидения.
Пока судно продолжало разворот, старший помощник приказал опустить шлюпку и спрыгнул в нее с теми самыми двумя вахтенными, я думаю, которые утверждали, что видели меня у штурвала. Едва они отплыли от кормы — луна по-прежнему светила ярко, — судно сильно накренило по ветру, и в тот же миг Хендерсон, привстав с банки, закричал гребцам, чтобы те табанили. Он ничего не объяснил, только повторял нетерпеливо: «Табань! Табань!» Матросы принялись изо всех сил грести в обратную сторону, но к этому времени судно уже успело развернуться и на полной скорости двинулось вперед, хотя все матросы прикладывали огромные усилия, чтобы убрать паруса. Как только шлюпка приблизилась к кораблю, старший помощник, не думая об опасности, ухватился за вант-путенсы[46]. Тут судно опять сильно накренилось, обнажив правый борт почти до киля, и причина волнения первого помощника стала понятна. На гладком блестящем днище («Пингвин» был обшит медными листами, скрепленными медными болтами) каким-то невероятным образом держалось человеческое тело, с силой бившееся об него при каждом движении корпуса. После нескольких безуспешных попыток, предпринятых во время наклонов судна, едва не потопив шлюпку, они в конце концов подняли меня на борт, ибо это был именно я. Похоже, что какой-то сдвинувшийся и вышедший из медной обшивки крепежный болт задержал меня, когда я оказался под кораблем, и закрепил в совершенно невообразимой позе на днище. Конец болта пробил воротник моей зеленой суконной куртки и вышел через заднюю часть шеи между двумя сухожилиями под правым ухом. Меня сразу уложили на койку, хотя признаков жизни я не подавал. Хирурга на борту не было, но капитан принялся обхаживать меня с величайшим вниманием, думаю, для того, чтобы искупить вину в глазах команды за свое поведение.
Тем временем Хендерсон снова покинул корабль, хотя ветер уже превратился в настоящий ураган. Через несколько минут он наткнулся на обломки нашей лодки, а вскоре после этого один из его людей сказал, что сквозь рев бури слышал прерывистые крики о помощи. Это заставило отважных моряков продолжать поиски еще более получаса, несмотря на то что капитан Блок все время подавал им сигналы вернуться, а каждое мгновение, проведенное на воде в столь хрупкой шлюпке, грозило им неотвратимой гибелью. Действительно непонятно, как такое маленькое суденышко вообще сумело удержаться на плаву. Впрочем, шлюпка эта предназначалась для нужд китобоев, и поэтому, как я потом узнал, была оснащена воздушными ящиками, как некоторые спасательные шлюпки, которыми пользуются у берегов Уэльса.
После бесплодных поисков, продолжавшихся указанное время, было решено возвращаться на корабль. И едва они собрались это сделать, со стороны быстро проплывавшего мимо темного объекта послышался слабый крик. Они бросились за ним и вскоре догнали. Выяснилось, что это палуба, служившая крышей каюты на «Ариэле». Август явно из последних сил барахтался в воде рядом с ней. Когда его поймали, оказалось, что он привязан веревкой к куску дерева. Напомню, что я сам обвязал его этой веревкой и закрепил на рым-болте, чтобы придать ему сидячее положение, чем, судя по всему, спас жизнь своему товарищу. «Ариэль» была легкой лодкой, сработанной не особенно добротно, и потому, оказавшись под водой, естественно, развалилась на куски. Настил палубы, как и следовало ожидать, сорвало хлынувшей внутрь водой, и тот, несомненно, с другими обломками всплыл на поверхность вместе с привязанным к нему Августом, который благодаря этому избежал страшной смерти.
Прошло больше часа после того, как Августа подняли на борт «Пингвина», прежде чем он очнулся. Услышав, что случилось с нашей лодкой, он пришел в страшное волнение и рассказал об ощущениях, которые испытал в воде. Придя в сознание, он понял, что, кружась с невообразимой скоростью, уходит под воду, а веревка крепко обмотана три-четыре раза вокруг его шеи. В следующую секунду он почувствовал, что его стремительно потащило вверх, но сильно ударился головой обо что-то твердое и снова лишился чувств. Очнувшись, соображал он уже лучше, хотя сознание его все еще было затуманено, а мысли путались. Теперь Август понимал, что произошел несчастный случай и что он оказался в воде, хотя рот его находился над поверхностью воды, что давало ему возможность свободно дышать. Вероятно, именно тогда оказавшаяся рядом палуба увлекла его за собой. Конечно, пока он мог удерживаться в таком положении, утонуть ему было почти невозможно. Через какое-то время огромная волна зашвырнула его на палубу, и, уцепившись за нее, он стал звать на помощь. Перед тем как его нашел мистер Хендерсон, из-за полного истощения сил он перестал держаться, упал в воду и приготовился к смерти. За все время борьбы он ни разу не вспомнил ни про «Ариэль», ни про обстоятельства, приведшие к этому бедствию. Его умом безраздельно завладели отчаяние и страх. Когда беднягу наконец вытащили из воды, силы покинули его окончательно, и, как уже было сказано, прошло не меньше часа, прежде чем он осознал, в каком положении находится. Меня же вырвали из состояния, очень близкого к смерти (и после того, как в течение трех с половиной часов были перепробованы все другие способы), энергичным растиранием кусками материи, смоченной в горячем масле, — способом, предложенным Августом. Рана у меня на шее, хоть и имела уродливый вид, оказалась несерьезной, и я вскоре полностью оправился от ее последствий.
«Пингвин» прибыл к порту назначения около девяти часов утра после встречи с одним из самых яростных штормов, когда-либо бушевавших у Нантакета. Мы с Августом успели вернуться в дом мистера Барнарда к завтраку, который, к счастью, начался чуть позже из-за ночной гулянки. Я думаю, все за столом были сами слишком утомлены, чтобы обратить внимание на наш изможденный вид. Конечно, при других обстоятельствах это бросилось бы в глаза. Школьники способны творить чудеса, когда нужно кого-то провести, и я убежден: ни один из наших друзей в Нантакете даже не подозревал, что страшные рассказы моряков о том, как они в шторм налетели на какое-то судно и отправили на дно тридцать — сорок несчастных душ, имели отношение к «Ариэлю», Августу или ко мне. Мы с ним довольно часто вспоминали это происшествие, и всегда не без содрогания. Август честно признался, что в жизни не испытывал такого смятения, как на борту нашего суденышка, когда впервые осознал, насколько пьян, и почувствовал, что начинает терять контроль над собой.
2
По совершенно разным причинам мы не способны извлекать уроки даже из самых очевидных вещей. Казалось бы, катастрофа, о которой я только что рассказал, должна была охладить мою зарождающуюся страсть к морю, но тщетно. Еще никогда меня так не тянуло к полным опасностей приключениям, присущим жизни мореплавателя, чем в первую неделю после нашего чудесного спасения. Этого короткого промежутка времени оказалось достаточно, чтобы стереть из моей памяти темные краски и ярко высветить все восхитительные цветные пятна, всю живописность недавнего смертельно опасного приключения. Беседы с Августом день ото дня становились все более частыми и захватывающими. Его манера преподносить рассказы об океане (добрая половина которых, как я теперь подозреваю, была попросту выдумана) находила отклик в моей душе и несколько мрачном, хоть и живом воображении. Странно и то, что желание изведать морской жизни делалось особенно настойчивым, когда он приводил самые страшные примеры страданий и отчаяния. Светлая сторона общей картины мало меня занимала. Я рисовал себе кораблекрушения и голод; смерть и неволю среди варварских племен; жизнь, проведенную в горе и слезах на какой-нибудь одинокой скале посреди океана, труднодоступной и не нанесенной на карты. Впоследствии меня уверяли, что подобные видения или желания — ибо они превращаются в таковые — обычное дело для всей многочисленной расы меланхоличных людей, но в то время, о котором идет речь, я воспринимал их как первые знаки уготованной мне судьбы. Август проникся моим настроением, и вполне вероятно, что наше тесное общение и общность взглядов привели к тому, что ему передалось что-то от моего характера, а мне — от его.
Примерно через полтора года после крушения «Ариэля» фирма Ллойда и Вреденберга (заведение, насколько мне известно, каким-то образом связанное с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой и оснащением брига «Косатка» для охоты на китов. Это была старая посудина, едва ли годная для плавания, даже после того, как с ней сделали все, что было возможно. Я не знаю, почему ее предпочли другим хорошим судам, имевшимся в распоряжении у тех же хозяев. Мистер Барнард был назначен капитаном, и Август собирался плыть с ним. Пока бриг готовили к выходу в море, Август твердил, что появилась превосходная возможность удовлетворить мое желание отправиться в путешествие. Во мне он нашел весьма благодарного слушателя, однако устроить это было не так-то просто. Мой отец прямо не возражал, а вот у матери случилась истерика от одного упоминания о наших намерениях. Но хуже всего дед, на которого я возлагал такие надежды. Он поклялся, что оставит меня без гроша, если я об этом хотя бы заикнусь. Однако эти трудности не уменьшили мое желание отправиться в плавание, а лишь подлили масла в огонь. Я вознамерился добиться своего любой ценой, и, когда сообщил о своем решении Августу, мы вместе начали думать, как этого добиться. С родственниками о предстоящем плавании я не разговаривал, и, поскольку усердно занялся учебой, было решено, что я отступился от своих планов. Я много думал о том, как вел себя тогда, и поведение мое вызывало у меня чувство неудовольствия и удивления. Грандиозная ложь, к которой я прибег для осуществления своего прожекта — ложь, которой были исполнены каждое мое слово, каждый поступок, — может быть хоть как-то оправдана лишь безумными надеждами, какие я возлагал на исполнение давно лелеемой мечты о путешествиях.
Мне во многом приходилось полагаться на Августа, который каждый день с утра до вечера пропадал на «Косатке», помогая отцу обустроить каюту. Однако по ночам мы обсуждали наши планы. После почти месяца безуспешных попыток все организовать он наконец сообщил мне, что все продумал. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, некто мистер Росс, в доме которого я, бывало, гостил по две-три недели. Бриг должен был выйти в плавание в середине июня (июня 1827 года), и было решено, что за день-два до того мой отец должен будет получить записку от мистера Росса с просьбой разрешить мне поехать к нему и провести две недели с Робертом и Эмметом (его сыновьями). Сочинить и доставить записку моему отцу взялся Август. Я должен был, сделав вид, что ему нужно в Нью-Бедфорд, присоединиться к своему товарищу, который приготовит для меня тайник на «Косатке». Тайник этот, уверял он меня, будет достаточно удобен, чтобы провести в нем несколько дней. Когда бриг отойдет от берега так далеко, что уже не станет возвращаться без крайней необходимости, я переберусь в удобную каюту, а что до его отца, так тот только посмеется над такой шуткой. В море нам наверняка встретится какое-нибудь судно, с которым можно будет послать моим родителям письмо с объяснениями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Своё Повествование Артур Гордон Пим начинает со времени знакомства с Августом, сыном капитана Барнарда. С этим юношей он сдружился в старших классах школы города Нантакета. Август уже ходил с отцом за китами в южную часть Тихого океана и много рассказывал другу о морских приключениях, разжигая его желание самому пуститься в море. Им было около восемнадцати, когда капитан Барнард в очередной раз готовился к отплытию в южные моря, собираясь взять с собой сына. Приятели разрабатывают план, согласно которому Артур должен проникнуть на «Дельфин» и только через несколько дней, когда повернуть назад будет уже невозможно, предстать перед капитаном.
Август готовит другу тайное убежище в трюме, заранее доставив туда еду, воду, матрас и фонарь со свечой. Удобно расположившись в пустом ящике, Артур проводит в убежище три дня и три ночи, лишь изредка выбираясь из ящика, чтобы размять мускулы. Друг его все не показывается, и поначалу это не пугает Артура. Однако от спёртого воздуха, который час от часу становится хуже, он впадает в полубессознательное состояние, потеряв счёт времени. Еда и вода подходят к концу. Свечу он теряет. Артур подозревает, что прошло уже несколько недель.
Наконец, когда юноша уже мысленно простился с жизнью, появляется Август. Оказывается, на корабле за это время произошли страшные события. Часть экипажа во главе с помощником капитана и чернокожим коком подняла бунт. Законопослушных моряков, в том числе капитана Барнарда, уничтожили — убили и побросали за борт. Августу удалось уцелеть из-за симпатии к нему лотового Дирка Петерса — теперь юноша при нем вроде слуги. С трудом улучив момент, он спустился к другу, захватив немного еды и питья и почти не надеясь застать того в живых. Пообещав наведываться при всяком удобном случае. Август вновь торопится на палубу, боясь, что его могут хватиться.
Тем временем в лагере бунтовщиков зреет раскол. Часть мятежников во главе с помощником капитана намерена пиратствовать, остальные — к ним примыкает и Петерс — предпочли бы обойтись без открытого разбоя. Постепенно идея пиратства привлекает все большее число моряков, и Петерсу становится на корабле неуютно. Тогда-то Август и рассказывает ему о спрятанном в трюме друге, на которого можно рассчитывать. Втроём они решают захватить корабль, сыграв на предрассудках и нечистой совести бунтовщиков. Пользуясь тем, что никто из матросов не знает в лицо Артура, Петере гримирует юношу под одну из жертв, и когда тот появляется в кают-компании, бунтовщиков охватывает ужас. Операция по захвату судна проходит отлично — теперь на корабле только они трое и примкнувший к ним матрос Паркер.
Однако на этом их злоключения не кончаются. Поднимается страшный шторм. Никого не смывает за борт — они хорошенько привязали себя к брашпилю, но на разбитом судне не остаётся ни еды, ни питья. Кроме того, Август тяжело ранен.
После многодневной непогоды устанавливается штиль. Измученные, голодные люди пребывают в оцепенении, молча ожидая гибели. Паркер неожиданно заявляет, что один из них должен умереть, чтобы другие могли жить. Артур в ужасе, но остальные поддерживают матроса, и юноше остаётся только согласиться с большинством. Бросают жребий — короткую щепочку вытягивает Паркер. Он не оказывает сопротивления и после удара ножом падает на палубу мёртвым. Ненавидя себя за слабость, Артур присоединяется к кровавому пиршеству, Через несколько дней умирает Август, а вскоре после этого Артура и Петерса подбирает английская шхуна «Джейн Гай».
Шхуна направляется на тюлений промысел в южные моря, капитан также надеется на выгодные торговые операции с туземцами, и потому на борту судна большой запас бус, зеркал, огнив, топоров, гвоздей, посуды, иголок, ситца и прочих товаров. Капитану не чужды и исследовательские цели: он хочет как можно дальше пройти на юг, чтобы убедиться в существовании Антарктического материка. Артур и Петерс, которых окружили на шхуне заботой, быстро оправляются от последствий недавних лишений.
После нескольких недель плавания среди дрейфующих льдов вперёдсмотрящий замечает землю — это остров, являющийся частью неизвестного архипелага. Когда со шхуны бросают якорь, с острова одновременно отчаливают каноэ с туземцами. Дикари производят на моряков самое выгодное впечатление — они кажутся очень миролюбивыми и охотно меняют провизию на стеклянные бусы и простую хозяйственную утварь. Одно странно — туземцы явно боятся белых предметов и потому никак не хотят приближаться к парусам или, например, к миске с мукой. Вид белой кожи явно внушает им отвращение. Видя миролюбие дикарей, капитан решает устроить на острове зимовку — в случае, если льды задержат дальнейшее продвижение шхуны на юг.
Вождь туземцев приглашает моряков спуститься на берег и посетить деревню. Хорошенько вооружившись и дав приказ никого в его отсутствие не пускать на шхуну, капитан с отрядом из двенадцати человек, куда вошёл и Артур, высаживается на остров. Увиденное там повергает моряков в изумление: ни деревья, ни скалы, ни далее вода не похожи на то, что они привыкли видеть. Особенно поражает их вода — бесцветная, она переливается всеми цветами пурпура, как шёлк, расслаиваясь на множество струящихся прожилок.
Первый поход в деревню проходит благополучно, чего нельзя сказать про следующий — когда меры предосторожности соблюдаются уже не так тщательно. Стоило морякам войти в узкое ущелье, как нависшие породы, которые заранее подкопали туземцы, обрушиваются, погребая под собой весь отряд. Спастись удаётся лишь Артуру с Петерсом, которые отстали, собирая орехи. Оказавшись с краю, они выбираются из завала и видят, что равнина буквально кишит дикарями, готовящимися к захвату шхуны. Не имея возможности предупредить товарищей, Артур и Петере вынуждены с горестью смотреть, как туземцы одерживают верх, — уже через пять минут после начала осады красавица шхуна являет жалкое зрелище. Некоторое замешательство среди дикарей вызывает чучело неизвестного животного с белой шкурой, выловленное матросами в море неподалёку от острова, — капитан хотел привезти его в Англию. Туземцы выносят чучело на берег, окружают частоколом и оглушительно кричат: «Текели-ли!»
Прячась на острове, Артур и Петерс натыкаются на каменные колодцы, ведущие в шахты странной формы — чертежи очертаний шахт Артур Пим приводит в своей рукописи. Но эти галереи никуда не ведут, и моряки теряют к ним интерес. Через несколько дней Артуру и Петерсу удаётся похитить пирогу дикарей и благополучно ускользнуть от преследователей, захватив с собой пленника. От него моряки узнают, что архипелаг состоит из восьми островов, что чёрные шкуры, из которых делается одежда воинов, принадлежат каким-то огромным животным, которые водятся на острове. Когда к самодельным мачтам прикрепляют парус из белых рубашек, пленник наотрез отказывается помогать — белая материя вселяет в него невероятный страх. Дрожа, он вопит: «Текели-ли!»
Течение несёт пирогу к югу — вода неожиданно теплеет, напоминая цветом молоко. Пленник волнуется и впадает в беспамятство. Над горизонтом растёт полоса белых паров, море иногда бурлит, и тогда над этим местом появляется странное свечение, а с неба сыплется белый пепел. Вода становится почти горячей. На горизонте все чаще слышатся крики птиц: «Текели-ли!» Пирога мчится в обволакивающую мир белизну, и тут на её пути вырастает огромная человеческая фигура в саване. И кожа её белее белого…
На этом месте рукопись обрывается. Как сообщает издатель в послесловии, это связано с внезапной кончиной мистера Пима.
Пересказала В. И. Бернацкая.
Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература XIX века / Ред. и сост. В. И. Новиков. — М. : Олимп : ACT, 1996. — 848 с.